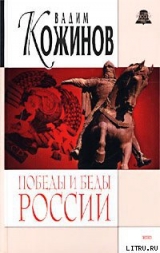
Текст книги "Победы и беды России"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
И этот нелегкий смысл всюду просвечивает в «Семейной хронике» – особенно на страницах, посвященных самому Степану Багрову, способному проявить сокрушительный гнев и даже прямую жестокость, – хотя, конечно, по своей человеческой сути не имеющему ничего общего с Куролесовым.
Но вспомним еще раз самую первую фразу «Семейной хроники»: «Тесно стало моему дедушке жить в Симбирской губернии, в родовой отчине своей, жалованной предкам его от царей Московских…»
Да, тесно в родовой отчине да еще и на приволжском просторе… – и Степан Багров уходит почти на полтыщи верст за Волгу. В определенном смысле всем основным героям как будто «тесно». Явно тесно Каратаеву в родном русском быту – и он вживается в кочевой башкирский. Тесно и «деревенскому» по воспитанию и «образованию» (именно в кавычках) Алексею Багрову – и он, «рубя дерево не по себе», с муками добивается руки высокопросвещенной (по тем временам) и «светской» дочери товарища (то есть заместителя) уфимского наместника. Тесно под гостеприимным кровом ее двоюродного брата Степана Михайловича и совсем еще юной, четырнадцатилетней Прасковье (Надежде) – и она, обманув брата, венчается со страшным Куролесовым… Но, по-видимому, «тесно» в добропорядочной жизни и самому Куролесову…
Словом, как скажет у Достоевского Дмитрий Карамазов, «широк человек, слишком даже широк, я бы сузил…». «Широта» эта то и дело предстает в «Семейной хронике», где персонажей очень много и очерчены они выразительнейшими – хотя обычно немногими и скупыми – мазками.
Чего стоит, к примеру, Илларион Кальпинский, «умный и начитанный, вышедший из простолюдинов (говорили, что он из мордвы), дослужившийся до чина надворного советника и женившийся по расчету на дочери деревенского помещика и старинного дворянина… он предался хозяйству и жадно копил деньги». Но этого оказалось недостаточно… «Кальпинский имел претензию быть вольнодумцем и философом; его звали вольтерьянцем…» Высокий – особенно для вышедшего из низов – чин (надворный советник соответствовал подполковнику), поместье, богатство и – на тебе! – еще и «вольтерьянство». И не сузишь этого Кальпинского…
* * *
В «Семейной хронике» как бы содержатся семена или, точнее, завязи всей будущей русской прозы. И охарактеризовать это произведение в целом, в его многообразных сторонах и гранях – слишком объемная задача. Но нельзя в наши дни не коснуться одной проходящей через эту хронику темы – экологической.
Многим это, вероятно, покажется неожиданным: мы привыкли думать, что экологические проблемы возникли лишь в последние десятилетия. На самом деле в наше время эти проблемы оказались в центре внимания потому, что речь идет уже, как говорится, о жизни и смерти и человечества, и самой Земли, но наиболее чуткие люди еще и 150–200 лет назад осознавали драматический и – в будущем – роковой итог чисто потребительского отношения к природе. И С. Т. Аксаков был здесь одним из наиболее прозорливых:
Чудесный край, благословенный!
Хранилище земных богатств!..
…
И люди набегут толпами,
Твое приволье полюбя.
И не узнаешь ты себя
Под их нечистыми руками!
Помнут луга, порубят лес.
Взмутят в водах лазурь небес!
И горы соляных кристаллов
По тузлукам[60]60
Тузлук – соленый родник.
[Закрыть] твоим найдут,
И руды дорогих металлов
Из недр глубоких извлекут…
…
И в глубь лесов, и в даль степей
Разгонят дорогих зверей!
Строки эти были написаны Аксаковым в мае 1830 года и в 1831-м появились в журнале «Телескоп», но вошли они и в изданную через четверть века «Семейную хронику». Это лишний раз подтверждает, что главное аксаковское творение складывалось намного раньше его явления в виде книги.
Экологическая тема проходит через всю «Хронику» и подчас перерастает в горькое человеческое самоосуждение. Так, выясняется, что одной из причин переселения Багровых из Симбирской губернии к Уралу явилась безобразная эксплуатация природы:
«Из безводного и лесного села Троицкого, где было так мало лугов, что с трудом прокармливали по корове да по лошади на тягло, где с незапамятных времен пахали одни и те же загоны и, несмотря на превосходную почву, конечно, повыпахали и поистощали землю, – переселились они на обширные плодоносные поля и луга, никогда не тронутые ни косой, ни сохой человека, на быструю, свежую и здоровую воду с множеством родников и ключей, на широкий, проточный и рыбный пруд… Вы удивитесь, может быть, что я назвал Троицкое безводным? Обвините стариков, зачем они выбрали такое место? Но дело было не так вначале… Троицкое некогда сидело на прекрасной речке Майне, вытекающей версты за три до селения из-под Моховых озер… Но человек – заклятый и торжествующий изменитель лица природы!.. Моховые озера мало-помалу, от мочки коноплей у берегов и от пригона стад на водопой, позасорились, с краев обмелели и даже обсохли от вырубки кругом леса… речка Майна поникла вверху и уже выходит из земли несколько верст ниже селения… озеро превратилось в грязную вонючую лужу…»
И вот люди отсюда уходят на новые земли… «Боже мой, как, я думаю, была хороша тогда эта дикая, девственная, роскошная природа! – не без глубокой горечи восклицает Аксаков. – Нет, ты уж не та теперь, не та, какою даже и я зазнал тебя – свежею, цветущею, неизмятою отовсюду набежавшим разнородным народонаселением!»
Тема, которая сегодня должна более чем что-либо волновать и заботить любого из нас, предстает как драматический подтекст всего аксаковского повествования. И угадываешь – хотя это и не высказано прямо, – что сами противоречивые натуры героев «Хроники», переплетение в их характерах темного и светлого, уходят корнями в бездумное и вопиюще неблагодарное «пользование» природой.
Тема эта так глубоко и остро воплощена Аксаковым, что, пожалуй, лишь в литературе XX века мы найдем достойных его продолжателей. И здесь уместно напомнить о «богоданности» аксаковской прозы, о том, что его искусство как бы дано было ему свыше – и потому это даже и не искусство, а нечто выше искусства…
* * *
Наследие Сергея Тимофеевича Аксакова, конечно, не сводится к «Семейной хронике». Изумительна его книга, обращенная к юному читателю, но столь же плодотворная для зрелого – «Детские годы Багрова-внука». Собственно говоря, это прямое продолжение «Семейной хроники», – и все же перед нами вполне особенная книга, о которой надо говорить отдельно.
Уникальны аксаковские «Записки об уженье рыбы» и «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», хотя по-настоящему оценить их могут, вероятно, те, кто сам рыбачил и охотился. Наконец, нельзя представить себе историю отечественной культуры без оставленных нам Сергеем Тимофеевичем «Литературных и театральных воспоминаний» и «Истории моего знакомства с Гоголем» (к великому сожалению, незавершенной).
В заключение стоит коснуться того, что называется иерархией ценностей. До недавнего времени Аксакова считали в общем и целом писателем второстепенным или, точнее, даже третьестепенным. Любопытно, что в самый момент появления «Семейной хроники» она, напротив, была воспринята авторитетнейшими ценителями как высочайший образец прозы. Но вскоре началось бурное и плодоносное развитие русской прозы, и Аксаков был как бы заглушен и оттеснен целой плеядой получивших громкую известность писателей.
Однако теперь, по прошествии полутора столетий, становится все более ясным значение аксаковского творчества и прежде всего, конечно, «Семейной хроники», которая достойна стоять в «иерархии» сразу же вслед за творениями корифеев русской прозы – Гоголя и Достоевского, Толстого и Чехова или, может быть, даже в одном ряду с ними. А в самом конце жизни, в декабре 1858 года, Сергей Тимофеевич продиктовал явно давно сложившийся в его творческом сознании краткий – всего лишь трехстраничный – «Очерк зимнего дня» – о морозах дальнего 1813 года. Это поистине изумительное воплощение русской прозы, сопоставимое с любыми ее прекраснейшими страницами…
Глава третья
ПУШКИН И ЧААДАЕВ. К ИСТОРИИ РУССКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Понимание творчества Поэта в его взаимосвязи с творчеством крупнейшего мыслителя эпохи имеет, как представляется, первостепенное или даже, пожалуй, исключительное, уникальное значение для понимания духовного развития России в целом. Правда, неоценимое значение этой «темы» выявляется только при условии осознания истинного смысла чаадаевской историософии (то есть философии истории), действительного характера эпохи, которую мы склонны называть «Пушкинской», и, наконец, реальных отношений двух ее великих деятелей. А надо прямо сказать, что все это либо недостаточно изучено, либо толкуется заведомо неверно. Поэтому нам придется обращаться ко многим – иногда кажущимся, может быть, уводящим в сторону – идеям и фактам.
В своей заслуженно чтимой «пушкинской» речи «О назначении поэта» (1921 г.) Александр Блок говорил, что «жизнь Пушкина, склоняясь к закату, все больше наполнялась преградами, которые ставились на его пути. Слабел Пушкин – слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы».
Главный симптом «ослабления» культуры Блок видел в том, что «над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского… Во второй половине века то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку». Ранее поэт написал о влиятельнейшем критике России: «Пусть Белинский был велик и прозорлив во многом; но… он, может быть, больше, чем кто-нибудь, дал толчок к тому, чтобы русская интеллигенция покатилась вниз по лестнице своих российских западнических надрывов, больно колотясь головой о каждую ступеньку; а всего больше – о последнюю ступеньку, о русскую революцию 1917–1918 годов».
Верна и глубока мысль о том, что пушкинская пора – «единственная культурная эпоха». Это было время творения культуры, а начиная с «роковых» 1840-х годов культуру все в большей степени стремятся превратить в орудие идеологической борьбы (хотя, конечно же, истинное культурное творчество продолжалось), что объяснялось в конечном счете неотвратимым приближением революции. Ведь поток испытывает воздействие близящегося водопада задолго до того, как ему, потоку, предстоит низвергнуться в бездну, и то же самое можно сказать о движении, о развитии России за много десятилетий до 1917-го и даже 1905 года.
«Критика» Пушкина (и всей культуры его поры) во имя идеологии крайне возмущала Блока, и в одной из своих статей он назвал Белинского – ни много ни мало – «могильщиком» русской культуры в ее высшем значении. Но вполне уместно упрекнуть поэта в том, что, отвергая идеологический экстремизм критика (недаром получившего прозвание – впрочем, давно опошлившееся – «неистовый Виссарион»), сам он впал здесь в аналогичную экстрему.
Однако главное даже не в этом. Ведь именно Блок сказал так выразительно о «роковых сороковых годах», и, следовательно, винить надо не Белинского, а, как говорится, «эпоху»… К нашему времени атмосфера «роковых сороковых» изучена значительно полнее, чем при жизни Блока, и ясно, например, что идеологическая «критика» Пушкина характерна вовсе не только для Белинского и деятелей его круга.
Сопоставляя Пушкина с Гёте, Белинский утверждал, что русский поэт «велик там, где он просто воплощает… свои поэтические созерцания, но не там, где хочет быть мыслителем и решителем вопросов» – имелись в виду, понятно, самые существенные «вопросы», которые «решали» Гёте и другие крупнейшие поэты Запада. Но по сути дела точно такое же «принижение» Пушкина присуще (хотя этот факт не столь уж широко известен и поныне) идеологам противостоявшего Белинскому славянофильства. Так, соизмеряя Пушкина именно с тем же самым Гёте, Хомяков счел возможным утверждать, что русский поэт в отличие от германского «не развил в себе высших духовных стремлений», что их «недоставало» в его «душе, слишком непостоянной и слабой…».
Разумеется, Белинский и Хомяков исходили в своих «приговорах» Пушкину из совершенно разных оснований. Белинский полагал, что Пушкина фатально ограничивал, как он писал, «недостаток современного европейского образования» (хотя, конечно же, «европеизм» Пушкина был неизмеримо глубже и полнее, чем соответствующее «образование» самого Белинского), а Хомяков, напротив, усматривал в поэте прискорбную «недостаточность» русского национального духа.
Даже в творчестве Гёте, с которым они сопоставляли Пушкина, два идеолога выделяли существенно различные стороны. Для Белинского Гёте – один из «великих европейских поэтов», представитель имеющей всемирное значение цивилизации Запада (далеко-де превосходящей ограниченную узкими целями русскую), а для Хомякова – «высший представитель Германии», то есть полнокровный национальный поэт; в Пушкине же русский характер, по мнению Хомякова, «никогда не развивался вполне: он робко выглядывал из-под чужих форм не сознавая себя, иногда и стыдясь самого себя». Стоит упомянуть, что эти упреки Белинского (в недостатке европеизма) и Хомякова (в недостатке «русскости») были высказаны почти в одно время (первый – в 1844-м, второй – в 1845 году).
Более того: два противостоявших идеолога прямо и непосредственно «сталкивались» на Пушкине. Оценивая основанную на фольклорной образности пушкинскую балладу «Жених», Белинский писал, что «мир, так верно и ярко изображенный в ней… так тесен, мелок и немногословен, что истинный талант не долго будет воспроизводить его, если не захочет, чтоб его произведения были однообразны, скучны и, наконец, пошлы…». Вскоре Хомяков не без гнева отметил этот «презрительный отзыв… об русской сказке и песне: в нем утверждали, – писал он, – что Пушкин… исчерпал все богатство нашей народной поэзии». Между тем, решительно возражал Хомяков, Пушкин, а вслед за ним и Лермонтов «даже не поняли вполне ее (русской народной поэзии. – В. К.) неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка».
Итак, наследие Пушкина в сороковых годах равно «атаковали» с двух противоположных сторон, и в этом выражался поистине роковой раскол русской мысли.
Правда, и ранее, в 1810–1830-х годах, имело место подобное раздвоение, но, во-первых, в нем не было непримиримости (так, в русле единой декабристской идеологии без особых конфликтов уживались, по сути дела, «западническая» и «славянофильская» линии), а во-вторых, оно, это раздвоение, почти не затрагивало высшие явления культуры.
При жизни Пушкина ему не противостоял (если брать это слово в его точном значении) ни один из наиболее значительных деятелей русской культуры – таких, как Жуковский, Боратынский,[61]61
Как ни прискорбно, имя поэта нередко искажают. По случайным причинам (о коих трудно рассказать коротко) возникло ложное написание «Баратынский». Между тем в тщательно подготовленной поэтом последней его книге «Сумерки» он именовал себя Боратынским, а его задушевный друг поэт Николай Коншин позднее засвидетельствовал, что «Боратынский всегда употреблял о и горячо всегда отстаивал честь этого о». Тем не менее некоторые лишенные должной ответственности редакторы и авторы еще и сегодня позволяют себе повторять случайную графическую неточность
[Закрыть] Владимир Одоевский, Тютчев, Иван Киреевский, Кольцов, Гоголь и т. д.; все они, в частности, сотрудничали в пушкинском «Современнике». Имели место только отдельные предвестия будущего раскола – подчас, кстати сказать, весьма причудливые: в 1831 году Вяземский, например, с «западнических» позиций резко осудил стихотворения поэта «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина», однако позднее Петр Андреевич оказался близким как раз славянофилам…
В послепушкинское же время раскол так или иначе проявляется на всех уровнях культуры и к тому же достигает нередко крайней остроты. Правда, через четыре с лишним десятилетия Достоевский провозгласил, притом (что закономерно) именно в своей «пушкинской» речи: «О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение…», и тут же уточнил: «…хотя исторически и необходимое». По-видимому, Федор Михайлович полагал, что «необходимость» к 1880 году уже отпала; однако раскол, обозначившийся за восемь десятилетий до 1917 года, отнюдь не преодолен и поныне – через восемь десятилетий после революционного взрыва…
В речи Достоевского доказывалось, что в Пушкине еще не было «великого недоразумения», или, иначе говоря, раскола, – в чем, в частности, и выразилась его гениальность. Но, нисколько не умаляя пушкинский гений, следует все же сознавать, что речь должна идти и об общем характере самой породившей Поэта «единственной культурной эпохи».
Раскол, совершившийся в «роковых сороковых», нанес тяжкий ущерб всему духовному развитию России, – притом «великое недоразумение», которое столь наглядно выразилось в процитированных суждениях Белинского и Хомякова, в дальнейшем нарастало и обострялось. Ведь в конечном счете Белинский говорил лишь о том, что Пушкин не был западником (так сказать, «не дорос» до этого мировоззрения), а Хомяков – что поэт не стал славянофилом. И в данном случае оба идеолога, по сути дела, были совершенно правы…
Между тем позднее, по мере роста общенародного признания Пушкина, его упорно стремились представить в качестве заведомого западника, «европейца», или, напротив, – что, впрочем, бывало гораздо реже, ибо западническая идеология играла преобладающую роль, – превратить в славянофила.
Но поистине прискорбная участь постигла в условиях идеологического раскола творчество крупнейшего мыслителя пушкинской эпохи – Петра Яковлевича Чаадаева, который в общественном сознании был целиком и полностью превращен в «западника», даже в своего рода отца – основателя западничества. Правда, в этом в известной мере был повинен прежде всего сам мыслитель, опубликовавший в октябре 1836 года свое первое (из восьми) «философическое письмо», которое дало слишком много поводов для причисления его к «ненавистникам» России и безоговорочным поклонникам Запада.
Вскоре после появления в печати этого «письма», в конце 1836 года, Чаадаев, в сущности, выразил сожаление, что опубликовал, как он определил, «введение», чей истинный смысл должен был раскрыться «в труде, который остался неоконченным»; к тому же он так сказал об этой своей «вводной» статье: «Без сомнения, была нетерпеливость в ее выражениях, резкость в мыслях… было преувеличение в этом своеобразном обвинительном акте, предъявленном великому народу… преувеличением было опечалиться хотя бы на минуту за судьбу народа, из недр которого вышли могучая натура Петра Великого, всеобъемлющий ум Ломоносова и грациозный гений Пушкина».
Однако эти авторские «поправки» были опубликованы в России лишь в 1913 году, когда давно сложившееся представление о Чаадаеве уже, так сказать, закостенело и никто не хотел его существенно изменять. Тем более что еще в 1884 году появилось в печати пушкинское послание Чаадаеву от 19 октября 1836 года (которое поэт, правда, не отправил адресату), где оспаривался ряд положений того самого «введения» и вроде бы подтверждалось мнение о «западничестве» Петра Яковлевича. Между прочим, Пушкин в этом своем послании давал понять, что чаадаевское «введение» (с его, по определению самого мыслителя, «нетерпеливостью», «резкостью», «преувеличением») не следовало публиковать в таком виде («…мне досадно, – писал Пушкин, – что я не был подле вас, когда вы передали вашу рукопись журналистам»). Но о пушкинском послании еще пойдет речь; начать надо с вопроса о взаимоотношениях Пушкина и Чаадаева вообще, в целом.
Они познакомились в сентябре 1816 года и до ссылки поэта (май 1820) были в самом тесном общении. 9 апреля 1821 года, уже в Кишиневе, Пушкин, получив весточку от Чаадаева, писал о нем в своем дневнике: «Твоя дружба мне заменила счастье, одного тебя может любить холодная душа моя…» Один из близких приятелей Пушкина отметил, что в юности поэт «естественно делался… с Чаадаевым мыслителем». И философ XX века С. Л. Франк был, очевидно, прав, утверждая, что Чаадаев «пробудил в нем (юном Пушкине. – В. К.) строй мыслей более глубокий, чем ходячее умонастроение французского просветительства» (которое тогда господствовало).
В том же 1821 году поэт в посвященном Чаадаеву стихотворении так определял его роль в своем развитии: «Ты был целителем моих душевных сил… Твой жар воспламенял к высокому любовь… Ты всегда мудрец, а иногда мечтатель…», а беседы с Чаадаевым назвал «пророческими спорами».
Через десять лет, в продолжение которых поэт и мыслитель в силу различных причин общались весьма редко и мало, Чаадаев, отправив Пушкину свои шестое и седьмое «философические письма», сетовал (в послании от 17 мая 1831 года): «Это – несчастье, мой друг, что нам не пришлось в жизни сойтись ближе с вами (стоит напомнить, что друзья обращались на „вы“ только по-французски; по-русски они с первых лет знакомства были на „ты“, хотя Чаадаев был пятью годами старше. – В. К.). Я продолжаю думать, что нам суждено было идти вместе и что из этого воспоследовало бы нечто полезное для нас и для других».
Пушкин так отвечал Чаадаеву (6 июля 1831 года): «…Мы продолжим наши беседы, начатые в свое время (в 1816 году. – В. К.) в Царском Селе и так часто с тех пор прерывавшиеся». О присланных Чаадаевым «философических письмах» Пушкин писал здесь же: «…изумительно по силе, истинности или красноречию… Все, что является портретом или картиной, сделано широко, блестяще, величественно» (то есть поэту более по душе чаадаевские «образы», а не силлогизмы). Вместе с тем Пушкин отметил: «…я не всегда могу согласиться с вами».
Через пять лет в своем неотправленном письме Чаадаеву поэт высказал целый ряд «несогласий» с опубликованным первым «письмом» мыслителя. И это впоследствии побудило многих комментаторов достаточно резко противопоставлять поэта и мыслителя. Так, один из первых биографов Пушкина, близкий славянофилам П. И. Бартенев, публикуя полемическое послание поэта к Чаадаеву, утверждал, что оно «надолго останется убедительной апологией древней Руси и основных начал нашей жизни от навета недоброхотов» (то есть таких идеологов, как Чаадаев). Усвоенное П. И. Бартеневым представление о принципиальном «западничестве» Чаадаева побудило его прийти к выводу, что взаимоотношения поэта и мыслителя в 1830-х годах якобы разладились и чаадаевским свидетельствам об его неизменной близости с Пушкиным не следует, как он выразился, «доверяться». Однако С. А. Соболевский, который постоянно общался с поэтом в 1833–1836 годах, решительно возразил Бартеневу: «Вздор, Чаадаев был одним из лучших друзей Пушкина…»
Кстати сказать, сам Чаадаев видел, насколько отношение к нему Бартенева диктуется славянофильской ориентацией последнего, и не без горечи писал об этом С. П. Шевыреву, многозначительно утверждая, что дружба с Пушкиным «принадлежит к лучшим годам жизни моей, к тому счастливому времени, когда каждый мыслящий человек питал в себе живое сочувствие ко всему доброму, какого бы цвета оно ни было» (это, в сущности, одно из основных определений той «единственной культурной эпохи», о которой говорил Александр Блок).
* * *
Необходимо подробно рассмотреть сам вопрос о «западничестве» Чаадаева. Как уже сказано, изолированное восприятие его первого «письма» вроде бы давало основания для причисления мыслителя к западникам. Правда, в этом «письме» есть фраза о декабристском бунте, которая решительно противоречит такой квалификации: «…великий монарх (Александр I. – В. К.), приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой только одни дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека».
Прямо-таки замечательно, что при второй публикации этого «письма» в 1860 году в Париже крайний западник И. С. Гагарин под давлением другого эмигранта, одного из главных идеологов декабризма Николая Тургенева, сделал в чаадаевском тексте «цензурные» изъятия. «Я по требованию Николая Ивановича, – признавался Гагарин, – вычеркнул „дурные идеи и роковые ошибки“ и напечатал». Впоследствии, в 1913 году, также поступил издатель первого в России собрания сочинений Чаадаева М. О. Гершензон.
Оба издателя явно никак не могли допустить, чтобы устами Чаадаева принесенное с Запада определялось как «дурное» и «гибельное» («роковое»). А в позднейшей, 1960-х годов, книге о Чаадаеве утверждалось, что у России, согласно-де взглядам мыслителя, «есть только один путь – духовное сближение с Западом».
Так истолковывали чаадаевскую историософию уже в 1830-х годах и так продолжают «понимать» ее поныне. Никто не вдумался хотя бы в эти вот слова из этого самого первого «письма»:
«…мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того ни другого». Из этого положения будто бы следовало, что русским необходимо заняться усвоением «традиций» Запада; между тем мыслитель не без иронии писал далее о тех, кто склонен именно к такой «программе»: «Я вас спрашиваю: не нелепость ли господствующее у нас предположение, будто этот прогресс народов Европы, столь медленно совершившийся… мы можем себе усвоить?..»
Эти положения не получили развития в самом «письме», но в другом сочинении Чаадаева, написанном в 1835 году (то есть еще до опубликования первого «письма»), совершенно недвусмысленно сказано (притом слова эти развивают, конкретизируют то, что выражено в первом «письме»): «…нам нет дела до крутни Запада, ибо сами-то мы не Запад… Россия… не имеет привязанностей, страстей, идей и интересов Европы… И не говорите, что мы молоды, что мы отстали от других народов, что мы нагоним их (именно в таком „решении“ суть, ядро западнических утопий. – В. К.). Нет, мы столь же мало представляем собой XVI или XV век Европы, сколь и XIX век. Возьмите любую эпоху в истории западных народов, сравните ее с тем, что представляем мы в 1835 году по Р.Х., и вы увидите, что у нас другое начало цивилизации, чем у этих народов… Поэтому нам незачем бежать за другими; нам следует откровенно оценить себя, понять, что мы такое… Тогда мы пойдем вперед». (Уместно напомнить, что то же самое убеждение было присуще и Пушкину, который писал, например: «Поймите же… что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою, что история ее требует другой мысли, другой формулы… Не говорите: иначе нельзя было быть». Последние слова выделены самим Пушкиным, возражавшим мнению о том, что все народы должны с необходимостью следовать по «западному» пути; естественно полагать, что это убеждение поэта сформировалось не без воздействия Чаадаева.)
Исходя из только что процитированных чаадаевских высказываний 1835 года, следует вглядеться и в его первое «письмо». Там нет столь же ясного тезиса о «другом начале цивилизации», присущем России, но вполне определенно сказано о бесплодности попыток «нагонять» Запад, – попыток, неизбежно сводящихся к пустому «подражанию» и «заимствованию»: «В чем заключается жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошедших временах не связывает настоящего с прошлым? Мы же… не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до нашего появления. Необходимо, чтобы каждый из нас сам пытался связать порванную нить родства… Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих… Это естественное следствие культуры заимствованной и подражательной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса».
Стоит отметить, что в опубликованном в 1836 году переводе первого «письма» заключительная фраза была достаточно верно передана так: «У нас нет развития собственного, самобытного…» Казалось бы, одно уже это высказывание должно было заставить задуматься об истинном смысле «программы» Чаадаева. Ведь он и в других местах своего первого «письма» выразил ту же мысль. Так, он написал, что его угнетает «положение», в силу которого русская мысль не останавливается «ни на одном ряде идей, развивавшихся в обществе одна за другой», и принимает участие «в общем движении человеческого разума только слепым, поверхностным и часто дурным подражанием другим нациям» (я процитировал опять-таки перевод 1836 года). В другом своем сочинении, написанном еще в 1832 году (то есть за четыре года до появления в печати первого «письма»), но опубликованном впервые лишь в 1908 году, Чаадаев со всей определенностью утверждал: «Я полагаю, что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с той, на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо Россия развивалась во всех отношениях иначе, и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире. Мне кажется, что нам необходимо обособиться в нашем взгляде на науку не менее, чем в наших политических воззрениях, и русский народ, великий и мощный, должен, думается мне, вовсе не подчиняться воздействию других народов».
Согласитесь, что воистину нелепо хоть в каком-то смысле причислять к западникам мыслителя, выдвинувшего такую «программу». Но ведь и в «злополучном», как назвал его сам Чаадаев, первом «письме» было достаточно определенно сказано о «пороке» России: он состоит, по убеждению мыслителя, в том, что (см. выше) «у нас нет развития собственного, самобытного», а вовсе не в том, что мы не идем по пути Запада. Почему же этого никто не увидел?
Есть все основания утверждать, что читателями опубликованного в 1836 году «письма» была воспринята (и полностью заглушила подлинный его смысл) одна только предельно резкая, прямо-таки беспощадная критика положения в России, – критика, которую сочувственно или даже с восхищением встретили будущие западники и негодующе, либо с прямыми проклятиями – будущие славянофилы.
«Опыт времен для нас не существует, – объявил Чаадаев, – века и поколения протекли для нас бесплодно… мы миру ничего не дали… мы не внесли в массу человеческих идей ни одной мысли, мы ни в чем не содействовали движению вперед человеческого разума, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» и т. д. и т. п.
Как ни странно, этого рода суждения Чаадаева до сего дня служат поводом для причисления мыслителя к западникам; между тем нет сомнения – особенно если исходить из смысла «письма» в целом, – что Чаадаев ведет здесь речь об отсутствии в России именно собственной и самобытной мысли, которая должна вырасти из «опыта веков и поколений» российского бытия, а не усвоена извне, с Запада.
С западниками Чаадаева «сближает» только очень «резкая» и очень «преувеличенная» (по позднейшему признанию самого мыслителя) критика положения в России. Однако при достаточно внимательном анализе существа дела выясняется, что перед нами весьма своеобразная критика. И прежде всего необходимо понять, что это в конечном счете критика не страны, называющейся «Россия», а русского самосознания. Чаадаев усматривает в России отсутствие подлинной (имеющей, в частности, общечеловеческое значение) мысли (Россия – «пробел в интеллектуальном порядке»).
Помимо приведенных высказываний, именно об этом многократно заходит речь в первом «письме»: «…неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний»; «всем нам не хватает какой-то устойчивости, какой-то логики»; «массы… не размышляют. Среди них имеется определенное число мыслителей, которые дают толчок коллективному сознанию нации (которое, замечу, и волнует Чаадаева прежде и более всего другого. – В. К.)… А теперь я вас спрошу, где наши мудрецы, где наши мыслители? Кто из нас когда-либо думал, кто за нас думает теперь?..» и т. п.








