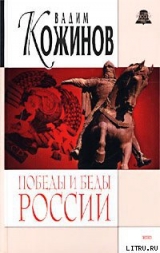
Текст книги "Победы и беды России"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Ведь Тютчев прямо говорит каждому своему читателю, каждому человеку:
Есть целый мир в душе твоей Таинственно-волшебных дум… —
в сущности, открывая тем самым, что такой «мир» есть не только в «твоей», но и в «моей», и в «его» (всякого «его») душе.
И поэтическое утверждение – даже как бы безусловное доказательство – наличия этого мира в каждой человеческой душе (и твоей, и моей, и его), во всех душах, вполне понятно, не только не разъединяет людей, но, напротив, создает, так сказать, достойнейшую основу для их подлинного единения, для истинной соборности…
Глава шестая
РАЗГУЛ ШИРОКОЙ ЖИЗНИ. «МЕРТВЫЕ ДУШИ» Н. В. ГОГОЛЯ
Едва ли сыщется русский человек, который бы не знал так или иначе гоголевские «Мертвые души», не имел представления об их основном сюжете и главных героях. Образы этого произведения как бы растворены в самом воздухе России и постоянно возникают в нашей повседневной речи.
И в то же время можно с полным правом утверждать, что «Мертвые души» – наименее понятая, наименее освоенная отечественной мыслью из всех великих книг русской литературы. Достоевский в свое время резко сказал о самом влиятельном критике России Виссарионе Белинском, что он отнесся к героям гоголевской поэмы «до безобразия поверхностно и с пренебрежением… и только рад был до восторга, что Гоголь обличил» (выделено самим Достоевским).
Как мы еще увидим, Достоевский здесь не вполне или даже совсем не прав по отношению к Белинскому как личности, но он совершенно прав по отношению к господствующему со времен Белинского понятию о «Мертвых душах»: русским людям полтора столетия внушают, что Гоголь преследовал единственную цель – «обличить», «разоблачить» этих самых чудовищ-помещиков.
Считаю уместным и важным сказать, что мне в этом смысле очень повезло. Полвека назад, совсем юным школьником, еще не доросшим до класса, где начинают «изучать» гоголевскую поэму, я видел спектакль «Мертвые души» в Московском Художественном театре, в должной мере сохранявшем тогда свою непревзойденную творческую высоту. Спектакль был создан в 1932 году на основе инсценировки Михаила Булгакова, который участвовал и в самой постановке под руководством гения театра – Станиславского, сказавшего на первом просмотре, что заложенная в спектакле правда со временем – лет через 10 – «взойдет» в актерах. И она действительно взошла…
Нисколько не сомневаюсь, что каждый, кто видел те «мхатовские» «Мертвые души», которые видел я, обрел противоядие от вульгарных истолкований гоголевской поэмы. И когда на школьных уроках или, впоследствии, в сочинениях, написанных профессиональными «гоголеведами» Гуковским или Храпченко, Машинским или Степановым, Макогоненко или Манном, я сталкивался с рассуждениями о том, что в «Мертвых душах»-де «беспощадно разоблачаются» помещики и вся Россия вообще, подобные фразы вызывали у меня только усмешку или, в крайнем случае, раздражение. И часто вспоминались при этом – до самых мелочей – жесты, мимика, интонации первоклассных мхатовских актеров: демонического Белокурова – Чичикова, безудержно-удалого Ливанова – Ноздрева, фундаментального Грибова – Собакевича и всех других, создававших на сцене захватывающий душу гоголевский карнавал.
Ровно через двадцать лет после того спектакля великий русский философ и филолог Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975) дал мне рукопись своего лаконичного очерка о творчестве Гоголя, где он, как бы отстраняя господствующее гоголеведение, писал о необходимости осознать, что все «помещичье» давно не существует, а «образы и сюжетные ситуации Гоголя бессмертны, они – в большом времени. Явление, принадлежащее малому времени, может быть чисто отрицательным, только ненавистным, но в большом времени оно всегда любо, как причастное бытию». Стоит сказать, что опубликовать этот бахтинский текст я смог только еще через десять лет – в 1973 году: слишком сильна была инерция догмы, восходящей к Белинскому.
Впрочем, я уже отметил, что тема «Гоголь и Белинский» не столь уж проста. «Мертвые души» вышли в свет 21 мая 1842 года, а 1 июля появилась посвященная им статья Белинского, в которой воплотилось непосредственное, непредвзятое понимание великой гоголевской поэмы. Перед нами, писал критик, «творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни».
Именно это содержание «Мертвых душ» и было воплощено в мхатовском спектакле. Далее Белинский говорил о гоголевских «лирических отступлениях» и тут же подчеркивал, что «пафос… поэта проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах… При каждом слове… поэмы читатель может говорить:
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!
Этот русский дух ощущается… и в размашистой силе чувств, и в лиризме отступлений, и в пафосе всей поэмы, и в характерах действующих лиц, от Чичикова до Селифана и «подлеца Чубарого» включительно… и в будочнике, который при фонарном свете, впросонках, казнил на ногте зверя и снова заснул. Знаем, что чопорное чувство многих читателей оскорбится… но это значит не понять поэмы, основанной на пафосе действительности, как она есть… не в шутку назвал Гоголь свой роман «поэмою» и… не комическую поэму разумеет он под нею. Это нам сказал не автор, а его книга… все серьезно, спокойно, истинно и глубоко… Нельзя ошибочнее смотреть на «Мертвые души» и грубее понимать их, как видя в них сатиру».
В самом конце своего отзыва Белинский, впрочем, выразил некоторое опасение по поводу воплотившейся в «Мертвых душах» чрезмерной, на его взгляд, «любви и горячности к родному и отечественному». И это было чреватое прискорбными последствиями опасение.
Сразу же после появления статьи Белинского вышла в свет брошюра «славянофила» Константина Аксакова о «Мертвых душах», которая крайне раздражила Белинского и людей его круга. И всего лишь через месяц после только что цитированной статьи появилась другая – в сущности, прямо противоположная по смыслу первой – статья Белинского, где «Мертвые души» квалифицировались как книга, в которой-де «жизнь… разлагается и отрицается» (имелась в виду, понятно, русская жизнь).
Если в предыдущей статье, характеризуя лирические отступления гоголевской поэмы (которые, по тогдашнему убеждению Белинского, неразрывно связаны со всей целостностью «Мертвых душ»), критик писал о них: «Эти гремящие, поющие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания, достойные великого русского поэта», – то в следующем своем сочинении он – как это ни неожиданно – утверждает, что в «Мертвых душах» вообще нет и не могло быть действительно глубокого смысла, ибо в самой-де русской жизни еще, мол, нет истинно значительного национального содержания…
И первая статья Белинского о «Мертвых душах», выразившая его искреннее – и по основной своей сути истинное – переживание гоголевской поэмы, была как бы начисто забыта, словно и не он ее написал… Впоследствии Белинский признавался в письме к Герцену: «И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я… всегда могу отпереться от того, что говорил…» (хотя ранее он, между прочим, возмущался требованием издателя журнала «Отечественные записки» А. А. Краевского: «Я никак не могу согласиться не подписывать своего имени…»).
Однако и это еще не все. Когда один из даровитых учеников Белинского, Константин Кавелин, написал ему о том, что он явно неверно истолковывает «Мертвые души», критик отвечал так: «…я вполне с вами согласен… Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи… писана она не для вас, а для врагов… Поэтому я… кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями… Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик». И Белинский писал тому же Кавелину о гоголевских героях, что и «самые лучшие из нас не чужды недостатков этих чудищ… вы правы, что собственно в них нет ни пороков, ни добродетелей. Вот почему заранее чувствую тоску при мысли, что мне надо будет писать о Гоголе… надо будет говорить многое не так, как думаешь». В эти признания Белинского в высшей степени важно всерьез вдуматься, ибо дело идет в конечном счете об исторической судьбе гоголевского наследия и даже всей отечественной культуры. Подчиняясь «политическим» задачам, Белинский – как он сам со всей ясностью свидетельствует – сознательно искажал природу творчества Гоголя. Здесь невозможно сколько-нибудь конкретно охарактеризовать то соотношение политических и идеологических сил, которое заставляло Белинского публиковать статьи, имеющие «мало общего» с его действительными «убеждениями». Если же сказать наиболее кратко о самой сути проблемы, Белинский стремился истолковать «Мертвые души» как своего рода тотальное «отрицание» России, хотя и понимал, что публикует, выражаясь без обиняков, заведомую ложь и даже «чувствовал тоску» из-за своей обреченности на эту ложь…
Дело здесь, понятно, не в одном Белинском: поскольку в России уже начинала назревать революция, все более расширялся круг людей, одержимых полнейшим неприятием «гнусной расейской действительности» (по выражению самого Белинского). И «Мертвые души» подавались, интерпретировались как беспощадный, не оставляющий камня на камне приговор этой «действительности».
Белинский своим – как мы видели, сознательным, намеренным – «перетолкованием» дал своего рода первый толчок умонастроению, которое поработило затем и подавляющее большинство литераторов, и вообще почти всю интеллигенцию России – от петербургских профессоров до сельских учителей. Есть достаточные основания утверждать, что этот всеобщий взгляд на Гоголя повлиял даже на таких отнюдь не «отрицающих» Россию мыслителей, как Константин Леонтьев и Василий Розанов, которые усматривали в Гоголе именно «отрицателя», нанесшего тяжкий вред русской литературе и русской культуре в целом…
Может показаться, что мы ушли от «Мертвых душ» в мир слишком широких и отвлеченных проблем; однако гоголевская поэма имеет самое прямое отношение к истории русской культуры в ее целом и, более того, к самой истории России вообще. И сегодня прямо-таки необходимо воскресить то первоначальное, еще не искаженное политическими сражениями и интригами восприятие «Мертвых душ», которое выразилось в самом раннем отклике Белинского на гоголевское творение.
Между прочим, Гоголь сам сделал эскиз титульного листа первого издания «Мертвых душ», и, разумеется, не случайно полное название произведения дано здесь в таком виде: самым мелким шрифтом – «Похождения Чичикова, или…», более крупным – «…Мертвые души» и, наконец, самым крупным – «ПОЭМА». Белинский, как мы видели, сначала всецело принял это гоголевское определение книги; однако всего через несколько месяцев он уже отказывается его «понимать», утверждая в очередной статье о Гоголе, что-де русская жизнь вообще не дает оснований для сотворения поэмы о ней – уместна, мол, только сатира, только «разоблачение», каковым будто бы и является книга Гоголя.
Но время от времени – и это по-своему замечательно – Белинский все же высказывает истинное понимание гоголевской поэмы – правда, чаще в личных письмах, чем в публикуемых статьях. Он, в частности, находит удачное слово для героев «Мертвых душ» (см. выше) – чудища. Не «чудовища», означающие нечто злое и безобразное, но именно «чудища», в которых, согласно искреннему мнению Белинского, нет очевидных «добродетелей», но в то же время нет и «пороков».
Поскольку всем со школьных лет внушали, что герои гоголевской поэмы прямо-таки ужасны, это утверждение об отсутствии у них пороков представится по меньшей мере странным. Но об этом мы еще поговорим; начать же следует с другой проблемы. Гоголь с глубоким убеждением писал, что «один только Пушкин» смог определить «главное существо» его как писателя, сказав о следующем: «…еще ни у одного писателя не было этого дара выставить так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».
Впрочем, эта глубокая пушкинская мысль нуждается в особом пояснении, ибо в течение XIX века значение слов «пошлость» и «пошлый» принципиально изменилось. «Пошлый» стало означать «низкий», «ничтожный» или «надоевший», «избитый». Между тем когда-то это производное от «ходить», «пошло» слово употреблялось в значении «обыкновенный», «простой» (а также «старинный», «прежний»). Иван Грозный, возмущенный тем, что английская королева Елизавета, не имея всей полноты власти, не может добиться соблюдения заключенных с ним договоров, писал ей в своем послании 1567 года: «И мы чаяли того, что ты на своем государьстве государыня… А ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица» (то есть «обыкновенная», «простая»).
Слово «пошлый» сохраняло свое исконное значение еще в первой половине XIX века; чтобы полностью убедиться в этом, достаточно вчитаться во все случаи употребления этого слова в сочинениях Пушкина (они собраны в известном четырехтомном «Словаре языка Пушкина»). И дабы правильно понять сегодня пушкинское определение «дара» Гоголя, следует восстановить давнее значение слова. Пушкин говорит о даре Гоголя выставлять так ярко, уметь очертить в такой силе обыкновенность обыкновенного человека, чтобы даже и «мелочь» мелькнула крупно в глаза всем. Самобытный русский мыслитель Юрий Самарин, к сожалению, и сегодня – как и при его жизни – не имеющий сколько-нибудь широкой известности, замечательно писал о Гоголе, опираясь, надо думать, на пушкинские суждения:
«Гоголь первый дерзнул ввести изображение пошлого (то есть обыкновенного. – В. К.) в область художества. На то нужен был его гений. В этот глухой, бесцветный мир… в этот мир высокопоэтический самим отсутствием всего идеального (глубокая, хотя и кажущаяся неким парадоксом мысль, к которой мы еще вернемся. – В. К.), он первый опустился как рудокоп, почуявший под землей еще не тронутую силу».
Здесь важно вспомнить, что в центре великих русских книг, созданных до «Мертвых душ», были явно не «обыкновенные», не «пошлые» герои – Онегин, Чацкий, Печорин. Это образы высокопросвещенных и «европеизированных» людей, в целом ряде отношений оторвавшихся от «обыкновенной» русской жизни, смотрящих на нее как бы со стороны, с точки зрения своих «идеалов» – неизбежно более или менее отвлеченных. Герои «Мертвых душ» принадлежат к тому же – главному тогда – дворянскому сословию, что и Онегин, Чацкий и Печорин. Но они ни в коей мере не оторваны от «обыкновенной» жизни страны, никак не отделены от нее ни в своем быту, ни в своем сознании. Конечно, и до гоголевской поэмы такие герои являлись в литературе, но лишь на втором плане, как некий фон главного действия. В поэме же Гоголя они предстали, по пушкинским словам, так ярко, в такой силе, так крупно, что совершилось своего рода ни с чем не сравнимое открытие. Самарин вполне уместно сравнил Гоголя с рудокопом, почуявшим под землей никем «еще не тронутую силу».
Мне могут напомнить, что позднее, уже после «Мертвых душ», явилось немало выдающихся произведений (взять хотя бы драмы Островского, сказания Лескова, новеллы Чехова), воссоздавших «обыкновенную» русскую жизнь во всех ее проявлениях. Но существует не могущая быть превзойденной ценность первооткрытия, к которому способен только истинный гений. Именно первооткрывательский характер «Мертвых душ» определил ни с чем не сравнимые крупность и мощь образов, поражающих непредвзятого читателя поэмы. Герои «Мертвых душ» – это, пользуясь удачным словечком Белинского, в самом деле «чудища», хотя все их поступки вполне реальны или даже заурядны.
Я говорил, что образы гоголевской поэмы поражают непредвзятого читателя. И это необходимо было сделать, ибо «предвзятые», беря в руки книгу Гоголя, в сущности, заранее ждут от нее прежде всего или только «обличения» ничтожных и порочных «помещиков», а нередко именно поэтому даже и вообще не берут «Мертвые души» в руки…
Но перед нами результат того умысла, того передергивания, которые начались с порабощенного «политикой» Белинского. Вернусь к словам Самарина о том, что «отсутствие всего идеального» делает мир, воссоздаваемый Гоголем, «высокопоэтическим». Определение «высоко», перекликающееся с «возвышенным», может сбить с толку, ибо в мире «Мертвых душ» собственно возвышенного не так уж много. Самарин, очевидно, имел в виду, что этот мир в высокой степени, то есть весь, целиком, насквозь, поэтический, и как раз потому, что в нем нет противостоящего прозе жизни «идеального» начала (что присуще, скажем, грибоедовскому «Горю от ума», где «идеальный» Чацкий противостоит своему «низменному» окружению). И вспомним, что еще не подчинившийся требованиям «политики» Белинский в своей первой, цитированной выше статье о «Мертвых душах» писал, что поэтический пафос гоголевского творения «проявляется не в одних таких высоколирических отступлениях: он проявляется беспрестанно, даже и среди рассказа о самых прозаических предметах».
Впрочем, вглядимся для начала в эти самые «высоколирические отступления». Вот одно из них – размышление о судьбах умерших крепостных мужиков, «купленных» Чичиковым:
«И в самом деле, где теперь Фыров? Гуляет шумно и весело на хлебной пристани, подрядившись с купцами. Цветы и ленты на шляпе, вся веселится бурлацкая ватага, прощаясь с любовницами и женами, высокими, стройными, в монистах и лентах; хороводы, песни, кипит вся площадь, а носильщики меж тем, зацепляя крючками по девяти пудов себе на спину, с шумом сыплют горох и пшеницу в глубокие суда, валят кули с овсом и крупой, и далее виднеют по всей площади кучи наваленных в пирамиду, как ядра, мешков, и громадно выглядывает весь хлебный арсенал, пока не перегрузится весь в громадные суда-суряки и не понесется гусем вместе с весенними льдами бесконечный флот. Там-то вы наработаетесь, бурлаки! и дружно, как прежде гуляли и бесились, приметесь за труд и пот, таща лямку под одну бесконечную, как Русь, песню!» Никто не оспорит, что перед нами фрагмент подлинно поэтического мира; но в чьей душе эта сцена развертывается? В душе Чичикова! Да, Чичикова, который в этот момент, согласно «пояснению» Гоголя, «задумался, так, сам собою, как задумывается всякий русский, каких бы ни был лет, чина и состояния, когда замыслит об разгуле широкой жизни».
«Разгул широкой жизни…» Тем, кто находится под гипнозом полтораста лет внушаемой догмы о Гоголе – «отрицателе» и «разоблачителе», это, конечно, покажется спорным; и тем не менее все – буквально все, что явлено в гоголевской поэме, есть именно «разгул широкой жизни»…
Обратимся к еще одному «лирическому отступлению» поэмы (которые вообще могут быть определены как своего рода ключ к целостному смыслу «Мертвых душ»):
«Лошадки расшевелились и понесли как пух легонькую бричку. Селифан только помахивал да покрикивал: „Эх! эх! эх!“, плавно подскакивая на козлах по мере того, как тройка то взлетала на пригорок, то неслась духом с пригорка… Чичиков только улыбался, слегка подлетывая на своей кожаной подушке, ибо любил быструю езду. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: „черт побери все!“ – его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное?»
Далее идет знаменитейший текст о птице-тройке, который многие знают наизусть, но, как правило, отнюдь не связывают с Чичиковым. Однако у Гоголя-то именно Чичиков мчится на этой самой тройке! В литературоведческих сочинениях можно найти попытки как-то отделить Чичикова от тройки; говаривали также и о «прискорбной ошибке» Гоголя, отдавшего свою тройку не тому, кому следует…
Дело, однако, обстоит противоположным образом: летящие тройки ввели в обязательный русский обиход, если угодно, не Онегины и Чацкие, а Чичиковы и Ноздревы…
Уже говорилось, что вполне достаточно непредвзято углубиться в гоголевскую поэму, дабы стало ясно: в ней воссоздано не что иное, как «разгул широкой жизни». Правда, есть вроде бы одно исключение: Плюшкин. Сам Гоголь говорит о Плюшкине, что «подобное явление редко попадается на Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться, и тем разительнее бывает оно, что тут же в соседстве подвернется помещик, кутящий во всю ширину русской удали и барства, прожигающий, как говорится, насквозь жизнь».
Но само повествование о Плюшкине, строго говоря, «опровергает» это авторское рассуждение. Ведь перед нами, по сути дела, поистине безудержный разгул скупости – разгул, который не знал пределов и в конце концов «прожег насквозь» жизнь этого скупца, превратив его в почти нищего. Плюшкин нисколько не похож на непрерывно богатеющих скупцов, изображенных в литературе Запада и Востока, – хотя бы на созданный почти в одно время с гоголевскими героями образ бальзаковского Гранде, оставившего своей наследнице, дочери Евгении, миллионы. У Плюшкина же «сено и хлеб гнили, клади и стоги обращались в чистый навоз… мука в подвалах превратилась в камень… к сукнам, к холстам и домашним материям страшно было притронуться: они обращались в пыль»…
Плюшкин в этом своем разгуле скупости промотал даже свою помещичью власть и волю: когда он, по обыкновению, крал что-либо у собственных крепостных, а «приметивший мужик уличал его тут же, он не спорил и отдавал похищенную вещь»…
Впрочем, как говорит и сам Гоголь, Плюшкин – это своего рода исключение, хотя, как мы видим, подтверждающее правило: «разгул» все же и здесь имеет место. В целом же гоголевская поэма на каждой странице являет то, что Белинский в своей искренней статье назвал «страстною, нервистою, кровною любовию к плодовитому зерну русской жизни», с чем согласится, повторю еще раз, любой внимательный и непредвзятый читатель.
Эта истинная природа гоголевской поэмы, в основе которой повсюду – «плодовитое зерно русской жизни», основательно раскрыта в исследованиях А. В. Михайлова и В. В. Федорова, опубликованных в изданной (горжусь, что при моем участии) в 1985 году содержательной книге «Гоголь: история и современность».
В «Мертвых душах», доказывает А. В. Михайлов, «Гоголь достигает взгляда на бытие, мир, народ как на органическую целостность. Жизнь, народ – все это на переднем плане может… быть ущербным, искаженным, извращенным (как в том же Плюшкине. – В. К.), но все равно живо изначальное всеобъемлющее сознание правдивости, здравости, цельности, святости самого бытия, самого народа. Тогда даже и все искаженное, вызывая смех или боль, все равно, несмотря ни на что, принадлежит этому целому всепоглощающему бытию».
Так, читая «Мертвые души», отмечает А. В. Михайлов, «можно иронизировать над любителями поесть, над обжорами, тем не менее еда – это здесь и нечто духовное, мир бытийной полноты… у Гоголя самое бытовое может означать самое высокое… В „Мертвых душах“ едят часто, вкусно – во славу бытия!» И истинное понимание сути гоголевской поэмы развеивает недоумение по поводу того, что именно Чичиков мчится на птице-тройке, а проникновенное лирическое отступление, в котором возникает безмерно восхищавшее Сергея Есенина восклицание «О моя юность! о моя свежесть!», вызвано рассказом о Плюшкине… Говоря попросту, «Мертвые души» – не «сатира», а гениальное воссоздание «обыкновенной» жизни со всеми ее падениями и взлетами.
Выше приводились написанные в момент истины слова Белинского о том, что в героях «Мертвых душ» нет добродетелей, но нет и пороков. Впрочем, точнее было бы сказать, что эти герои (если «оценивать» каждого из них как цельную личность) и не добродетельны и не порочны. Это именно обыкновенные, «средние» люди, но воссозданные с уникальной – гоголевскою – яркостью, силой и крупностью (это, как мы помним, пушкинские определения искусства Гоголя).
Но искренние суждения Белинского замалчивались и были забыты. Г. А. Гуковский, который – как ни нелепо – до сих пор имеет репутацию проницательного исследователя, писал в свое время о героях «Мертвых душ»: «…сборища личных и общественных пороков, воплощенных в их образах, памятно всем с детства (то есть со времени вбитых в голову в школе вульгаризаторских толкований. – В. К.). Идиотизм Коробочки или маниакальная скупость… Плюшкина, дикий разгул хулигана Ноздрева или маниловщина, вредность которой вполне вскрыта применением этого образного термина В. И. Лениным, – и нет ни одного просвета в этом мире животных». Именно животные, да еще и порочные… Между прочим, если рассуждать всерьез, животные никак не могут быть порочными; порочен тот, кто пренебрегает взращенными в нем человеческим миром нравственными заповедями. И, кстати сказать, чем более просвещенным является человек, тем более строгим нравственным требованиям он подлежит…
Гуковский довел до предела то представление о Гоголе-отрицателе, которое восходит к Белинскому, однако – согласно известной поговорке «заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет» – Гуковский презрел завет и самого Белинского, который, несмотря на ложь ради «политики», все же недвусмысленно сказал в одной из известных своих статей о героях «Мертвых Душ»:
«…Находя лица, изображенные Гоголем, особенно безнравственными и глупыми, довольно ребячески преувеличивают дело и грубо его понимают. Эти лица дурны по воспитанию, по невежественности, не по натуре…» (то есть порочной натуры в них нет).
Единомышленники Гуковского могут возразить, впрочем, что «образованность», «цивилизованность» как раз и облагораживают человека: если бы, мол, Россия, стала такой же цивилизованной, как Франция или Англия, то и подобных Чичиковых в ней не было бы. Однако Белинский, словно бы предвидя этого рода возражение, тут же добавил (правда, впадая в определенное противоречие с самим собой): «Неужели в иностранных романах и повестях вы встречаете все героев добродетели и мудрости? Ничего не бывало! Те же Чичиковы, только в другом платье: во Франции и в Англии они не скупают мертвых душ, а покупают живые души на свободных парламентских выборах! Вся разница в цивилизации, а не в сущности. Парламентский мерзавец образованнее мерзавца какого-нибудь нижнего земского суда (российского. – В. К.); но в сущности они не лучше друг друга». Здесь нельзя не оспорить Белинского: «образованный» мерзавец, конечно же, «не лучше», а гораздо хуже необразованного, который ведь может попросту не ведать, что творит… И еще об уже отмеченном противоречии: Белинский сказал, что герои «Мертвых душ» «дурны по воспитанию, по невежественности», но тут же сам утверждает, что «цивилизация», «образование» вовсе не улучшают дурного человека. Поэтому правильнее было бы сказать о «дурном воспитании» гоголевских героев, но не о том, что они сами – в силу такого воспитания – «дурны».
Не столь давно один широко популярный академик, желая показать особое высокое достоинство интеллигентного человека, рассуждал с телеэкрана, что вот, мол, можно быть злым, но притвориться добрым, можно быть лжецом, но притвориться честным, можно быть аморальным, но притвориться высоконравственным и т. п.; однако никак нельзя притвориться интеллигентным – это качество либо есть, либо его нет. И тогда один из слушавших, согласившись с мыслью о невозможности притвориться интеллигентным, мудро прибавил, что в то же время именно – да и пожалуй, только – интеллигентный человек (и в этом-то его прискорбное своеобразие) умеет скрыть свою злобность, лживость, безнравственность и т. д.; «простые» же люди к этому очень мало – или даже совсем – не способны… И не забудем то, о чем говорилось выше: именно в интеллигентном человеке пороки предстают в самом отвратительном своем проявлении, ибо в состав интеллигентности обязательно входит ясное и полное знание о том, что порочно, что недостойно человека в истинном смысле этого слова.
Но вернемся к героям «Мертвых душ». Вот хотя бы эта самая «глупейшая» Коробочка. Чичиков в сердцах назвал ее «дубинноголовой», и в целом ряде сочинений о «Мертвых душах» их авторы используют это «определение», даже не задумываясь о своем присоединении к взгляду Чичикова.
Об этом замечательно говорит в упомянутом выше сборнике статей «Гоголь: история и современность» В. В. Федоров. Он призывает читателя воспринять, увидеть, почему, за что именно Чичиков назвал Коробочку «дубинноголовой». А за то, дорогие читатели, что Коробочка абсолютно не способна понять, как можно продавать человеческие души, хотя – в соответствии с нормами времени – признает возможность продажи человеческих тел. Она так и спрашивает Чичикова о предметах купли: «Нешто хочешь ты их откапывать из земли?»
В. В. Федоров пишет об этом: «Для Коробочки непонятна та формальная простота сделки, которая совершенно понятна только для деформированного, искаженного в известном направлении взгляда на эту покупку… Чичиков же вовсе не касается проблемы „живые – мертвые“… На победоносном пути Чичикова к богатству, основанному на использовании отчужденной и ставшей самостоятельной формальной жизни (в частности, власти денег над всем человеческим миром. – В. К.) встает неожиданно примитивное сознание «дубинноголовой» Коробочки».
И ясно, что присоединение некоторых гоголеведов к чичиковской оценке Коробочки, в сущности, постыдно… Но главное даже и не в этом. Истинное понимание конфликта между Коробочкой и Чичиковым позволяет В. В. Федорову раскрыть то, что вообще-то, казалось бы, лежит на поверхности, но в течение полутора столетий не было «замечено» гоголеведами. Исследователь приводит типичнейшее для сочинений о «Мертвых душах» суждение гоголеведа Машинского о мошенническом замысле Чичикова: «Крепостническая действительность создала весьма благоприятные условия для подобного рода авантюр».
И В. В. Федоров в ответ на это предлагает нам всем прозреть и увидеть, что «Гоголь ведь рассказывает совсем о другом: он рассказывает, как не удалась, как сорвалась авантюра Чичикова… В контексте поэтического мира поэмы провал авантюры Чичикова закономерен и подготовлен внутренними причинами, одна из которых – „дубинноголовая“ Коробочка».
В самом конце жизни, всего за полгода до своей кончины Белинский опубликовал статью, в которой выразилось стремление в какой-то мере отказаться от казенного либерального представления о «Мертвых душах» как чисто «отрицательной» книге. Он писал, что своеобразие Гоголя состоит в способности «проникать в полноту и реальность явлений жизни… Ему дался… человек вообще, как он есть, не украшенный и не идеализированный… Утверждают, будто все лица, созданные Гоголем, отвратительны, как люди… Нет, и тысячу раз нет!» (вот так категорически!). Далее Белинский «оценивал» – правда, довольно-таки схематично – «личности» Манилова, Собакевича, Коробочки, доказывая, что «они не так дурны, как говорят о них».








