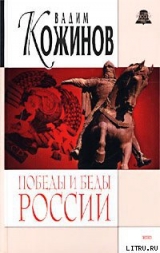
Текст книги "Победы и беды России"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Теперь, через полтораста лет, более углубленное, свободное и масштабное представление о том, что такое художественное творение, позволяет нам и даже требует от нас увидеть и понять мир гоголевской поэмы в принципиально ином свете и плане.
Рассуждения о персонажах «Мертвых душ», об их, условно говоря, добродетельности или порочности, конечно, имеют определенное значение. Но необходимо воспринять и осмыслить поэму как художественную целостность, как единое и исключительно многообразное движение гоголевского слова – разумеется, слова глубоко содержательного. Образы основных героев «Мертвых душ» – это все-таки только определенные компоненты великой поэмы. И если вглядеться, станет очевидно, что в нее вовлечено поразительное множество образов людей, животных, вещей – и во всем, по определению самого Гоголя, «разгул широкой жизни». Любое звено, любая деталь поэмы, в сущности, равноценны по значению.
Меня как-то изумило замечание известного нынешнего критика, что-де открывающий поэму разговор двух мужиков «бессмыслен». Чичиков въехал на своей бричке в губернский город (это первый абзац поэмы), и «два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем: „Вишь, ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву, или не доедет?“ – „Доедет“, – отвечал другой. „А в Казань-то, я думаю: не доедет?“ – „В Казань не доедет“, – отвечал другой. Этим разговор и кончился».
«Замечания», как сказано, относились более к экипажу, чем к седоку, но ведь это значит все же и к седоку!.. И следовательно, напророчили два русских мужика, что не достигнет Чичиков конечной своей цели… Разумеется, читатели не осознают ясно это прорицание, но их воображение так или иначе вбирает его в себя.
Поскольку я весьма критически написал вначале о роли Белинского в судьбе «Мертвых душ», считаю уместным лишний раз процитировать одно из его плодотворных суждений. Он писал в своей лучшей – первой статье о «Мертвых душах»:
«Поэмою Гоголя могут вполне насладиться только те, кому доступна мысль и художественное выполнение создания, кому важно содержание, а не сюжет». Здесь, правда, не вполне точно употреблено слово «содержание»: вернее было бы сказать «органическое единство содержания и формы», цельное и единое движение смысла и слова в гоголевской поэме. Гоголь в этом движении, если угодно, предельно дерзок: он без всяких «прокладок» совмещает самую высокую поэзию и самую низкую прозу. Так, звучит возвышенная ода Руси:
«Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему… у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!
– Держи, держи, дурак! – кричал Чичиков Селифану.
– Вот я тебя палашом! – кричал скакавший навстречу фельдъегерь с усами в аршин. – Не видишь, леший дери твою душу: казенный экипаж! – И, как призрак, исчезнула с громом и пылью тройка».
Чтобы не растеряться от такого неожиданного совмещения вроде бы совершенно несовместимого, необходимо настроить свою душу на царящий в поэме «разгул широкой жизни» – разгул, неизбежно идущий во все стороны – от явственного, хотя и, конечно, духовного видения богатыря до вполне материальной фигуры фельдъегеря (у которого, впрочем, усы в аршин и тройка которого исчезает, как громовой призрак…).
Это дерзкое совмещение высокого и низкого есть чуть ли не в каждом звене поэмы. Вот снова возникает прекраснейший, проникающий «Мертвые души» мотив дороги:
«Какое странное, и манящее, и несущее, и чудесное в слове: дорога! и как чудна она сама, эта дорога… Кони мчатся… как соблазнительно крадется дремота и смежаются очи, и уже сквозь сон слышатся: и „Не белы снеги“, и сап лошадей, и шум колес, и уже храпишь, прижавши к углу своего соседа…»
Такой вот ничем не ограниченный диапазон: от манящей и несущей музыки чуда до храпа и прижатого – бесчувственным сонным телом – соседа… Но ведь это и есть та полнота жизни, которая только и рождает подлинную, полноценную поэзию (вспомним слова Юрия Самарина о том, что «высокопоэтический мир» достигает высшей своей степени как раз при «отсутствии идеального» – разумеется, как отдельного, отвлеченного начала).
Обратимся еще к двум изображениям человеческой смерти в гоголевской поэме. Пронзающие строки о гибели крепостного плотника Степана:
«Чай, все губернии исходил с топором за поясом и сапогами на плечах, съедал на грош хлеба да на два сушеной рыбы, а в мошне, чай, притаскивал всякий раз домой целковиков по сту… где тебя прибрало? Взмостился ли ты для большого прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь, и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукою в затылке, промолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“, а сам, повязавшись веревкой, полез на твое место»… И далее как вывод: «Эх, русской народец! не любит умирать своею смертью!»
Мало того, что это щемящее душу повествование соткано из предельно «прозаических» образных деталей: оно представляет собой видение Чичикова! И все же оно остается в памяти как горький, но истинно высокий звук гоголевской симфонии…
И еще одна смерть: прокурора, о котором Собакевич сказал: «Один… только и есть порядочный человек: прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья». Рассказ об этой смерти таков: «Все эти толки, мнения, слухи неизвестно по какой причине больше всего подействовали на прокурора. Они подействовали на него до такой степени, что он, пришедши домой, стал думать, думать и вдруг, как говорится, ни с того, ни с другого, умер. Параличом ли его или чем другим прихватило, только он как сидел, так и хлопнулся со стула навзничь. Вскрикнули, как водится, всплеснув руками: „Ах, Боже мой!“, послали за доктором, чтобы пустить кровь, но увидели, что прокурор был уже одно бездушное тело. Тогда только с соболезнованием узнали, что у покойника была, точно, душа, хотя он по скромности своей никогда ее не показывал…»
О смерти повествуется вроде бы не очень уж почтительно, с комическими нотками, но вдруг вспыхивает свет высокого смирения – душу-то покойник «по скромности своей» никогда не показывал, но это-то как раз о ней и свидетельствует. И смерть казавшегося бездушным чиновника как бы становится в один ряд со смертью плотника Степана…
«Виновником» смерти прокурора вполне можно считать Чичикова, ибо именно толки, мнения и слухи об его загадочной покупке мертвых душ, о том, что он – переодетый Наполеон и т. п., сразили душевного прокурора.
И в заключение уместно, да и необходимо поразмышлять о главном герое гоголевской поэмы. В какой-то мере уже сказано, что Чичиков полностью вплетен в целостное движение поэмы, в ее и высокие, и низкие тональности. Да и вообще он так или иначе связывает все отдельные стороны и аспекты мира «Мертвых душ». А между тем есть вроде бы все основания сказать, что уж он-то в самом деле порочный герой (хотя Белинский утверждал, что у героев поэмы вообще нет пороков); ведь перед нами как бы прирожденный мошенник, готовый чуть ли не на все ради богатства. И к тому же Чичиков – по-настоящему сильная личность, что особенно ясно раскрывается в заключительной главе «Мертвых душ», где рассказано о мошной «операции», осуществленной Чичиковым ранее, во время его таможенной службы на западной границе России.
Он сумел стать своего рода идеальным таможенником: «…не было от него никакого житья контрабандистам. Это была гроза и отчаяние всего польского жидовства» (которое и держало в своих руках контрабанду на западной границе). Чичиков завоевал полное доверие начальства, и тогда, в сущности, сам возглавил блистательную контрабандную операцию, принесшую ему полмиллиона: «Не участвуй он сам в сем предприятии, никаким жидам[65]65
Как уже отмечено, это слово до конца XIX века не несло в себе «бранного» смысла.
[Закрыть] в мире не удалось бы привести в исполнение подобного дела». Затем наступил нелепый крах. Но хотя этого было достаточно, говорит Гоголь, чтобы «охладить и усмирить навсегда человека, в нем не потухла непостижимая страсть». Да, именно такими словами, а не словом «порок» определена в поэме суть Чичикова, который к тому же – внешне логично – оправдывает свою таможенную авантюру: «Несчастным я не сделал никого: я не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков…» И Чичиков в конце концов затевает новую авантюру – покупку мертвых душ. Гоголь признавался, что этот «сюжет» (как и сюжет «Ревизора») подарил ему сам Пушкин, который объяснял свой отказ от высоко ценимого им замысла так: «…у меня было много другого дела, также важного по существу своему». Тем не менее, когда Гоголь уже вовсю работал над его замыслом, Пушкин полушутя-полусерьезно сказал: «С этим малороссом надо быть осторожнее – он обирает меня так, что и кричать нельзя…»
А чичиковская авантюра поистине замечательна уже тем, что она, в сущности, имеет по-человечески «безобидный» характер. Ведь дело заключается в следующем. Чичиков якобы покупает массу крепостных, «поселяет» их на свободных землях в только еще осваиваемой Херсонской губернии и закладывает свое мнимое богатое имение, получая в руки под этот залог громадный капитал, который он пустит в какое-либо дело и, нажившись, полностью вернет свой долг (ибо иначе ведь он неизбежно пойдет под суд). Словом, это только способ получить большую сумму в долг от казны – и только; никто от чичиковской авантюры никак не пострадает, хотя она, разумеется, противозаконна и подлежит суровому наказанию. Ведь безобидная для отдельных лиц, она колеблет государственные и нравственные устои русского бытия…
Характерен разговор губернских дам о посещении Чичиковым Коробочки. Чичиков, мол, «является… вроде Ринальда Ринальдина и требует: „Продайте, – говорит, – все души, которые умерли“. Ринальдо Ринальдини – это восхищавший читателей „благородный разбойник“, герой очень популярного тогда в России романа немецкого писателя Кристиана Вульпиуса (1762–1827) – сподвижника и шурина (брата жены) самого Гёте.
Хотя Чичиков предстает в гоголевской поэме во всех самых «прозаических» подробностях его судьбы и облика, характер его отнюдь не сводится (хотя множество гоголеведов толковали его именно так) к низменному «приобретательству». Как уже сказано, Гоголь определил его стремление словами «непостижимая страсть» – и это не раз так или иначе подтверждается. В том мхатовском спектакле, о котором я говорил вначале, автор инсценировки Булгаков, режиссер Станиславский и яркий актер В. В. Белокуров вложили в образ Чичикова демонические черты, что вполне соответствовало гоголевской поэме.
Самое же главное, пожалуй, заключается в том, что фигура Чичикова дала возможность – в целостном контексте поэмы – развернуть широчайшую перспективу. Так, отчасти гротескная тема – Чичикова принимают за переодетого Наполеона, снова проникшего в Россию, – в сущности глубоко значительна (между прочим, внешний образ Чичикова очень близок к тому образу Наполеона, который позднее создаст в «Войне и мире» Толстой). Гоголь начал писать «Мертвые души» всего через двадцать лет после победы над Наполеоном, когда все еще дышало памятью о героической и трагедийной эпопее 1812–1815 годов. И без особой натяжки можно сказать, что Чичиков, как и Наполеон, вознамерился завоевать Россию – только уже не силой оружия (которая потерпела полное поражение), а ненасильственной и даже безобидной – безобидной для отдельных людей, но не для России в целом – авантюрой со скупкой мертвых душ. Получив основательную подготовку на западной границе России, Чичиков-Наполеон начинает завоевывать одну из ее губерний.
И здесь уместно в последний раз процитировать наиболее ценную статью Белинского, где «Мертвые души» определены как «творение необъятно художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта – и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое…». Историческое содержание поэмы, пожалуй, наиболее всего связано именно с наполеоновской темой…
Гоголевская поэма, о чем уже говорилось, воссоздает как бы естественный – и, следовательно, неизбежный – крах нового Наполеона: «естественность» краха выражается уже в том, что никто вроде бы не вступает на путь прямого сопротивления Чичикову – скорее, даже напротив. И все-таки его операция срывается, и он бежит из города, который, казалось бы, уже сумел очаровать, зачаровать…
Конечно, здесь сказано далеко не все, что можно бы и должно бы сказать о гоголевской поэме: так, например, мы не коснулись всей полноты замысла Гоголя, который предполагал создание еще двух книг, развивающих тему. Но важнее всего сейчас, на мой взгляд, постановка вопроса о том, как вообще надо воспринимать поэму Гоголя, отрешившись от в сущности убивающей ее давней догмы о будто бы чисто «разоблачительной» ее цели и направленности.
В конце позволю себе одно сугубо личное «примечание». Основная мысль данного очерка была высказана мною в статье, опубликованной в журнале «Вопросы литературы» более четверти века назад – в 1968 году (№ 5). Но, несмотря на то что мысль эта выражена была весьма осторожно, статья вызвала резкое идеологическое осуждение; нападки на нее продолжались лет десять. И признаюсь, я рад, что сегодня без оговорок могу высказать давнее убеждение.
* * *
В начале было сказано, что «Мертвые души» – «наименее понятая» из великих русских книг. Но это можно в известной мере отнести и к другому прославленному творению Гоголя – повести «Шинель». В работах, так или иначе касающихся творческой истории гоголевской «Шинели», на первый план обычно выдвигается рассказ из «Литературных воспоминаний» П. В. Анненкова, сообщающий об услышанном Гоголем «канцелярском анекдоте», героем которого был бедный чиновник, «неутомимыми, усиленными трудами» накопивший деньги для покупки хорошего охотничьего ружья, потерянного, увы, во время первой же охоты. Несмотря на то что выдающийся литературовед В. Л. Комарович сравнительно давно выразил сомнение в значительности той роли, которую мог сыграть данный анекдот для создания «Шинели», рассуждения о нем продолжают переходить из работы в работу.
Между тем сопоставление анекдота, сообщенного Анненковым, с повестью Гоголя едва ли способно прояснить и обогатить понимание собственно художественного смысла «Шинели».
Более того, особое внимание к этому анекдоту может даже дезориентировать исследователя и помешать ему пробиться к стержневому смыслу гоголевской повести.
Мы почти не обращаем внимания на тот факт, что первый набросок «Шинели», продиктованный Гоголем М. П. Погодину между 8 июля и 8 августа 1839 года, назывался «Повесть о чиновнике, крадущем шинели». Из этого названия очевидно, что в замысле художника основная тяжесть лежала не на том факте, что у чиновника украли шинель, но на том, что он сам стал красть шинели.
Гоголь, как известно, работал над «Шинелью» на протяжении почти двух лет и закончил ее, очевидно, лишь в апреле 1841 года. Она была анонсирована во 2-й книге «Москвитянина» на 1841 год под названием «О чиновнике, укравшем шинель». Лишь для публикации название было сокращено до одного слова «Шинель», – но, как видим, на протяжении всей работы над повестью Гоголь осознавал ее прежде всего как повесть о крадущем, а не об обокраденном чиновнике…
В общественно-литературной ситуации 40-х годов «Шинель», однако, была воспринята исключительно как повесть об обокраденном чиновнике. Даже и в 1861 году Достоевский без каких-либо оговорок утверждал, что Гоголь – «настоящий демон», который «из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужасную трагедию». И это понимание прочно закрепилось. Нельзя не обратить внимание на тот факт, что первоначальная рукопись, озаглавленная «Повесть о чиновнике, крадущем шинели», обрывалась на разговоре с портным, то есть о краже шинелей даже и речи еще не заходило. Тем не менее в творческом сознании Гоголя создаваемая им повесть уже была рассказом о чиновнике, крадущем шинели.
И все-таки «Шинель» была воспринята критикой в ином духе. Решающую роль сыграл здесь, надо думать, общий «контекст» бытовых повестей натуральной школы. Как известно, Белинский, признавая, что Гоголь – «отец» натуральной школы, что «он не только дал ей форму, но и указал на содержание», вместе с тем тут же оговаривал: «Между Гоголем и натуральною школою – целая бездна».
Но эту «бездну» стали по-настоящему осознавать лишь гораздо позже. Что же касается «Шинели», она до самого последнего времени толковалась только как «гуманная» повесть об обокраденном чиновнике.
Нельзя не порадоваться тому, что положение начинает изменяться. Говоря о «сложности» и «особенности» гоголевской повести, Г. М. Фридлендер замечает: «Хотя венчающий ее фантастический эпизод посмертного появления героя и его встречи со „значительным лицом“ внешне никак не подготовлен предшествующим, выдержанным в чисто бытовом плане рассказом о жизни и смерти Акакия Акакиевича, в действительности вся повесть построена в расчете на этот заключительный эпизод, художественно подготовляет его… К этому легендарному завершению и устремлен весь рассказ, хотя рассказчик не хочет, чтобы читатель заранее предвидел возможность столь неожиданного поворота в судьбе героя».
В том же направлении развивается концепция в статье Н. В. Фридмана «Влияние „Медного всадника“ Пушкина в „Шинели“ Гоголя». Правда, исследователь исходит из неадекватного представления о художественной структуре «Медного всадника», рассматривая пушкинскую поэму как воплощение коллизии Всадник Медный – Евгений, хотя поэма, без сомнения, немыслима без третьего «героя» – Стихии, которая как раз и разрушает жизнь Евгения, а «вина» Петра состоит в том, что он, бросив дерзостный вызов Стихии, не сумел до конца «победить» ее. Но об этом (как и о роли Стихии в «Шинели») речь пойдет в дальнейшем.
Вглядываясь в историю создания текста «Шинели», можно убедиться, что Гоголь ясно представлял себе конечный, последний смысл повести. В первой редакции заключительной части повести Акакий Акакиевич в предсмертном бреду «сквернохульничал… чего от роду за ним не бывало от времени самого рождения.
– Я не посмотрю, что ты генерал, – вскрикивал он иногда голосом таким громким. – Я у тебя отниму шинель».
В окончательной редакции дан только намек на эти вскрики: «Он… сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него ничего подобного, тем более что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство“. Как полагает Н. В. Фридман, цитированный текст первой редакции был „выпущен автором по цензурным соображениям“. Вероятно, это предположение не лишено оснований. Но необходимо учитывать и вышеприведенные соображения Г. М. Фридлендера, согласно которым Гоголь не хотел, „чтобы читатель заранее предвидел“ финал повести. Об этом свидетельствует и отказ Гоголя от названия „Повесть о чиновнике, крадущем шинели“ (хотя, как уже упоминалось, вариант этого названия – „О чиновнике, укравшем шинель“ – даже появился в журнальном анонсе повести).
Имеет смысл отметить, что цитированная статья Фридмана была недавно оспорена Г. П. Макогоненко, который в конечном счете защищал «традиционное толкование» «Шинели» – как повести об обокраденном чиновнике. В связи с этим он выступил и против ряда исследователей, полагающих, что в финале повести изображено «возмездие», «мщение», «протест», «бунт» Акакия Акакиевича, – речь идет о работах М. Б. Храпченко, Г. А. Гуковского, И. П. Золотусского.
По мнению Макогоненко, финал «Шинели» – это, в сущности, изображение чистейшей «фикции» – «мифически-призрачных» городских «слухов». К сожалению, Макогоненко не замечает, что при таком подходе к художественной реальности мы должны были бы понять как чистую фикцию и финал «Медного всадника», ибо ведь финал этот разыгрывается, по сути дела, в воображении Евгения, который к тому моменту
…свой несчастный век
Влачил, ни зверь, ни человек,
Ни то, ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый…
В самом деле, при том восприятии художественной реальности, которое предлагает Макогоненко, воображение «ни жителя света, ни призрака мертвого» оказывается едва ли не большей фикцией, чем «слухи» о крадущем шинели Акакии Акакиевиче. И с этих позиций нам пришлось бы отвергнуть не только мысль о «бунте» Акакия Акакиевича, а и все то, что было высказано в критике и литературоведении о коллизии Всадник Медный – Евгений.
Восприятие «Шинели» исключительно в контексте натуральной школы долго как бы заслоняло глубокий исторический смысл гоголевской повести, которую можно действительно понять не в соотнесении с «повестями о чиновниках», о «маленьком человеке» в прямом, узком значении этого слова, но уж, если на то пошло, именно в соотнесении с пушкинским «Медным всадником». Конечно, «Шинель» не перестает быть и социально-психологическим повествованием, остро раскрывающим тему «маленького человека». Но все же «гуманная» тема – только часть художественной целостности «Шинели» и к тому же подчиненная, зависимая от более масштабной темы часть. Если бы «гуманность» была целью повести, в ее художественном мире едва ли бы закономерно было изображение (пусть даже в «фантастическом – по слову Гоголя, – окончании») жестокой мести героя, который сдирает «со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели».
В недавней книге Игоря Золотусского сделана попытка выявить в «Шинели» своего рода исторический план: хоть и с некоторыми оговорками, здесь утверждается, что Гоголь, создавая фигуру «значительного лица», не пожелавшего помочь Акакию Акакиевичу, не то чтобы «изобразил», но «прошелся весьма близко» от Николая Первого. В подобном «предположении» (так определяет свою мысль сам автор) уже есть некий выход к исторической теме «Шинели», ощущение этой темы. Но Игорь Золотусский все же ошибается. Даже если поверить, что образ «значительного лица» имеет в виду и самого императора, «лицо» это раскрыто в повести как сугубо частное, хотя в глазах Акакия Акакиевича и выступающее как своего рода воплощение государства.
После «изгнания» Акакия Акакиевича «значительное лицо» – этот, казалось бы, безнадежно «официальный» герой – вдруг обнаруживает вполне человеческие черты: «Почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что, неделю спустя, он решился даже послать к нему чиновника узнать, что он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе».
После же того, как с самого «значительного лица» была сдернута шинель, «происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: „как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами“ и т. д. Это „кто перед вами“ вроде бы свидетельствует, что „значительное лицо“ рассматривает себя как воплощение государства. Но Гоголь ведь достаточно развернуто воссоздает истинную суть „значительного лица“, говоря, в частности: „Он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку… Он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть“. Однако в конце повести, как мы видели, „значительное лицо“, пережив, подобно Акакию Акакиевичу, потрясение, в той или иной мере возвращается на путь „доброго человека“. Этого, правда, не хотят замечать те, кто истолковывает „Шинель“ как чисто „гуманную“ повесть; для этой элементарной „идеи“ нужен, так сказать, „злодей“ – и его находят в „значительном лице“.
На самом же деле это толкование как раз снижает и притупляет истинную остроту повести. Ведь Акакий Акакиевич в конце концов взбунтовался отнюдь не против «значительного лица». Бунт Акакия Акакиевича – подобно бунту Евгения в «Медном всаднике» – направлен, по существу, против самого государства, пусть оно даже в глазах Акакия Акакиевича и представало прежде всего в образе «значительного лица».
«Медный всадник» вспоминается здесь отнюдь не всуе. Как и в пушкинской поэме, в «Шинели» несомненно выступают три «феномена» – «маленький человек», Государство и, так сказать, Стихия, которую Государство не в силах покорить, победить.
Акакий Акакиевич предстает в начале повести как мельчайшее колесико в государственном механизме – притом колесико, довольствующееся своей ролью: «Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир… Акакий Акакиевич если и глядел на что, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки… Приходя домой, он… переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно для собственного удовольствия копию для себя, особенно если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу… Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне; что-то Бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмястами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий…»
«Бедствие», которое вторглось в раз навсегда заведенный, отлаженный механизм петербургской государственности и как бы сорвало с оси одно из его колесиков, – бедствие это исходит от силы, представленной в «Шинели» как истинно стихийная.
Вот поражающая воображение сцена ограбления Акакия Акакиевича. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света… Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. „Нет, лучше и не глядеть“, – подумал и шел, закрыв глаза, и, когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди… „А ведь шинель-то моя!“ – сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник… Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до конца площади».
Тот же самый разгул Стихии в сцене ограбления «значительного лица», которое бессильно перед ней так же, как и Акакий Акакиевич: «…порывистый ветер… выхватившись вдруг, Бог знает откуда и невесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг неестественною силою набрасывал ему его на голову…»
Все это в самом деле близко к картинам наводнения в «Медном всаднике», даже «море» упомянуто. И здесь та же тема: петербургская государственность, при всем своем величии, не смогла подавить, сковать, вбить в землю стихийные силы, и вот разбой совершается в самом центре Империи. От него не защищен ни Акакий Акакиевич, ни «значительное лицо», ни кто-либо еще…
Современники подчас осязаемо чувствовали это. Герцен свидетельствует, что генерал от кавалерии граф С. Г. Строганов (основатель известного художественного училища) восклицал: «Какая страшная повесть Гоголева „Шинель“… ведь это привидение на мосту тащит просто с каждого из нас шинель с плеч».
Генерал ясно увидел в тексте то, что совершенно открыто представало в первой редакции финала повести (выше цитировалось: «Я не посмотрю, что ты генерал…»), и в этом случае «творческая история» подтверждает верность строгановского восприятия текста.
Но дело, конечно, не только в «генералах». Не забудем, что сначала был обокраден сам Акакий Акакиевич. Срывая с его плеч шинель, «Стихия» отнимает у него – как и у пушкинского Евгения – самое дорогое, что у него есть. И он отчаянно стучится в двери Государства, ища помощи и защиты – у «рядового» будочника («Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека»), затем у частного пристава, наконец, у «значительного лица», которому заявляет, что «секретари того… ненадежный народ…», вызывая гнев этого – столь же ненадежного – репрезентанта государственности.
Покинув кабинет «значительного лица», Акакий Акакиевич опять оказывается во власти Стихии: «Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон…»
Как и пушкинский Евгений, Акакий Акакиевич затем сам присоединяется к «бунту»: он «сквернохульничал, произнося самые страшные слова» и т. д., наконец, в «фантастическом окончании» повести Акакий Акакиевич сам сдирает шинели «пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников». И даже сам феномен шинели во второй половине повести оборачивается совсем иным значением: это уже не дражайший друг Акакия Акакиевича, а своего рода символ государственности.
И хотя, сдернув шинель с «значительного лица» – как бы с самого Государства, – герой вроде бы успокаивается, в заключительном абзаце повести Стихия вновь кажет себя: «…один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение… он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановясь, спросило: „Тебе чего хочется?“ – и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал „ничего“, да и поворотил тот же час назад. Привидение, однако же, было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы, и, направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте».
То, что «Шинель» завершается именно так, ясно показывает, сколь неадекватно выражают смысл повести ее трактовки, замыкающиеся на «гуманной» теме. Сам Акакий Акакиевич предстает в свете этой концовки только как часть (хотя, конечно, неоценимо важная) художественной темы повести.
Финал же посвящен теме Стихии. Все, казалось бы, заковано в гранит и департаменты, но Стихия все же готова показаться из-за каждого дома, и дует ветер «со всех четырех сторон», словно пророча «Двенадцать» Блока. И бессильна перед Стихией внешне столь могучая государственность. И вполне уместно сказать, что в «Шинели», считающейся только «повестью о маленьком человеке», о некой узкой судьбе, также приоткрывается тот «разгул широкой жизни», который определяет содержание «Мертвых душ».








