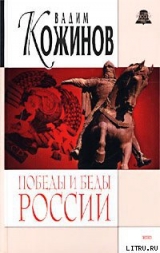
Текст книги "Победы и беды России"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Достоевский заметил по поводу одного своего произведения, которое упрекали за растянутость, что в нем «слова лишнего нет», то есть нет ни одного слова, не имеющего отношения к глубокому художественному смыслу целого. И когда мы говорим о том или ином «слове» романа, необходимо отчетливо сознавать, что речь идет не о слове в лингвистическом смысле, не о явлении языка. Каждое слово включено в художественную целостность романа, где оно перестает быть обычным явлением речи и становится деталью образа, деталью художественного мира, воплощающей и в то же время вбирающей в себя его богатый и сложный смысл. Этот мир находится не за словом (или под словом), а в самом слове. Перед нами не обычное слово, а художественное слово великого писателя – элемент искусства (а не речи).
Чтобы отчетливо увидеть это, возьмем одно очень часто встречающееся в романе слово – «желтый». Это как бы основной «цвет» романа. В квартире старухи процентщицы комната «с желтыми обоями», мебель «из желтого дерева», картинки «в желтых рамках». Сама старуха носит «пожелтелую кацавейку». Даже во сне, когда Раскольников как бы повторяет убийство, ему бросается в глаза «желтый диван» в комнате старухи. Каморка Раскольникова оклеена «грязными желтыми» обоями; в полицейской конторе, где он падает в обморок, ему подают «желтый стакан, наполненный желтою водою». Само лицо героя из-за болезни становится «бледно-желтым». «Желтое» лицо и у Мармеладова. В комнате Сони опять-таки «желтоватые» обои. В кабинете Порфирия Петровича мебель из «желтого дерева», а лицо следователя – «темно-желтое». У женщины, которая на глазах Раскольникова бросается в канаву, «желтое» лицо.
Этот перечень можно бы продолжать и далее. Причем особенно важно отметить, что вообще-то в романе очень мало красок, и ни один цвет, кроме желтого, не повторяется более чем несколько раз.
Просто невозможно предположить, что это господство желтого цвета возникло случайно. И конечно же, дело вовсе не в точном воссоздании цвета обоев, мебели, лиц и т. д. Само по себе такое воссоздание было бы просто излишним в романе. Какое дело нам до того, что те или иные предметы желтые (а не, скажем, зеленые, голубые, коричневые и т. п.)? Что это прибавляет к нашему пониманию художественного мира Достоевского? Нет, здесь, безусловно, есть некий существенный внутренний смысл. Но смысл сложный и многогранный. Едва ли возможно определить его однозначно и со всей четкостью.
Замечательно одно место в романе. Раскольников через несколько дней после убийства приходит в квартиру старухи и застает там работников: «Они оклеивали стены новыми обоями, белыми с лиловыми цветочками, вместо прежних желтых, истрепанных и истасканных. Раскольникову это почему-то ужасно не понравилось; он смотрел на эти новые обои враждебно, точно жаль было, что все так изменили».
Почему же это не понравилось герою? Конечно, прежде всего следует сказать о том, что Раскольникову вообще неприятно всякое изменение того места, где он пережил самые роковые мгновения своей жизни. Но явно не случайно говорится здесь о замене обоев желтого цвета на белые. Желтый – это как бы цвет того мира, того пространства, где было и задумано (ибо каморка Раскольникова тоже желтая) и совершено преступление.
Но дело не только в этом. Желтый цвет характеризует и внутренний мир Раскольникова. В романе есть очень существенное сопоставление двух слов: слово «желтый» не раз соседствует с другим словом одного с ним корня – «желчный», которое, кстати, тоже часто встречается в романе.
О Раскольникове, например, говорится: «Тяжелая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал… Наконец, ему стало душно и тесно в этой желтой каморке».
Или другое место: «Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко…»
Я выделил в последнем отрывке уже не два, а четыре слова, ибо они как бы перекликаются, они связаны и по звуку и по смыслу. Иногда думают, что подобное единство звука и смысла характерно лишь для поэзии, для стиха. Но подлинно художественная проза строится не менее сложно, чем стихи, хотя в ней искусное построение гораздо менее заметно, не бросается в глаза.
Однако обратимся к основному сопоставлению: «желчный» – «желтый». Перед нами явное взаимодействие внутреннего и внешнего, мироощущения героя и самого мира. В этом взаимодействии, очевидно, и коренится тот сложный и напряженный смысл, который приобретает в романе слово «желтый». Нельзя не отметить, что на него наслаиваются в романе и другие значения. Так, Соня, живущая в «желтой» комнате, кроме того, как не раз говорится в романе, живет «по желтому билету». И это жуткое значение как бы входит в состав общего значения слова «желтый». Во взаимодействии с «желчью» «желтизна» приобретает смысл чего-то мучительного, давящего. Между прочим, Достоевский писал оба эти слова через «о» – «жолтый» и «жолчный»; так они и печатались в прижизненных изданиях романа. И это написание как-то грубее и выразительнее… Стоило бы и теперь восстановить это начертание: оно подчеркивало бы то особенное значение, которое вложил в эти слова Достоевский.
Наконец, слово «желтый» связано, по-видимому, еще и с тем, что «Преступление и наказание» – ярко выраженный петербургский роман. Дело в том, что образ Петербурга прочно ассоциируется в русской литературе с желтым цветом. Правда, это стало вполне очевидно уже после Достоевского, в поэзии XX века. Напомню строки из «петербургских» стихов Блока: «В эти желтые дни меж домами мы встречаемся…», «И на желтой заре – фонари…»; Анненского: «Желтый пар петербургской зимы… И Нева буро-желтого цвета…»; Мандельштама: в Петербурге «…к зловещему дегтю подмешан желток…». Вероятно, и в романе Достоевского обилие «желтого» как-то связано с самим ощущением Петербурга, его общего колорита. Но, конечно, еще более существенное значение имеет сама атмосфера романа, то взаимодействие «желчи» и «желтизны», о котором шла речь. Это уже, конечно, не слово в собственном смысле, а частица художественного мира «Преступления и наказания».
Невозможно, разумеется, анализировать «Преступление и наказание» слово за словом. Но необходимо – для действительного понимания романа – чутко вслушиваться в каждое слово, видеть в слове не просто элемент «информации», сообщения (скажем, воспринимать определение каморки «желтая» только как обозначение ее цвета), но именно частицу сложного и богатого художественного мира в его целостности.[71]71
Тонкие наблюдения над художественным бытием слова в «Преступлении и наказании» содержатся, в частности, в работе А. В. Чичерина «Поэтический строй языка в романах Достоевского».
[Закрыть] Анализ отдельных слов должен выступить лишь как своего рода ключ к верному восприятию и пониманию романа. Постоянно помня об этом, попытаемся схватить целостный смысл романа, его основное художественное содержание.
* * *
Мы уже разбирали первую, начальную фразу романа. Но, строго говоря, роман начинается не с нее. Ей предшествует название, в котором перед нами резко, отчетливо, крупным планом предстает слово ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Это слово имеет еще более существенное и широкое значение, чем различные образования от корня «решать». Конечно, можно понять его в чисто информационном и буквальном значении: нам предлагается рассказ о юридически наказуемом деянии, о каком-то нарушении правовых норм.
Однако при внимательном чтении романа нетрудно убедиться, что его название имеет неизмеримо более многосторонний и сложный смысл. Речь идет о переступании нравственности, быта, жизни вообще.
Слово «преступление» и различные его вариации то и дело возникают в романе. Так, Раскольников говорит Соне, пожертвовавшей собой ради семьи: «Ты тоже переступила… смогла переступить… ты загубила жизнь… свою (это все равно!) (курсив самого Достоевского. – В. К.)». О матери Раскольникова говорится, что она «на многое могла согласиться… но всегда была такая черта… за которую никакие обстоятельства не могли заставить ее переступить».
И Мармеладов в самом начале романа рассказывает Раскольникову, как он «переступил». Он рисует идиллическую картину своей недавней трезвой жизни, повествует о том, как его приняли «его превосходительство» и «даже прослезились, изволив все выслушать», и сказали: «Беру тебя еще раз на личную свою ответственность», как дома «на цыпочках ходят, детей унимают: „Семен Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!“, как „кофеем меня перед службой поят, сливки кипятят!.. Сколотились мне на обмундировку приличную…“, как „жена точно в гости собралась, приоделась…“, как „в продолжении всего того райского дня… я и сам в мечтаниях летучих препровождал…“. Но, говорит Мармеладов, „тут… черта моя наступила“ (то есть он не мог не переступить черту), и „я хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Екатерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось от принесенного жалованья… и всему конец…“, а потом пошел к Соне, которая „вынесла… последние, все, что было…“.
Вслед за встречей с Мармеладовым Раскольников получает письмо от матери, где вновь со всей ясностью выступает тема «преступаемости» человека, где мать благословляет свою дочь пожертвовать собой ради брата, ибо она, Дуня, «многое может перенести» (хотя и для Дуни, как и для матери, существует «черта», за которую она не сможет переступить). Кроме того, из письма встает всецело преступный образ Свидригайлова.
Тема «преступления» ширится и углубляется. Мармеладов, «переступивший» жену и Соню, Соня, «переступившая» себя, а затем пытающаяся «переступить» себя Дуня,[72]72
Как размышляет Раскольников, «Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным», – а может быть, даже Дунечкин жребий «хуже, гаже, подлее, потому что… все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-запросто о голодной смерти дело идет!».
[Закрыть] не знающий никаких «границ» Свидригайлов…
Наконец, после рассказа Мармеладова и письма матери Раскольников зримо сталкивается с «двойником» Сони – пьяной девочкой на бульваре, которую преследует человек, тут же окрещенный им Свидригайловым. Раскольников пытается помочь, но чаша уже переполнена, и он злобно восклицает: «Да пусть их переглотают друг друга живьем – мне-то чего?»
В этом-то «преступном» состоянии мира совершается преступление Раскольникова.
О Раскольникове, задумавшем убить богатую старуху, говорится, в частности: «Он решил… что задуманное им – „не преступление“…» Здесь перед нами сложная «игра» со словом, – разумеется, не некое развлечение, а трагическая «игра», чреватая тяжкими последствиями. Раскольников прав в том отношении, что его поступок по своим мотивам и целям далеко выходит за собственно юридические рамки. Поначалу, не вникнув в глубину дела, можно еще полагать, что Раскольников стремится, убив богатую старуху, добыть средства для окончания своего образования и помощи семье. Есть как будто бы и более далекие планы: принести затем пользу человечеству, «облагодетельствовать» его за счет никому не нужной злой старухи. Однако Раскольников не только никак не воспользовался украденными ценностями (кстати, даже не пересчитал их), но, как выясняется позднее, даже заранее знал, что не воспользуется ими.
Словом, его деяние по своим глубоким внутренним мотивам не преступление в юридическом смысле, которое всегда подразумевает вопрос: кому (и почему) это выгодно? Он совершает убийство не ради какой-либо корысти, не потому, что он зол и жесток по природе, и даже не в целях «мести» обществу и т. п.
Но в то же время деяние Раскольникова есть преступление в самом глубоком и остром смысле. Он говорит Соне: «если б только я зарезал из того, что голоден был… то я бы теперь… счастлив был! (Курсив Достоевского. – В. К.)». Да, его деяние страшнее всякого обыкновенного преступления, ибо он не просто убил, а хотел утвердить правоту убийства, утвердить само право на преступление.
В связи с этим очень важно учитывать один из аспектов содержания романа. Раскольников убил ведь не только старуху процентщицу, он обрушил свой топор и на ее сестру Лизавету – забитое и безответное существо, полное кротости и смирения, – ту Лизавету, которая еще недавно чинила его, Раскольникова, рубаху… Она была близка с Соней Мармеладовой, была даже на нее похожа. Когда Раскольников признался Соне в убийстве, он «вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы…». Убить Лизавету – как бы то же самое, что убить Соню… Сам Раскольников восклицает: «Лизавета! Соня! бедные, кроткие, с глазами кроткими… милые!.. Все, все отдают… глядят кротко и тихо…»
Эти слова об убитом им же человеке не воспринимаются как цинизм. А между тем, казалось бы, убийство Лизаветы гораздо ужаснее, чем убийство злой и деспотичной стяжательницы.
Кстати сказать, в первоначальном варианте романа преступление Раскольникова усугублялось тем, что Лизавета была беременна: «Ее же потрошили. На шестом месяце была. Мальчик. Мертвенький», – рассказывала там кухарка Настасья. Достоевский счел эту страшную подробность излишней.[73]73
Между прочим, Достоевский (подобные веши неоднократно с ним случались в той спешке, с которой нужда заставляла его заканчивать свои романы), по-видимому, забыл изъять из окончательного текста замечание студента (рассказывающего о старухе), что Лизавета-де «поминутно была беременна». Это был, как мне кажется, подступ к страшной развязке, но он так и остался в романе без последствий.
[Закрыть]
Кто знает, может быть, поначалу «центр тяжести» должен был, по замыслу художника, падать именно на убийство кроткой Лизаветы – этой «сестры» Сони? Но в законченном романе оно, это убийство, отошло на второй план, оно только лишь подчеркивает роковой характер преступной «теории» Раскольникова.
«Бедная Лизавета, – размышляет Раскольников. – Зачем она тут подвернулась. Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал?..» Соне он объясняет, что убил Лизавету «нечаянно».
И в самом деле: Раскольников убил Лизавету в состоянии крайнего смятения, почти безумия и к тому же как бы ради самозащиты. Между тем старуху он убивал совершенно сознательно, ради утверждения правоты убийства. Это как бы убийство человека вообще, убийство, после которого можно убивать всех и каждого. И в сравнении с этим преступлением «нечаянное» убийство Лизаветы действительно как бы даже не преступление, а дикий поступок, совершенный в невменяемом состоянии.
Правда, гибель Лизаветы резко и остро обнажает страшный смысл деяния Раскольникова: подчинившись своей «теории», он как бы вынужденно убивает тут же и того, кого не собирался, не хотел убивать. Его преступление словно порождает цепную реакцию. И все же убийство Лизаветы прежде всего с особой силой выявляет ни с чем не сравнимый смысл убийства старухи процентщицы. Эта вторая «роль» образа Лизаветы, в сущности, значительно важнее. При «обычном» преступлении убийство кроткой Лизаветы вызывало бы гораздо большее возмущение, нежели убийство ее злобной и корыстной сестры. Но, воспринимая «Преступление и наказание», мы (как и сам герой) гораздо меньше думаем об убийстве Лизаветы. Подчас ее образ не упоминается в рассуждениях о романе, в то время как убийство процентщицы всегда оказывается в центре внимания. Уже в самом начале романа, в первом же внутреннем монологе Раскольникова, звучит главный мотив: «На какое дело хочу покуситься!.. – говорит себе герой. – Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это?» (Курсив Достоевского. – В. К.)
В этом размышлении нет мелодраматического преувеличения смысла задуманного поступка: ведь речь идет о покушении на своего рода основной закон человеческого бытия. Решившись на убийство, Раскольников скажет себе так: «Все – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!»
Своим деянием Раскольников именно и хочет практически доказать, и себе, и в конечном счете всему миру, что «нет никаких преград», через все можно переступить. Если это действительно так, если человека в тех или иных его стремлениях останавливают только предрассудки или страх, значит, подлинным человеком будет лишь тот, кто осмелится «переступить» через что угодно…
Много говорилось о «параллелизме» основных образов «Преступления и наказания», о прямых сопоставлениях судьбы или сознания Раскольникова и Лужина, Свидригайлова, Мармеладова, Сони. Эти сопоставления непосредственно, открыто, даже подчеркнуто проведены в самом романе. Так, Раскольников прямо говорит о том, что из убеждений Лужина естественно вытекает его, раскольниковская, «теория»; Свидригайлов заявляет Раскольникову: «Между нами есть какая-то точка общая»; предполагаемый брак сестры Раскольникова с Лужиным приравнивается «жертве», принесенной дочерью Мармеладова; Раскольников говорит Соне: «Ты тоже переступила…» – и т. п.
Эти сопоставления, как обычно указывается, призваны «оттенить» образ Раскольникова, бросить на него определенный свет. Но дело не только в этом. Не менее существенно, что все эти образы «переступающих» людей создают то общее состояние мира, в котором совершается главное преступление – убийство. Это изображенное в романе всеобщее преступление, переступание сложившихся за века норм и границ бытия имело, конечно, свой очень существенный смысл.
Величие Достоевского-художника обусловлено, в частности, тем, что он с поразительной остротой и глубиной осознавал всю грандиозность и далеко идущие последствия той исторической ломки, которая началась в России в 60-х годах XIX века. Он чувствовал, что надвигаются невиданные по размаху социальные, технические, идейные и нравственные перевороты, которые действительно и произошли уже после его смерти, в XX веке.
И главное здесь вовсе не в прямых «пророчествах» и предсказаниях будущих событий (хотя и их можно найти у Достоевского), а в необычайно ясном и углубленном видении тогдашних, современных Достоевскому процессов и фактов, в которых выражалась подготовка и нарастание грядущего всемирно-исторического переворота.
Достоевский вполне определенно говорил о том, что в современном ему обществе господствует «чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение… Прежний мир, прежний порядок… отошел безвозвратно… Все переходное, все шатающееся». Вскоре после окончания «Преступления и наказания» он писал: «Порассказать толково то, что мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии, – да разве не закричат… что это фантазия!»
Конечно, это «чрезвычайное потрясение» только лишь началось в эпоху, когда Достоевский создавал «Преступление и наказание», и лишь наиболее чуткие и проницательные люди могли предвидеть его последствия. Те процессы и факты, которые поставил в центр внимания Достоевский, многим его современникам представлялись всего лишь случайными и исключительными явлениями, не воплощавшими в себе существа исторического развития. И само отражение этих явлений в романах Достоевского многие рассматривали именно как «фантазию» или в лучшем случае как опыт изображения неких патологических и уникальных характеров и ситуаций.
Так, даже в 1882 году популярнейший тогда критик Н. К. Михайловский писал о творчестве Достоевского: «Изображений простой, обыденной, типической жизни… нет и в помине. Напротив, все вычурно, необыкновенно, случайно… „Преступление и наказание“, „Идиот“, „Бесы“ переполнены всякого рода редкостями, исключительными явлениями». Между тем Достоевский уверенно говорил о том, что воссоздание всех этих «фантастических» явлений – «исконный, настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже… плавает».
«Если в этом хаосе, в котором давно уже… пребывает общественная жизнь, и нельзя отыскать еще нормального закона… – писал Достоевский, – то, по крайней мере, кто же осветит хотя бы часть этого хаоса?.. Кто хоть чуть-чуть может определить законы и… разложения, и нового созидания?»
О жизненных фактах, которые стали для Достоевского предметом художественного освоения, он писал: «В каждом нумере газет вы встречаете отчет о самых действительных фактах и о самых мудреных. Для писателей наших они фантастичны; да они и не занимаются ими; а между тем они действительность, потому что они факты. Кто же будет их замечать, их разъяснять и записывать? Они поминутны и ежедневны, а не исключительны… Мы всю действительность пропустим этак мимо носу».
Стремясь схватить существо «чрезвычайного потрясения», обусловленного начавшимся переходом к новому состоянию мира, Достоевский обращается именно к конкретным жизненным фактам – в том числе к тем, которые повседневно отражаются на страницах газет. В самом начале работы над «Преступлением и наказанием» он писал, объясняя реальные истоки своего замысла: «Есть… много следов в наших газетах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела».
Повторяю: все это было только начало, только первое проявление грядущих переворотов и катастроф. Поверхностному взгляду новые факты представлялись «исключительными» и «фантастичными» явлениями в жизни России, своего рода социальной или даже чисто психологической патологией. Но в глазах Достоевского это были центральные и наиболее полные смысла факты. Исходя из этих «фактов действительной жизни», Достоевский и создал образы Раскольникова, Свидригайлова, Мармеладова, Сони, Лужина – этих «переступающих» привычные нормы людей – и весь «преступный» мир своего романа.
Как и всякий художник, Достоевский изображал не столько само по себе «чрезвычайное экономическое и нравственное потрясение», сколько его последствия в личном поведении и сознании людей. Пользуясь его собственным, уже цитированным, определением, он повествовал о том, что «мы все, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии». Десять лет – это время от первых известий о крестьянской реформе в 1856 году до выстрела покушавшегося на жизнь царя Дмитрия Каракозова, выстрела, который прозвучал 4 апреля 1866 года – в самый разгар работы над «Преступлением и наказанием».
Существует рассказ современника о том, как воспринял это покушение Достоевский: «В комнату опрометью вбежал Федор Михайлович Достоевский. Он был страшно бледен, на нем лица не было, и он весь трясся, как в лихорадке.
– В царя стреляли! – вскричал он, не здороваясь с нами, прерывающимся от волнения голосом. Мы вскочили с мест.
– Убили? – закричал Майков каким-то нечеловеческим, диким голосом.
– Нет… спасли… благополучно… но стреляли… стреляли… стреляли… стреляли…»
Если внимательно вдуматься в этот текст (особенно в это четырехкратное «стреляли…»), станет очевидно, что Достоевский более всего поражен самим фактом: кто-то осмелился стрелять в царя! Убит ли царь или остался жив – это для него уже явно второстепенный вопрос.
И этот факт в самом деле не мог не поразить чуткий разум. Конечно, в России и раньше не раз покушались на жизнь властителей. Но то были тайные заговоры приближенных – заговоры, о которых никто, кроме высшей знати, не знал ничего достоверного. Между тем 4 апреля 1866 года никому не известный человек средь бела дня и при большом стечении народа выстрелил в царя – человека, в котором подавляющее большинство населения России видело Божьего помазанника, неприкосновенную и священную личность. В то время почти нельзя было предположить возможности подобного выстрела (достаточно сказать, что царь до этого момента постоянно совершал прогулки по улицам Петербурга без специальной охраны). И вот нашелся человек, дерзнувший «преступить» еще священную в глазах миллионов людей особу…
Это было одним из ярчайших выражений той самой стихии «преступления», «переступания» всех границ, которая художественно воплотилась в создаваемом именно тогда романе Достоевского.
Связь между фактами, подобными выстрелу Каракозова, и содержанием романа заметить было нетрудно. И вполне естественно, что роман многими был воспринят как роман о «нигилистах» – так тогда обычно называли революционно настроенную, отрицавшую устои сложившейся жизни и культуры молодежь.
Первым романом о «нигилизме» были, как известно, тургеневские «Отцы и дети» (1862). Этот роман был понят одними как пасквиль на нигилистов, а другими – как их славословие. Едва ли будет ошибкой утверждать теперь, что образ Базарова был, по сути дела, объективным отражением такого типа людей 1860-х годов, которые вошли в историю под именем нигилистов.
Но вслед за «Отцами и детьми» один за другим выходят романы Писемского, Лескова, Клюшникова, Авенариуса, Крестовского, Маркевича и т. д., которые в самом деле были заостренно направлены против нигилистов, стремились разоблачить безусловную ложность или даже низменность всех их убеждений и стремлений. Эти романы вполне справедливо называются антинигилистическими.
И при появлении «Преступления и наказания» некоторые критики зачислили его в эту рубрику. Причем критики, выступавшие от имени нигилистов, резко обрушились на роман, называя его даже «самым тупым и позорным сочинением» (Г. 3. Елисеев), а противники нигилизма приветствовали роман, видя в нем сокрушительное разоблачение враждебного им идейного течения, да еще взятого «в самом крайнем его развитии» (Н. Н. Страхов).
Правда, один из вождей нигилизма Дмитрий Писарев в своей известной статье «Борьба за жизнь» решительно отказался считать Раскольникова нигилистом. Но, несмотря на это авторитетное мнение, вопрос до сих пор не решен до конца. Еще и в наши дни «Преступление и наказание» подчас истолковывают – хотя и с различными оговорками – как антинигилистический роман.
В «Преступлении и наказании» есть образ, который, безусловно, представляет собой прямое отражение нигилизма 1860-х годов. Причем образ этот – сатирический, даже карикатурный и, следовательно, должен быть понят как образ антинигилистический. Речь идет о Лебезятникове. Однако в данном случае Достоевский изобразил реальную, созданную самой жизнью карикатуру на нигилиста,[74]74
Достоевский прямо говорит в романе, что Лебезятников – «один из того бесчисленного разноликого легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все…».
[Закрыть] и подобные образы, между прочим, можно найти и в «пронигилистических» романах того времени.
Между тем, создавая образ Раскольникова, Достоевский – быть может, без сознательного умысла, но, несомненно, вполне целенаправленно – настойчиво отмежевывает своего героя от нигилистических кружков 60-х годов. Вот, например, характерная деталь: «Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не принимал участия». Глубокая несхожесть Раскольникова с теми человеческими типами, которые можно было встретить в нигилистических кружках 1860-х годов, обнаруживается в целом ряде черт и деталей.[75]75
Об этой несхожести, кстати, говорит в своей статье Писарев.
[Закрыть]
Тем не менее образ Раскольникова и до сих пор нередко истолковывается как попытка воссоздать (и «разоблачить») черты нигилистов 60-х годов. Эта точка зрения выражена, например, даже в комментариях к роману в новейшем издании сочинений Достоевского, – хотя комментарии, казалось бы, должны исходить только из наиболее проверенных и объективных данных. В этих комментариях приводятся, в частности, слова Достоевского: «Все нигилисты суть социалисты», а затем утверждается, что Раскольникова писатель «представляет как последователя социалистических теорий». Между тем Достоевский, словно бы предвидя подобные безапелляционные утверждения, заставил своего героя открыто «отмежеваться» от социалистов. Раскольников иронически говорит о социалистах: «Трудолюбивый народ и торговый; „общим счастьем“ занимаются… Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться „всеобщего счастья“…»
Можно из этого сделать вывод, что Раскольников – против социалистов. Но уж никак нельзя утверждать, что Достоевский хотел «представить» Раскольникова социалистом…
Но кто же такой Раскольников? Излагая замысел «Преступления и наказания», Достоевский писал, что стремится изобразить «необыкновенную шатость понятий», «странные недоконченные идеи» в молодом человеке. Здесь очень важны слова «шатость» и «недоконченность», это опять-таки «ключевые» для Достоевского слова, проходящие через все его зрелое творчество. Один из характернейших его героев (в «Бесах») даже носит фамилию Шатов.
Как известно, одновременно с романом «Преступление и наказание» Достоевский писал повесть «Игрок», замысел которой он наметил так: «Я беру… человека… во всем недоконченного, изверившегося».
Для Достоевского «недоконченность» и «шатость» – это поистине всеобъемлющие понятия, в которых воплощалось его понимание современной России. Достоевский очень ясно и неоднократно формулировал это свое понимание. Он писал, что «нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато», что «все переходное, все шатающееся» и «странно бы требовать в такое время, как наше, от людей ясности»; типичный деятель времени – «деятель неопределенный, невыяснившийся», но «он-то, пожалуй, и носит в себе иной раз сердцевину целого». Именно таков и герой «Преступления и наказания».
Кстати, «недоконченность» и «шатость» воплотились в духовном облике и поведении отнюдь не только Раскольникова, но и большинства героев романа, хотя у каждого глубоко своеобразно. Все они «пошатнувшиеся» – даже Разумихин, который произносит страстные речи в духе почвенничества.[76]76
Течение 1860-х годов, одним из главных представителей которого был сам Достоевский.
[Закрыть] Впрочем, стоит здесь вспомнить «недоконченную» и полную брожения фигуру самого основателя почвенничества и близкого соратника Достоевского – Аполлона Григорьева.
Итак, Достоевский создавал свой роман вовсе не о нигилистах в собственном смысле слова – то есть представителях революционно настроенной молодежи 1860-х годов. Конечно, и нигилисты были людьми, «преступающими» сложившиеся веками нормы и понятия. Но Достоевский ставит проблему гораздо шире. И невозможно сблизить с нигилизмом таких «преступающих» (хотя и совершенно по-разному) героев романа, как Лужин, Свидригайлов, Мармеладов, Соня и т. д. Достоевский имел в виду не настроения революционных кружков, а духовное развитие России в целом, «то, – как он говорил, – что мы все, русские, пережили в последние десять лет».
«Мы все» – это ведь, значит, и сам писатель. Да, самому Достоевскому, безусловно, были присущи и «шатость» и «недоконченность», хотя эти черты в нем – гениальном художнике и мыслителе – воплощались чрезвычайно своеобразно.
Характерно, что незадолго до начала работы над «Преступлением и наказанием» Достоевский собирался критиковать в одной статье сразу два романа – «пронигилистическое» «Что делать?» Чернышевского и антинигилистическое «Взбаламученное море» Писемского. «Две противоположные идеи, и обеим по носу», – сообщал он брату о замысле статьи. Уже это показывает сложность его идеологии.
Не менее замечателен другой факт. Редакция антинигилистического журнала «Русский вестник» отказалась напечатать одну из глав «Преступления и наказания» без кардинальной переделки. «Я написал ее в вдохновении настоящем, – сообщал об этой главе Достоевский, – но… дело у них… в опасении за нравственность… Они видят… следы нигилизма».
Нигилизм в романе, который многие считали антинигилистическим?! Но недаром Н. Н. Страхов позднее резко обвинял в нигилизме самого Достоевского. В конце жизни Достоевский писал: «Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления». И тут же – ответ тем, кто «дразнил» Достоевского верой в Бога: «Этим олухам… и не снилось такой силы отрицание Бога… которое перешел я».








