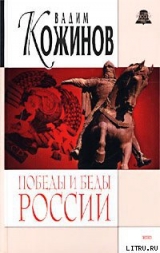
Текст книги "Победы и беды России"
Автор книги: Вадим Кожинов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
И сатана, привстав, с веселием на лике…
Говоря о «необнародованном», естественно обратиться и к стихотворениям о любви – этой извечной поэтической теме. Ее неоценимое значение для поэзии в общем-то совершенно ясно, но именно потому мы редко о нем рассуждаем. Дело в том, что в любви человек способен воплотиться и раскрыться целиком и полностью – от сугубо земной, плотской, телесной, в конце концов, животной своей природы до самых возвышенных, духовных, небесных устремлений. И в тайне реальной любви это единство вроде бы несовместимого осуществляется естественно и органически и, по всей вероятности, знакомо любому человеку, пусть по отдельным и не часто испытываемым чудесным состояниям. В поэзии же, как свидетельствует ее история, воплотить это единство вовсе не просто. И с поистине исключительной, непревзойденной силой воплощена тема столь противоречивой полноты любви в «посмертном» пушкинском стихотворении:
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!
В стихотворение можно долго вглядываться – как в целую многостороннюю поэму (напомню слова Гоголя о том, что в поздних стихотворениях «Пушкин является… обширнее, виднее, нежели в поэмах»); это действительно говорящее о себе бытие, а не речь о нем. Первая же строка – полусознательно или бессознательно – воплощает непреодоленное до конца противоречие: «Нет, я не дорожу…» – убеждает себя… Впрочем, кто убеждает? Может быть, жаждущее безумствующей чувственной любви тело? Или все же тот, для кого действительно несомненно милее «стыдливо-холодно» предающаяся «смиренница»? В стихотворении словно предстает вся цельность любовного бытия – и оно, можно с полным правом сказать, непревзойденно в позднейшей поэзии, где выделяется и подавляет целое отдельная какая-либо «сторона».
Противоречие не преодолено, не снято в пушкинском стихотворении; и в первой, и во второй строфе внятно звучит мотив мук любви, от которых ничто не может спасти и охранить; «исступленье», «язва лобзаний»; но во второй строфе, там, где нет «упоенья», так тревожат слова:
О, как мучительно тобою счастлив я…
Поскольку самые углубленные и, можно даже сказать, таинственные стихотворения Пушкина как бы выведены за пределы хрестоматий, общеизвестное подчас воспринимается слишком прямолинейно и однозвучно. Так, живущее в памяти каждого:
Я вас любил, любовь еще, быть может… —
представляется воплощением полнейшего смирения, безграничной жертвенности истинной любви:
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.
Итак, вроде бы идущее из самой сердцевины души желание: я был бы, мол, счастлив, если бы другой полюбил бы вас так, как я…
Тонкий критик Ирина Роднянская едва ли не первой прочитала здесь иное. Не столь безгранично смиренным, по ее мнению, предстает поэт. «Как дай вам Бог…» Но даст ли Он ей, пренебрегшей столь бесценной любовью? Или хотя бы иной оттенок смысла: только разве сам Бог в Его безмерном милосердии может еще раз одарить ее такой любовью… Но, во всяком случае, «дай вам Бог» вовсе не значит, что поэт готов сделать все для вашего – едва ли «заслуженного» – счастья… И тот прямолинейный «смиренный» смысл, который нередко пытаются увидеть в стихотворении, по сути дела, был бы фальшив, особенно в контексте пушкинского творчества в целом…
…Существует имеющая долгую традицию поэтическая тема безумия. В «посмертном» наследии Пушкина представлено воистину гениальное стихотворение, опять-таки воспринимаемое как поэма – хоть и всего из тридцати коротких (состоящих из семи-восьми слогов) строк:
Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, легче посох и сума;
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был не рад:
Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
Нестройных чудных грез.
И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
Ломающий леса.
Прерву стихотворение, чтобы сказать о проницательном наблюдении одного из лучших пушкиноведов нашего времени – Валентина Непомнящего: «пустые небеса» означают небеса, в которых нет Бога, и только безумец может исполниться счастья, глядя в них…
Но читаем далее:
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
Дразнить тебя придут.
А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
Да визг, да звон оков.
Не могу еще раз не заметить, что это стихотворение по своему видению бытия опять-таки пребывает как бы впереди нас; наши потомки, мне кажется, воспримут его внятнее и глубже, чем мы…
* * *
Несколько стихотворений, которых я здесь коснулся, конечно, не заменяют всю «посмертную книгу», о которой идет речь и в которую уместно включить несколько десятков пушкинских стихотворений конца 1820–1830-х годов. В частности, поражает та «разносторонность», о которой сказал Гоголь. Рядом с воплощениями острого драматизма и трагедийности бытия (явного в приведенных стихотворениях) поэт создает образы такого скудного – будто бы совсем убитого ничтожной тщетой – существования, которое вроде бы и нельзя назвать «бытием». И снова, прошу извинить меня, приходится говорить о непревзойденности этого пушкинского воплощения, притом не только в поэзии, но, пожалуй, даже и во всей позднейшей прозе:
…Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,[64]64
Я ставлю это немаловажное ударение в соответствии с общими «показаниями» «Словаря языка Пушкина» (т. 1, с. 630), хотя данный случай акцентирован там, как я полагаю, неверно.
[Закрыть]
Два только деревца, и то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено…
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил…
Существование, пожалуй, безнадежнее, чем то, о котором Александр Блок в следующем столетии напишет:
…Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.
Но главное, по-видимому, что Пушкин все же дал этому вроде бы небытию вечное поэтическое бытие, и достаточно одного проникновенного повтора:
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца… —
чтобы мы почувствовали: бытие есть и здесь, хоть «на дворе живой собаки нет»… И еще стоит напомнить: это то самое Болдино, та осень 1830-го…
Позднее, возвращаясь в 1833 г. из Болдина, поэт воссоздал, в сущности, явление из той же самой жизни, прервав себя на строках заветной песни, и стихотворение также осталось в рукописи, в «посмертной книге», которая столь недостаточно известна и по сию пору:
В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.
Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальный вой.
Пой: «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь?»
Как, значит, может обернуться жизнь – ведь ямщик этот наверняка именно оттуда, где «два только деревца…». Стоит добавить, что это «сопоставление» – поэт и ямщик – постоянно и очень существенно для Пушкина; он воспринимал себя и ямщика как «родных» людей:
Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская…
Уже говорилось, что ряд «посмертных» стихотворений Пушкина незавершен, и естественно видеть причину в отсутствии намерения «обнародовать» эти стихотворения. Но в большинстве случаев в незавершенных стихотворениях полнокровно воплощен их основной смысл, и незаконченность нисколько не мешает нам воспринимать то же восьмистишие «Пора, мой друг, пора!..» (Кстати сказать, достаточно много великих или даже величайших творений мировой литературы не были завершены авторами.)
Некоторые рукописи «посмертных» пушкинских стихотворений, поскольку поэт ни в коей мере не подготовил их к публикации, пришлось впоследствии буквально расшифровывать. Лучше всех это делал прямо-таки фатально влюбленный в Пушкина Сергей Михайлович Бонди. Не могу умолчать, что в 1951–1952 гг. с благоговением слушал его лекции в Московском университете, ставшие для многих основой филологической, да и общей культуры (хотя сейчас господствует мнение, что в те годы культуры-де вовсе не было). По трудно читаемой копии Сергей Михайлович восстановил одно из «посмертных» стихотворений Пушкина (прототипом «героя» стихотворения был, по-видимому, популярный в 1820–1830-х годах и хорошо знакомый поэту московский либерал Г. А. Римский-Корсаков – хозяин замечательного дома на Пушкинской-Страстной площади, в 1972 г. варварски уничтоженного ради расширения комплекса зданий газеты «Известия»):
Ты просвещением свой разум осветил,
Ты правды чистый лик увидел,
И нежно чуждые народы возлюбил,
И мудро свой возненавидел.
Когда безмолвная Варшава поднялась
И ярым бунтом опьянела,
И смертная борьба меж нами началась
При клике «Польска не згинела!» —
Ты руки потирал от наших неудач,
С лукавым смехом слушал вести,
Когда разбитые полки бежали вскачь
И гибло знамя нашей чести.
Когда ж Варшавы бунт раздавленный лежал
Во прахе, пламени и в дыме,
Поникнул ты главой и горько возрыдал,
Как жид о Иерусалиме.
Многие назовут это стихотворение «политическим», некоторые скажут, что оно звучит удивительно злободневно. Но для Пушкина поэзия была, конечно же, «выше» политики; он ведь говорил, что поэзия «выше нравственности» (даже!). И это стихотворение не злободневно, а вечно – независимо от каких-либо политических ситуаций. Пушкин – о чем свидетельствует и целый ряд других его произведений – отнюдь не предлагал «потирать руки» потому, что бунт Варшавы «раздавлен». Нельзя не сказать и о том, что слово «жид» в пушкинские времена не имело однозначно «бранного» (как не имеет и теперь в чешском и польском языках), а кроме того, «жид», рыдающий об утраченном Иерусалиме, – это, конечно, истинно драматический образ.
Но, изображая драму московского либерала, поэт никак не мог «одобрять» столь характерную для значительной части российской публики «извращенность», выражающуюся и в «мудрой» ненависти к своему народу, и в том, что вести о поражениях русских полков слушают с «лукавым смехом»…
«Политические» стихотворения Пушкина часто как бы вводят в русло общепринятых понятий. Между тем в зрелом творчестве Пушкина явлена вовсе не политика, а проникновенная поэтическая историософия. Так, в стихотворении «К вельможе» Пушкин в немногих строках сказал о том, что свершилось в мире с 1789-го по 1830-й – сказал навечно (стоит заметить: в наше время не явился еще поэт, могущий действительно говорить о 1917–1991 гг.).
Все изменилося. Ты видел вихорь бури,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон.
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы,
Преобразился мир при громах новой славы.
…
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход…
Между тем об этом послании князю Н. Б. Юсупову судили в терминах мелкого политиканства, и такая «реакция» послужила, по-видимому, последним толчком для решения поэта не «обнародовать» лучшие свои стихотворения…
О совокупности тех стихотворений Пушкина, в которой я склонен видеть его «посмертную книгу», можно сказать еще очень и очень многое (я не касаюсь целого ряда из созданных поэтом в конце жизни и не опубликованных им глубочайших стихотворений религиозного содержания; замечательно, что он вступил на эту стезю только на высшей ступени своей творческой и человеческой зрелости). Для обсуждения проблемы, которой посвящена статья, достаточно уже приведенных «примеров». Основываясь на цитированных выше стихотворениях, едва ли кто мог бы сказать так, как сказал Тургеневу Флобер: «Он плоский, этот ваш поэт».
Впрочем, возразят мне, это же слова иностранца. Что ж, обратимся к Л. Толстому, который, разумеется, исключительно высоко ценил Пушкина, но тем не менее решительно заявил: «Тютчев как лирик несравненно глубже Пушкина». Не просто «глубже», а «несравненно»! И значит, пушкинская поэзия «несравненно» более плоская, чем тютчевская. Трудно усомниться в том, что, освоив в полной мере «посмертную книгу» Пушкина, Толстой так бы не сказал… Но, хотя это звучит неправдоподобно, стихотворения, которые Пушкин не «обнародовал», словно обращая их к будущему, и в XIX, и даже в XX веке оставались, по сути дела, в тени.
И причина, по-видимому, в том, что еще при жизни Пушкина создался, откристаллизовался его «канонический» образ – ясный, светлый, как бы легко веющий над миром гений (характерно блоковское слово: «веселое имя – Пушкин»). Поздние стихотворения, хотя бы те, которые цитировались мною, явно отклонялись от этого уже привычного образа, и потому их – вероятно, совершенно бессознательно – редко включали (или же совсем не включали) в книги избранных произведений поэта, хрестоматии и т. п. и уделяли им мало внимания (либо вообще не уделяли) в литературе о Пушкине. Между тем эти стихотворения – не только вершинные явления пушкинской лирики, но и, если угодно, ключ к его поэзии в целом. Эти стихотворения не просто помогают, но заставляют понять всю безосновательность представления о «плоскости», общедоступной «простоте» Пушкина. Но то, что очевидно предстало в поздних стихотворениях, конечно же, назревало в более ранних, так или иначе присутствовало в них.
Стихотворения Пушкина, обращенные им в будущее, позволяют разгадать тайну двойственности его образа, о которой шла речь в начале этой статьи, – Пушкин как самый общедоступный и как самый непостижимый поэт. Многие полагают, что виднейшие поэты XX века проникли в глубины, к которым Пушкин-де и не прикасался. Но это мнимое «превосходство». В действительности в поэзии XX столетия крупным планом предстают те или иные резко выделенные грани человеческого бытия, что внушает мысль о не имевшей места ранее проникновенности художественного видения. У Пушкина же – глубочайшее постижение той цельности бытия, которая уже не подвластна поэтам нашего века. Об этом замечательно сказал Михаил Пришвин, размышляя о «Медном всаднике»: «Как мог Пушкин, заступаясь за Евгения, возвеличить Петра? Как это можно так разделить себя? Наверно, надо быть очень богатым душой и мудрым… Пушкин, замученный мыслью о судьбе бедного Евгения, вдруг как будто на берег океана выходит и говорит: „Красуйся, град Петров, и стой!“…» Неточно здесь, по-моему, только слово «разделить себя»: Пушкин именно не «разделялся», он схватывал бытие в его целостности…
Каждый человек в детскую свою пору способен переживать бытие как целое, хотя, конечно, это только неосознанное переживание, которое к тому же с годами утрачивается, сохраняясь, скорее, в качестве воспоминания о давнем «даре», чем в качестве реальной способности. Но эта живущая в любом из нас память обусловливает «общедоступность» Пушкина. Вместе с тем, поскольку в пушкинской поэзии постижение целостности бытия вполне реально, она предстает перед нами как не раскрываемая до конца тайна, как воплощение высшей, Божественной мудрости. И с этой точки зрения поэзия Пушкина обращена к «русскому человеку в его развитии», в будущее. Но, чувствуя и понимая, что пушкинская поэзия всегда впереди нас, мы тем самым и делаем ее нашим бесценным достоянием…
Глава пятая
СОБОРНОСТЬ ЛИРИКИ Ф. И. ТЮТЧЕВА
5 декабря (23 ноября по старому стилю) 1803 года в селе Овстуг, расположенном на берегу Десны, в сорока верстах от Брянска, явился на свет человек, чье духовное наследие будет жить, пока вообще будет жива русская и мировая культура. В 1883 году – в восьмидесятую годовщину со дня рождения Федора Ивановича Тютчева – его младший современник Афанасий Фет сказал о книге стихотворений «обожаемого» им поэта:
Здесь духа мощного господство,
Здесь утонченной жизни цвет…
И в самом деле: в тютчевской поэзии – притом не только во всей ее целокупности, но и в большинстве отдельно взятых стихотворений – нерасторжимо слиты предельная мощь и столь же предельная утонченность – качества, казалось бы, крайне трудно или даже вообще несоединимые…
Как же это могло совершиться? Если сразу предложить краткий ответ на сей вопрос, уместно сказать, что в поэзии Тютчева воплощено духовное состояние (и порожденное им творческое деяние), исстари определяемое словом соборность. Но такой ответ требует пояснений, ибо понятие о соборности сложно и емко по своему содержанию, а кроме того, его сплошь и рядом толкуют неверно, в сущности подменяя другим понятием, которое обозначается словом «общинность».
Общинность – это единение людей, единение добровольное (иначе перед нами явится не община, а казарма), но все же так или иначе, в той или иной мере означающее ограничение собственно личных человеческих качеств и устремлений, подчинение личности определенным общим интересам и целям. Между тем соборность рождается только при совершенно свободном, ничем не связанном и не ограниченном самораскрытии личности. Такова соборность общей молитвы, в которой отдельные люди сливаются воедино отнюдь не потому, что подчиняют себя каким-либо лежащим вне их личности стремлениям; каждый обращается к Богу как раз из самой глубины своей личности, и полнота слияния, единство молящихся определяется вовсе не их подчинением «общему», но, напротив, полнотой их всецело личного самораскрытия перед высшим (а не «общим») началом.
Есть точка зрения, согласно которой соборность, определяемая в этом духе, есть именно только религиозное (и церковное) понятие. Но это верно лишь в том отношении, что соборность выступает в жизни Церкви с наибольшей ясностью и чистотой. Вместе с тем соборность может воплощаться и в иных актах поведения объединившихся людей – в подвигах, совершаемых во имя Отечества, или ради торжества справедливости, или в целях освоения еще не подвластных человечеству пространств мира и т. д. В высших проявлениях этих человеческих деяний органическая воля личности способна на безупречно свободной основе слиться с другими личными волями в стремлении к не замутненному какой-либо узколичной, частной корыстью идеалу.
Мы говорим о соборности как о качестве, о характере реального деяния. Но этому деянию, конечно, должна предшествовать или непосредственно сопутствовать соборность самого сознания, соборность как основа «деяния» самих человеческих душ, как основа переживания бытия. И переживание бытия, воплощенное в поэзии Тютчева, насквозь проникнуто соборностью, и именно потому в этой поэзии цветенье утонченной жизни личности нераздельно слито с господством мощного духа, который осуществляется в целом народа и, далее, в целом человечества.
Чтобы подтвердить этот тезис, я буду рассматривать не столько содержание поэзии Тютчева, сколько ее форму, – притом чисто «внешнюю», грамматическую ее форму. В чем преимущество такого подхода к делу?
Любое толкование «внутреннего» смысла поэзии неизбежно имеет субъективный, более или менее произвольный характер. Если я говорю, что поэт «выразил» в своих стихотворениях такой-то и такой-то смысл, другой человек имеет полную возможность оспорить мои суждения и предложить иное истолкование смысла этих стихотворений.
Но если речь идет об элементах словесной формы, наглядно и неопровержимо предстающих перед нами в текстах стихотворений, тут уже спорить нелегко или даже невозможно.
Впрочем, мне могут возразить, что, мол, форма эта все же только форма, и мы должны не застревать на ней, а стремиться проникнуть в находящееся «под ней» содержание. К сожалению, такое представление о поэтической форме очень широко распространено. Между тем в действительности поэтическая форма целиком и полностью содержательна; она в конечном счете представляет собой не что иное, как явленное, непосредственно данное нам содержание, которое мы постигаем и усваиваем, воспринимая именно и только форму. Любой ее элемент исполнен смысла, но, поскольку нам-то как раз и нужен и дорог смысл, притом целостный смысл стихотворения, мы склонны пренебрегать формой, видеть в ней лишь своего рода «одежду» содержания.
Это совершенно неверно; поэтическая форма, повторюсь, и есть содержание, как оно явлено для нас, для нашего непосредственного восприятия, и потому в содержании нет ничего, чего не было бы в форме. Часто говорят о «подтексте» стихотворения, который будто бы не воплощен, не явлен во внятном нам тексте. Но если бы «подтекстового» пласта смысла действительно не было в тексте как таковом, мы вообще не могли бы его постичь; «подтекст» – это всего лишь обозначение наиболее тонких, наиболее трудно уловимых элементов самого текста, то есть формы.
После этих необходимых соображений общего характера обратимся к поэзии Тютчева. Никто, думаю, не сомневается в том, что в его стихотворениях перед нами предстает исключительно высокоразвитая жизнь человеческой души, притом жизнь глубоко личностная, абсолютно свободная от каких-либо «внеличных» требований и условий, жизнь – исходя из фетовского определения – цветуще-утонченная.
Такое поэтическое содержание вроде бы должно восприниматься как нечто замкнутое в себе и способное заинтересовать других людей, читателей, в качестве своего рода уникума, экзотического образчика изощренных душевных состояний. Нередко поэзию Тютчева и толковали именно в этом плане. Так, влиятельный в начале XX века критик и литературовед Аркадий Горнфельд писал о Тютчеве, основываясь на его знаменитом стихотворении «Silentium!» («Молчание!»): «автор „Silentium!“, он творил почти исключительно „для себя“, под давлением необходимости высказаться перед собой и тем уяснить себе самому свое состояние».
Сразу же скажу, что эти утверждения явно противоречат действительному положению вещей: ведь множество людей постоянно повторяет тютчевские строки из «Silentium!»:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства, и мечты свои…
– повторяет как свое собственное достояние, как воплощение органически своего переживания. Впрочем, об этом удивительном стихотворении мы еще будем говорить. Но каждый, конечно, согласится с тем, что тютчевские «Люблю грозу в начале мая…» или «Я встретил вас, и все былое…» все мы постоянно повторяем в качестве именно нашего, всецело своего достояния.
Любопытно, что другой толкователь поэзии Тютчева, известный в свое время литературовед и искусствовед Борис Михайловский, недвусмысленно отмечая в своей статье, опубликованной в 1939 году, что в строках «Молчи, скрывайся и таи» и т. д. воплощены «мотивы замкнутости, изолированности личности», вместе с тем утверждал:
«Однако не эти моменты определяют основную направленность и своеобразие поэзии Тютчева. Поэт стремится передать не свои особенные, индивидуальные переживания или произвольные фантазии, но постичь глубины объективного бытия, положение человека в мире, взаимоотношения субъекта и объекта и т. д. Психологические состояния, личные душевные движения Тютчев дает как проявления жизни мирового целого».
Итак, у Тютчева, мол, есть стихотворения, выражающие принципиальную «замкнутость» и «изолированность» личности, но в то же время есть и другие, где «личные душевные движения» представлены, напротив, как «проявления жизни мирового целого». Последнее, в общем, верно, однако никак нельзя согласиться с тем, что для достижения этого результата Тютчев будто бы поставил перед собой цель «передать не свои особенные, индивидуальные переживания», а, якобы преодолев их, отказавшись от них, «постичь глубины объективного бытия».
То явление, которое обозначается словом «соборность», рождается именно тогда, когда «глубины объективного бытия» свободно и естественно сливаются с глубинами существования личности, и чем глубже самораскрывается личность, тем полнее ее единство с «жизнью мирового целого».
И, если выразиться кратко и просто, в основе тютчевского творчества лежало стремление соединить, слить свое глубоко личное переживание бытия с переживаниями каждого, любого человека и всех людей вообще – то есть, если угодно, с мировым целым. В своем стихотворении на смерть Гёте поэт так определил основу превосходства германского гения над современниками:
На древе человечества высоком
Ты лучшим был его листом…
С его великою душою
Созвучней всех на нем ты трепетал!
Итак, высшая цель – быть наиболее «созвучным» с «великою душою» всего «древа человечества». Могут возразить, что этой цитаты недостаточно для доказательства тезиса о владевшем Тютчевым стремлении к единству с «мировым целым», со всеми и каждым человеком. И вот здесь-то и уместно или даже необходимо обратиться к самим тютчевским текстам, к форме его поэзии, где наглядно, осязаемо запечатлено это властное стремление.
Все знают, что лирическая поэзия воплощается, как правило, в речи от первого лица в единственном числе – в речи от «я» (в ней употребляются также «меня», «мне», «мое» и т. д.) – Между тем для глубоко лирической поэзии Тютчева типично, как это ни странно на первый взгляд, множественное число – речь от «мы» (и также «нас», «нами», «о нас», «наше» и т. д.). Количество приводимых мною далее «примеров» этой формы речи у Тютчева, возможно, покажется чрезмерным; но, во-первых, не многие цитаты могут быть поняты как некие случайные исключения, а во-вторых, вполне уместно привести многочисленные строки великого поэта, которые своим сияньем напомнят о тех десятках стихотворений, откуда они извлечены:
И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены…
Когда, что звали мы своим,
Навек от нас ушло…
Но силу мы их чуем,
Их слышим благодать…
Что в существе разумном мы зовем
Божественной стыдливостью страданья…
Как увядающее мило!
Какая прелесть в нем для нас…
Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья…
И тяготеющий над нами
Небесный свод приподняли…
И бездна нам обнажена
С своими страхами и мглами…
Но, ах, не нам его судили:
Мы в небе скоро устаем…
Она с небес слетает к нам —
Небесная к земным сынам…
Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется…
Та непонятная для нас
Истома смертного страданья…
Стоим мы смело пред Судьбою,
Не нам сорвать с нее покров…
Своей неразрешимой тайной
Обворожают нас они…
Лишь в нашей призрачной свободе
Разлад мы с нею сознаем…
Как нас не угнетай разлука,
Но покоряемся мы ей…
Чему бы жизнь нас не учила,
Но сердце верит в чудеса…
Когда дряхлеющие силы
Нам начинают изменять…
Две силы есть – две роковые силы,
Всю жизнь свою у них мы под рукой…
Природа знать не знает о былом,
Ей чужды наши призрачные годы…
Итак, строки из множества различных стихотворений ясно свидетельствуют, что поэт постоянно вливает свое «я» в «мы», – притом в стихотворениях сугубо лирических, даже «интимных», сокровенных… И притом перед нами только одно – открытое, прямое – воплощение этой его творческой воли. Как бы присоединить к себе всех и каждого можно и в иных грамматических формах. Так, обращение к «ты» и – еще более явно – к «вы» в сущности подразумевает то же самое всеобщее «мы» (то есть «я» и «ты» – каждое, любое «ты», – взятые совместно):
Ушло, как то уйдет всецело,
Чем ты и дышишь и живешь…
Каким бы строгим испытаньям
Вы ни были подчинены…
Над вами светила молчат в тишине,
Под вами могилы – молчат и оне…
То же значение имеет и глагольная форма, обращенная к «ты», хотя само это местоимение отсутствует:
Смотри, как облаком живым
Фонтан сияющий клубится…
И в стихотворении, о котором еще будет речь:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои…
Кстати сказать, подчас «ты» явно, открыто переходит у Тютчева в «мы»:
И рад ли ты, или не рад,
Что нужды ей? Вперед, вперед!
Знакомый звук нам ветр принес…
И ты ушел, куда мы все идем…
Прямо-таки поразительно, что Тютчев иногда уклоняется от формы «я» даже и в своей любовной лирике, где, казалось бы, просто неуместно «мы»! Вот строки стихотворений из «денисьевского цикла»:
О как убийственно мы любим…
Нежней мы любим и суеверней…
Все это не могло быть чем-то случайным и несущественным. Правда, едва ли есть основания полагать, что Тютчев сознательно и целенаправленно «заменял» естественное для интимной лирики «я» на «мы» и другие имеющие аналогичное значение формы.
Здесь действовал не рассудок, а стихийная творческая воля, стремящаяся воплотить «я» в органическом единстве с «мировым целым», со всем «древом человечества высоким». Нередко эта воля открыто, обнаженно воплощалась в самой грамматической форме, но она, конечно же, воплощена и в тех стихотворениях, где речь от «мы» (и иные аналогичные формы) отсутствует.
И тщательный анализ таких стихотворений способен это раскрыть, хотя указанная творческая воля запечатлелась в них не столь наглядно и неоспоримо.
Словом, приведенные мною строки, в которых вместо законного, казалось бы, «я» выступает «мы», следует воспринимать как своего рода ключ к тютчевской поэзии, позволяющий открыть ее особенный закон, ее безусловную соборность.
В поэзии Тютчева вольно самораскрывается утонченная, развитая до предела личность, но в то же время дверь этой поэзии как бы настежь отворена всем, каждому, готовому свободно влить свое сокровенное «я» в соборный хор.
Обратимся в заключение к тютчевскому стихотворению, начинающемуся общеизвестной строфой:
Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои —
Пускай в душевной глубине
Встают и заходят оне
Безмолвно, как звезды в ночи, —
Любуйся ими – и молчи…
Как уже говорилось, в этом стихотворении обычно усматривают утверждение фатальной замкнутости и изолированности человеческой личности. Однако почему же любой вдумчивый читатель Тютчева с таким упоением принимает это стихотворение? Дело, очевидно, в том, что в целостном контексте тютчевской поэзии оно предстает вовсе не как символ разобщенности людей; его смысл, напротив, в утверждении высшего, благороднейшего человеческого единения.
Да, говорит поэт, у каждого из нас – и у тебя, и у меня, и у него – есть такая «душевная глубина», которую невозможно до конца высказать «другому» – невозможно ни мне, ни тебе, ни ему. Но каждый, любой из нас может и должен знать о ее существовании и благоговейно относиться к ней.








