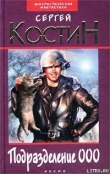Текст книги "Особое подразделение. Петр Рябинкин"
Автор книги: Вадим Кожевников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 24 страниц)
II
Как всегда бывает в пустыне, ночью земля остывала, отдыхала от дневного зноя.
Безоблачное небо застыло прозрачным светящимся слитком над монтажной площадкой.
Сторож спал на алюминиевой раскладушке, накрывшись ватным одеялом.
Рыжая кудрявая дворняжка величиной с детский валенок, лежавшая в ногах у сторожа, соскочила, подошла к Букову, понюхала его ботинки и вдруг встала столбиком, как суслик, выпятив пузо, дружелюбно виляя хвостом. Сторож, проснувшийся оттого, что собачонка его покинула, поднял с земли пачку сигарет, закурил, стал кашлять.
Буков сказал:
– Пес у тебя подхалим.
– Не то слово бормочешь, – обиделся сторож. – Собачка культурная. Привыкла к тому, чтобы ей восхищались, одобряли. А ты хочешь, чтобы я немецкую овчарку держал и она на людей зверем кидалась? Такие злые животные нам вовсе не требуются. Я тут сначала при геологах служил. Все, как один, с образованием. Высшая интеллигенция. Так они из блюдечка молоком трехразовое питание змее-гадине установили. Приучили вместо кошки им услужать. Ни одной мыши на продуктовом складе от того змея не было. Полоз его порода, безъядовая, но все равно – пакость. Как кишка, склизкая. Но они им умилялись, хвалили за то, что мышей жрет, по шкуре рукой гладили. Когда я им замечание делал, вот что говорили: в Египте, дескать, в старинное время змею даже памятник был установлен. Полагают, за то, что в старые времена сильный мор от чумы был, а грызуны заразу переносят. А против грызунов змея – первый борец. Научно сильно во всем ориентировались. Натащат мои геологи в палатку битого камня, в кислоту окунают. Я их учу: «Вы бы камень на спирту настаивали – напиток все-таки». А они стекляшку показывают, спрашивают: «Захар Семенович, по-вашему, что из этого эликсира получится?»
Я человек серьезный, не до баловства, вразумляю:
«Зря вы тут в пустыне копаетесь. Человечество, которое здесь до вас сто веков жило, не зря пустыню пустыней обозвало. Пустыня что значит? Пусто! Ничего нет. Значит, нечего здесь шарить, зарплату зря истреблять».
А они мне про всякие войны, нашествия байки вкручивают, будто от войны пустыни заводятся.
Войну я знаю. Почище их. С басмачами тут сколько на кавалерийской службе сражался. И в Отечественную по состоянию возраста в похоронной команде служил. Вредность войны я знаю. Не побей мы фашистов, они бы всю планету захватили. Но мы их укоротили. Не получилось у них из земли пустыни делать.
Выковыривали геологи тут старинные кости человеческие, хотя и говорили, что кости не их специальность? в древние времена народ сильно от войны погибал, от эпидемий, от голода. И это все на костях отпечатано – кто порубанный, кто просто хилый – от болезней и отощания. Так что по-научному о старой жизни надо рассуждать не по гробницам, минаретам и всяким украшениям из металла, а по костям простого народа.
А по линии перспективы в этой самой пустыне они правильно угадали. Пошли по всем инстанциям. И вот – наличность. Горно-металлургический комбинат закладывают.
Вот тебе и пустыня! Обманное это слово оказалось. Не пусто, а густо. Здесь в землю много добра напихано. Главное теперь – наружу все вытащить и – в переплав. Держава наша хозяйственная, умеет чего надо себе взять.
– Нахватался ты, даже слушать интересно, – сказал одобрительно Буков.
– Что значит – нахватался? Я и своим умом не маломощный. Живу, соображаю, как все. А ты чего ходишь, чего людям отдыхать не даешь?
– Да вот к машине зашел, проведать.
– Экскаватор – это тебе не пистолет, который собрать и разобрать одними пальцами можно. Сооружение громоздкое.
– Это точно.
– Он все равно что танк, только без брони. Да еще стрела, ковш. Словом, танк с грунточерпальным снаряжением. Чем люди больше за технику хватаются, тем они больше от техники зависимые. Не пришли подъемники. Лежит железо железом. И без техники ты его не построишь в машину.
– Это когда как, – сурово сказал Буков. – Припрет, так построишь.
Выбравшись из-под одеяла, сторож сказал:
– Разогнал ты весь мой сон. Если ты сытый, давай чаю попьем. Я его исключительный любитель. Напиток, полезный, соль вымывает. Потом поимей в виду, у нас тут ночь – лучшее время рабочее: прохлада. Местный народ понимает. Ты это учти. Просись в ночную смену, она наилучшая. Ты чего сам больше обожаешь – жару или холод?
– Приходилось намораживаться до полусмерти, – хмуро сказал Буков. – На ногах четырех пальцев нет, в санбате удалили.
– Это где же тебя угораздило так простудиться?
– В сорок втором году надо было Ленинграду помощь боевую подкинуть. Пришла танковая часть. Машины тяжелые: КВ, тридцатьчетверки, а лед на Ладожском озере плохой, непрочный, в трещинах. На лучших участках выдержит нагрузку до тридцати тонн. А весу в танке значительно больше.
– Это верно, – сказал сторож. – Такое изделие не всякая земля удержит, а тут скорлупа – лед. Да еще ломаный, разве починишь?
– Чинить можно, – возразил Буков. – Мы лед ремонтировали, намораживали, наращивали себе дорогу.
– Значит, на этом деле ты и пострадал?
– Мое дело не дорожное, по линии механики. Надо было вес машин облегчить. А как? Значит, демонтировать. Приспособлений нет. Ни подъемников, ни блокоустановщиков. Исхитрились из шпал клети укладывать, из телеграфных столбов – ваги, стрелы подъемные вязали. Снимали башни с орудием, стальные крыши надмоторные и ставили все это на сани-волокуши, из бревен сооруженные.
Мороз за тридцать, да при ветре. Обогреться нечем. Костер не разведешь. Сразу немец обнаружит, из пушек начнет бить или с воздуха бомбами закидает.
Железо – оно холоднее льда. Лед после железа теплым кажется. В рукавицах только грубую работу делать можно. А тонкая – голую руку просит. Это же машина. Она обращение только деликатное признает. Масло в ней в камень застыло. Подвижные части – как сцементировало. Накроют тебя брезентом, водишь паяльной лампой, чтобы масло оттаяло, охота самому себя всего этой лампой осмолить, чтобы хоть тепло почувствовать. Ресницы смерзаются, моргаешь, а глаз при этом скребет, как наждаком. Начнешь деталь снимать – тяжесть невыносимая, кости скрипят и пот из тебя выжимается. После он коркой на тебе всю шкуру царапает, будто не обмундирование на тебе – жесть. В дыры ветер задувает. И спирту много принять нельзя. Пуще здоровья надо соображение сберечь. Охота еще хлебнуть, но отвергаешь. Да он и не действовал, спирт, жег, а тепла внутри нет. Все равно стынешь. Но застывать нельзя? пока немец не накрыл, надо всю работу кончать. Но конца ее не было, а только начало.
Начали марш по льду.
Примостился я на танке, без крыши он, все наружу. Механик-водитель стоя танк ведет. Надел железные трубы на рычаги управления и так действует. Пурга метет. Видимость плохая. Одолеть надо тридцать два километра но прямой. Если, конечно, не заблудишься.
Лед прогибается, трещит. Из дыр, которые бомбы во льду пробили, вода столбиком от нажатия наружу фонтаном лезет. Дыр таких много, на глаз видно, как они трещинами между собой объединяются, вот-вот рухнем, кроме того, сугробы стенами намело, таранить их танку в собранном виде – незаметное дело, а тут все на тебя сыплется снежным обвалом. Как сильный заряд пурги ударит – видимости нет, вылезаешь из танка, суетишься, ногами впереди его вешки щупаешь. На чистом от снега месте не лучше, ветер снег смел до полной шлифованной ледяной поверхности. Танк – он ничего, не скользит, а сани-волокуши, которые у него на буксире, мотает во все стороны. Вот и оборвало трос таким рывком. А на волокуше – башня с орудием. Надо за ней возвращаться, а как, если мы на своем маршруте лед совсем испортили? Но танк без башни – что? Трактор. С ним без башни не навоюешь. Оставить башню – все равно что солдату на марше оружие потерять. Невозможно.
А лед звучит, как струна порванная, стреляет лед трещинами, из них серая вода прет.
Ну, связал я трос, стоя в воде. Догнал уже на ходу машину. Бежал, стуча ногами, потому что они льдом обмерзли. Руки на бегу снегом тру. Сунул себе под мышки, чтобы пальцы на руках сохранить. Руки для механика – все, а про ноги позабыл, надо было б разуться, тоже снегом их растереть. Но я на руках сосредоточился. У механика-водителя на лице твердая маска из льда, пурга да водяные брызги со снегом всего его залепили. А обе руки заняты рычагами, даже обмахнуться нельзя. Стоит, терпит.
Все-таки достигли мы берега. И там сызнова то же самое. Только в обратном порядке. Танки надо собрать, смонтировать. При тех же условиях отсутствия условий, подъемных средств и прочего. А как собрали, поехали прямо тут же в бой, ничего, смонтировали без дефектов.
Но что интересно! Как я до самых костей не застыл, простуда меня обошла. Нервный подъем – сильнейшая вещь от простуды. А что пальцы на ногах отморозил – мое упущение, некогда было снегом тереть, слегкомысличал.
– Это ты убедительно рассказал, – помолчав, произнес сторож. – С одной стороны, конечно, мучение, а с другой стороны – подвиг правильный.
– Неправильных подвигов не бывает!
– Ты мужчина хитрый, – прищурившись, сказал сторон? – про геройство с подходцем толковал. Сейчас хороших людей завелось много, деваться от них некуда. Каждый на другого жмет, подавай ему сию секунду пространство, чтобы полностью развернуться по специальности. И ты тоже из таких. Мол, на фронте техникой через не могу обеспечивали, а тут, в мирной обстановке, бывшего фронтовика обижают.
– Я на обиды неподатливый.
– А на других жмешь. Не пришли подъемники, так всю тяжесть твоего агрегата надо ребятам с платформ руками своротить и собрать вручную.
– Была бы охота. Можно ворот соорудить, мачту для крана из бревен строительных.
– В самую точку я тебя угадал, – самодовольно сказал сторож. – Сразу подметил, как ты по площадке хозяйским глазом прицельно рыскал. – Произнес одобрительно: – Я самостоятельных обожаю. – Спросил: – Так ты что же, так всю войну по слесарной части и служил?
– С сорок четвертого механиком-водителем. Взяли в бригаду.
– Этот год я на фронте хорошо помню, – мечтательно сказал сторож. – Из похоронной команды в ВАД зачислили. Бесчисленно техника перла. За двое суток любую дорогу раздолбают. Только давай ремонтируй. Дорогу калечили без жалости. А что поделаешь – война. И у каждого свой интерес. Им на фронт скорее, а нам дорогу содержать в порядке надо. Так что я от вашего брата танкиста натерпелся. Высунет башку из своей брони, смотрит, как император, – и никакого внимания. Прокатит, а за ними после ну хоть бы колея, а то прямо траншеи остаются, засыпай, трамбуй, выглаживай, новые наедут испортят. От колесного транспорта к кому претензия? Не к ним, танкистам, а к нам, вадовцам, а разве мы виноватые?
– Ну что же, извиняюсь, – сказал с улыбкой Буков.
– Догадливый, – ухмыльнулся сторож. – Сразу понял, для чего я так на вас, танкистов, жалуюсь. От удовольствия вспомнить, сколько металла фронту подкинули. Земля не удерживала, по швам разъезжалась от его силы-тяжести. Спросил озабоченно: – А ты начальство собой беспокоил или сразу на площадку кинулся?
– Завтра на партийный учет пойду становиться, там и выскажусь по поводу своего положения.
– Это адрес правильный. Там от любой глупости лекарство найдут и кому надо рецепт на него пропишут.
– А ты что, партийный?
– Шаронову Герману Устиновичу рекомендацию в двадцать втором году я давал. А кто он теперь? Медицинский генерал-майор. А кем был? При нашем эскадроне фельдшером. Пулю он мне на скорую руку из тела вырезывал ночью при плошках, ничего лишнего не повредил и зашил аккуратно. Но пришлось по обстановке снова в седло садиться, чтобы теперь уже басмачи окончательно не зарезали. И ничего, ни одна нитка на ране не лопнула. Так что состою в партии с восемнадцатого и пенсию имею не какую-нибудь, а партийную. В сторожах временно. Вот развернут строительство, дождусь подходящей себе специальности. Я ведь только снаружи пожилой, а внутри у меня все играет. Прибыл сюда с геологами верхом на верблюде. Чего тут было? Пустыня. Бесполезный песок, и все. Жары столько же, сколько на Северном полюсе холода. Но мне что, я местный, от солнца не луплюсь, не потею. Меня знакомые басмачи уважали за устойчивость к климату. С запутанными, из бедняков, я специально дружил, чтобы не силой, а умом перевоспитывать. На одной из ихних женился. Теперь моя старуха – общественница, бойкая такая. А как познакомились? Кинулась с ножом, полоснула маленько, ну я ее и прижал, всмотрелся: глазки, носик – все на месте. Парнишка я был теплый, уговорил, села позади на коня, и все. Родителям по обычаю все ж таки калым отвез граммофон. В то время граммофон редкостной машиной считался. Это сейчас народ забаловался: телевизор смотрит без удивления, будто это нормально. Тогда граммофон можно было на двух коней сменять. А сейчас каждый мальчишка с транзистором, как с балалайкой, ходит. Велосипед за вещь не считают, на мотороллере по пустыне гоняют. Скачет время, так что всего бывшего запомнить не поспеваем. Мы тут кирками да лопатами шурфы копали совсем недавно. А ты прибыл, я вон – махина экскаватор. Черпачок у него в вагонетку, с одного замаха четыре куба кидает. И ты еще недовольный, что в несобранном виде тебе его представили. Трудностей понимать не желаешь.
– Порядок должен быть.
– Фронтовой анекдот про порядок знаешь?
– Знаю, для утешения придумали. Но я за твердую четкость во всем.
– Тут я согласен. Неувязки – это глупость прикрытая. – Снял с костра чайник, налил в пиалу, подал Букову. Произнес с благоговением: – Пользуюсь для заварки только девяносто пятым номером, лучшего и министры не пьют. Напиток полезный, весь организм улучшает…
Желтая тяжелая луна висела в небе. От песка веяло прохладой, пахло пресно камнем. В колючих зарослях ерзали ящерицы. Над костром порхала летучая мышь с тонким посвистом.
Сторож постелил себе кошму, а раскладушку уступил Букову, но Буков долго не мог уснуть, томительно ощущая гигантское ровное пространство пустыни, бездну неба.
…Перед глазами его вставала с зажатой в белых губах цигаркой политрук Зоя; щурясь, она приказывала начальственно:
«Орудие я не имею права оставить. Давайте его на крюк к танку».
Пожимала левой рукой руки остающимся бойцам, говорила официальным тоном:
«Благодарю вас, товарищи, от лица командования ПВО».
А лицо у Зои было землистым, похудевшим, маленьким, жалким, как у мертвого ребенка…
Люда подошла к Букову и потупилась, протянула пакет с чистыми портянками, шепотом сказала:
«Вот возьми от меня на память».
Мелкие слезы катились по щекам.
Буков, смущенный, растроганный, сказал растерянно:
«Чего ревешь? Портянок стало жалко?»
Сказал так для того, чтобы она не мучилась жалостью к нему. Но не выдержал тона, содрал у себя о пилотки звездочку, сунул в ладонь Люде, ласково посоветовал:
«В часть прибудешь, нацепи, а то на твоей потеряна, еще наряд заработаешь».
А потом попросил снайперскую винтовку у Ельченко, долго целился, наблюдал сквозь оптический прицел Люду, сидящую на броне танка…
Ельченко вскоре был ранен в лицо, отдал совсем свою винтовку Букову и сказал:
«Пойду потрепещу перед взводным, выпрошу противотанковую гранату».
С гранатой Ельченко выполз из окопа и подорвал немецкий станковый пулемет, но обратно не вернулся.
Вспомнилось Букову, как во время танкового боя он, уже будучи механиком-водителем, с ходу налетел на пень и машина зависла на пне, беспомощно грохоча впустую гусеницами. И недвижимая машина стала мишенью. Тогда он выполз через аварийный люк, заложил под пень взрывчатку, зажег куцый кусок бикфордова шнура, снова залез в танк и ждал там взрыва. Взрыв получился сильный, не то пень сковырнулся, не то танк с него сбросило. Только машина встала на землю. И Буков, оглохший от взрыва, ушибленный, все-таки вел танк. Это было под Варшавой. Но город Буков не помнит, не рассмотрел. Очень у него самого вид был тогда неважный, стеснялся в таком виде показываться населению заграничной столицы. Весь в бинтах, лицо в ожогах. И Берлин мало тогда видел. В триплекс какой обзор? Ограниченный. Для боя достаточный, а чтобы все нормально рассмотреть, видимости не хватает. Это потом, когда в Германии служил, город разглядел, когда в экскурсии водили.
В Германии когда служил, гражданских немцев вначале стеснялся, поговоришь – а человек скажет: вы моего родственника на войне убили. А что ответишь: доводилось.
Но победа не только в том была, чтобы фашистскую Германию одолеть, но и освобождение людям дать, чтоб они могли самостоятельно потом разворачиваться, согласно своим желаниям.
III
В Германии Степана Захаровича Букова зачислили в Особое подразделение, которому надлежало также охранять подземные коммуникации Берлина на участке, находившемся в ведении районной комендатуры.
Гигантский каменный подземный кишечник города простирался хитросплетенным, таинственным лабиринтом на огромном пространстве, вмещая в своих туннелях все то, без чего не может нормально жить и работать современный город.
Конечно, это не лучшая должность для солдата-победителя – лазить под землю со всеми своими орденами и медалями и там, в грязи и духоте, слесарить, чтобы не только, гражданские немцы, но и те, кто лишь недавно скинул мундиры, смогли вдосталь купаться в ваннах, пользоваться всеми благами сантехники. Хотя Буков в душе и понимал, что он совмещает в своем лице воина с представителем рабочего класса, утешать недавнего противника своим трудом он считал не только нежелательным, но и обидным занятием.
– Угождать фрицам коммунальными удобствами – я такой присяги не давал, – твердо заявил Буков капитану Зуеву, своему новому начальнику.
– Значит, пускай гражданское население страдает?
– Наших сколько городов поломано. Дома на любую работу согласный, а здесь пускай сами себе все чинят.
– Выходит, ты всем немецким людям враг?
– Не всем, а которые бывшие фашисты.
– Так ты квартиры фашистов не подключай.
– А откуда я буду знать, кто в них жильцы?
– Может, тебе список дать?
– Желательно.
– И ты будешь по этому списку лично карать лишением коммунальных услуг, как победитель. Так, что ли? Буков смутился, пробормотал:
– Ну недомыслил, ну и что?
– Значит, убедил? – спросил капитан Зуев и самодовольно откинулся в кресле.
– Не убедил, – хмуро произнес Буков, – а разжаловал. Значит, автомат сдать и в получении слесарного инструмента расписаться?
Капитан хитровато усмехнулся:
– Я, товарищ Буков, так полагаю: задание не столько ремонтное, сколько боевое, и подразделение наше посему скомплектовано из людей самых отважных.
– Подсластили пилюлю.
– Я ее сам недавно получил.
– Ну и как?
– Принял как положено.
Буков с неприязнью оглядел капитана. Неказистый, сутулый, с узкими, обвисшими плечами, две глубокие продольные морщины на впалых серых щеках, широкие залысины на висках с раздутыми венами, глаза бесцветные, усталые. Вот только на колодке обозначено восемь боевых орденов, а также орден Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», – значит, и на гражданке отличился.
– Ладно, – вздохнул Буков. – Приказ есть приказ.
– Вот именно, – согласился капитан и, протянув руку, объявил: Величаюсь Павлом Ефимовичем.
– Приятно, – сказал Буков. – Но только мы давно уже знакомые, впотьмах, на ощупь.
– Верно, – согласился Зуев. – Я твои руки на себе помню – клещи. Одну на горле моем держал, а другой обследовал, какой погон на мне – немецкий или наш. – Похвалил: – Осмотрительный товарищ. Другой мог бы и пришибить.
– А как же. Сидит в полной темноте в бункере, в их бывшем узле связи, с наушниками на голове, когда я сам из автомата все здесь чистенько подмел. Откуда, думаю, такой фриц? Но почему деликатно обошелся? Махорку вы курили. Захотел проверить, что это за немец такой особенный, который нашу махорку любит.
– Увлекся, верно, – вздохнул Зуев. – Под контролем их штабные переговоры держал, на башке наушники, значит, фиксировать посторонние звуки лишен возможности. А вдруг – ты. Хорошо, что вежливо – только за горло.
– А вы мне ногой в живот, – напомнил Буков.
– Защитный рефлекс, – объяснил Зуев. Улыбаясь, добавил: – Считай, побратались. – Посуровев лицом, произнес: – Так вот, информирую, какая обстановка на подземных коммуникациях.
– Одеколоном там не пахнет, – усмехнулся Буков.
– Есть сведения: из союзных секторов по ним недобитые фашисты переходы к нам делают, диверсионный акт совершат – и обратно тем же способом. Садись, садись, чего встрепенулся? Все равно ты мне и как слесарь нужен. Главная задача мирная остается: по линии водопровода и прочего. Диверсанты попутно трубопроводы, коллекторы, кабели рвут. Придется по совместительству и ремонт производить, и в засаде сидеть. А ты – автомат сдать…
– Ошибся, полагал, задача только немцев гражданских обслужить.
– Она и остается. Во-первых, жизнь нормализовать, а во-вторых, на этой основе дружеские контакты установить.
– По коммунальной технике мне кое-что делать приходилось, – счел нужным сообщить теперь Буков.
– Моя довоенная должность – оперуполномоченный уголовного розыска. На фронте – разведбат. А теперь вызвал кадровик, и вот получил назначение, исходящее из мирной моей специальности.
– Не очень-то она у вас мирная, – уважительно сказал Буков.
– А как же не мирная, – возразил Зуев, – на фронте криминалисты не требовались, а теперь пожалуйте.
– Это что же, воров ловить?
– Допустим, только особого сорта. Врываются ночью в квартиры, грабят, убивают, а потом уходят в союзные секторы на отдых.
– Это что же, свои – своих?
– Нападают на тех, кто не с гитлеровцами.
– Вервольф действует?
– Допустим.
– Ясно, – сказал Буков и, уже с признательностью посмотрев капитану в глаза, тревожно осведомился: – Ну, а я буду соответствовать? Мне не доводилось. Только в бою, а там арифметика простая: вот он, вот я, кто кого.
– Правильно, что сомневаешься, – согласился Зуев. – Первый враг в нашем деле – самоуверенность. – Спросил озабоченно: – С языком у тебя как?
– Что, взять надо?
– Знать.
– Нахватался самую малость.
– Напарником у тебя будет товарищ Должиков. Поможет. Но ты ему тоже помогай. Кадровики были против него. А я – «за». Почему? Ну, это под мою персональную ответственность. Взял, и точка.
Зуеву понравился Степан Буков спокойной уравновешенностью, неколебимым самообладанием, чувством внутреннего достоинства, которое присуще людям, никогда ничем не поступавшимся ради того, чтобы им было легче, когда другим трудно.
Зуев уже успел подметить, что Буков равно уважительно разговаривал с хорошим солдатом и старшим офицером, не изменяя при этом ни выражения лица, ни интонации голоса. Он скоро понял, что Буков обладает духовным счастливым талантом – радоваться хорошим людям, угадывать таких людей.
И о своих подчиненных Буков рассуждал бережно, внушая Зуеву, что каждый из них – личность особенная, обнаруживая в своих суждениях глубокую наблюдательность, способность открывать в человеке самое существенное и ценное.
Но в общении с подчиненными Буков не обнаруживал своих прозорливых догадок, считая, что он не вправе касаться их сокровенных черт. Эта духовная деликатность вызывала у бойцов особую солдатскую приязнь к Букову, когда старшим человека считают не только по званию, но и по его человеческому достоинству, ничем никогда не запятнанному.
И с Зуевым Буков держал себя также уважительно, относился к нему как к человеку, для которого профессия не только служба, но и прочное место в жизни.
Буков говорил о себе Зуеву сдержанно:
– По существу я кто? Рабочий человек. Считаю высшим званием в любом человеческом деле – звание мастера. В армии то же самое: мастера огневого расчета, разведки, мастера механики-водители, ну, словом, по всем родам военных профессий – мастера. Но есть мастера, а есть подмастерья – это те, кого еще тянуть надо. Человек-мастер чем одержим? Чтобы получше работу-задание выполнить, хоть гражданское, хоть военное. Такими людьми мы осчастливлены. Таких людей слушаются душой.
Вспоминал с увлечением:
– Был у нас механик-водитель, специалист по эвакуации с поля боя поврежденных танков – Серегин. Почитали бессмертным и бесстрашным за отчаянную его отвагу.
А он вовсе не отчаянно отважный, а просто выдающийся мастер своего дела. Осмотрительный, вдумчивый, расчетливый, понимающий бой не хуже общевойскового среднего командира. Учитывал момент по ходу боя, когда следует на тягаче выскочить. Вел машину с учетом системы огня противника, особенностей местности. Обычно долго вел наблюдение за полем боя, прикидывал свою тактику. Работал на танке, у которого башню в бою тяжелым снарядом расшибло. Но мы отремонтировали и выпустили без башни, как тягач.
Однажды командующий танковым корпусом генерал Попов увидел этот безбашенный танк-тягач. Рассердился и приказал немедленно восстановить полностью боевую машину и вернуть ее в строй. Обстановка тяжелая, потери в технике большие, а тут из танка сделали тягач для эвакуации поврежденных машин.
Генерал Попов сам ходил обычно в бой на танке. Войну начал командиром взвода. Отличался храбростью и некоторой горячностью, когда дело касалось существенных нарушений.
Так вот Серегин перед этим генералом и показал свое спокойное, выдержанное бесстрашие, когда представил ему рапорт-выкладку, в которой доказывал, какие потери мы несем, когда поврежденные на поле боя танки простаивают лишнее время под расстрелом артиллерии противника, так что их потом невозможно восстановить или восстановление требует слишком много времени. И цифровой расчет Серегин произвел, сколько минус один танк приплюсовал нам возвращенных в строй танков. Изложил доказательно: какая мощность, маневренность, вездепроходимость у облегченного безбашенного танка в качестве тягача. И даже сослался на потери эвакуаторов в других частях, пользующихся тракторами-тягачами, в то время как он на своем безбашенном танке отделывался пока только незначительными ранениями, значит, и экономия в живой силе.
Генерал не был любителем бумаг, тем более когда они подаются младшим командиром, который, став по команде «Смирно», настаивает на прочтении своего рапорта.
Говорили, что Серегин, не моргая выслушав всю брань, в ответ на взбешенный вопрос генерала: «Да кто ты такой? Ты это понимаешь?!» – доложил бодро: «Так точно! Эвакуатор сержант Серегин. На личном счету шестнадцать тяжелых, двадцать восемь средних, доставленных к месту ремонта с момента выхода их из строя без дополнительных повреждений благодаря наличию мощного тягового средства».
Прочитав рапорт, генерал спрятал его в карман кителя. Спросил Серегина:
«Награды имеешь?»
«Имею», – сказал Серегин.
«Так что тебе от меня надо?»
«Разрешите оставить тягач».
«Не могу, – покачал головой генерал. – Нет у меня сейчас такой возможности. Ты прав, но и я прав…»
А спустя некоторое время пригнали к эвакуаторам на своем ходу немецкий тяжелый танк, и он был передан сержанту Серегину от имени генерала Попова, по его особому приказу, для сержанта эвакуатора Серегина. Этот танк был добыт в последнем бою, которым командовал генерал.
Закончив историю с тягачом, Буков пояснил Зуеву:
– Я это к чему? Мастерство не специальность, а особенность человека. Специальностей всяких бесчисленно. Но чем светятся? Человеком! И человеку специальность тоже светит, когда она цель жизни по призванию. – Произнес со вздохом: – Машины я обожаю. – Признался: – Тянет.
И сейчас, говоря о задании, Зуеву не хотелось излагать его Букову только тоном приказа, поэтому он позволил себе отступление, как бы только для того, чтобы еще раз подтвердить Букову, что работа в Особом подразделении для самого Зуева есть продолжение того, что стало его призванием.






![Книга Мелодия на два голоса [сборник] автора Анатолий Афанасьев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-190393.jpg)