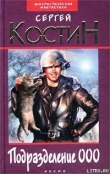Текст книги "Особое подразделение. Петр Рябинкин"
Автор книги: Вадим Кожевников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 24 страниц)
IX
Петру Рябинкину не довелось обзавестись биноклем, поэтому он иногда пользовался для этой цели снайперской винтовкой с оптическим прицелом. Покинув свою обжитую траншею, он ползал у кромки минного поля противника, просматривая через оптический прицел передний край немцев. Такому небезопасному любопытству он предавался теперь регулярно, дабы воочию убеждаться, какие изменения происходят в пейзаже переднего края противника, ибо каждая метаморфоза таила новую огневую точку или новую запасную позицию.
Что касается минного поля, заложенного немцами давно и ни разу не перекантованного, то мины – это не удобрение для растительности, и поэтому травяной покров над ними выглядел чахло, и это помогало работе саперов.
Спирали «Бруно», растянутые вдоль переднего края противника, подобны прозрачным трубам. На них навешаны побрякушки – пустые консервные банки, которые должны выдать своим бряцанием тех, кто попытается проникнуть сквозь эти туннельные, невидимые ночью проволочные петли.
За спиралью «Бруно» торчали косо вкопанные куски рельсов, бетонные белесые пирамидки – противотанковые зубы. Все это освещено с нашей стороны восходящим солнцем, что Рябинкин учитывал, занимаясь подглядыванием за противником в часы восхода, когда солнце функционировало как якобы приданная прожекторному подразделению специальная осветительная аппаратура. Если же в эти часы кто из немцев пробовал контролировать наш передний край оптикой, стекла ее бликовали, и дежурный снайпер воодушевленно слал туда пулю с академической грамотностью.
Хотя бойцы подразделения Рябинкина утверждали: бить врага из его же оружия – это особенное удовольствие, старшина Курочкин давно изъял из употреблении трофейное оружие. И не потому только, что отечественного теперь было в достатке. Главное, прошла мода – свидетельство особого молодечества – таскать на себе фрицевский автомат.
Следуя ползком за Рябинкиным, Тутышкин держал на весу новенький ППС с рожковым магазином, перебросив себе на спину сумку от противогаза, тяжело нагруженную гранатами-лимонками «Ф-1», запалы от которых торчали из нагрудного кармана его гимнастерки, словно набор вечных ручек.
Чем выше подымалось солнце, тем больше теплела земля, телесно пахло травой. Но беззвучно было это пространство. Не слышно не только птичьего голоса, даже делового жужжания пчелы, осы, шмеля, терочного стрекотания кузнечика. И птицы, и насекомые были запуганы боями или вовсе покинули эти места.
Полоса фронта извилисто тянулась на сотни километров. По обе стороны обоюдно внимательно нацелены сот-; ни, тысячи стволов, чтобы выбросить по команде тысячу тонн металла. Подразделению Рябинкина в этом гигантском пространстве назначена самая малость, в общем ходе сражения на оперативной карте даже не отмеченная. Но от степени постижения своей малой задачи и доблести ее осуществления тысячами подобных рябинкинскому подразделений зависел исход всего сражения, плацдарм которого равен был территории среднего европейского государства и получил впоследствии название Орловско-Курского.
Конечно, Петр Рябинкин в такой же мере не знал планов высшего немецкого командования, в какой и своего собственного, армейского, и даже дивизионного.
Но, размышляя над состоянием ничейной полосы между нашими и немецкими оборонительными рубежами, Рябинкин приходил к выводу: сами немцы до сих пор не делают проходов в своих минных полях, – стало быть, они не собираются наступать. А если наши саперы не зачищают проходы в немецких минных полях, это означает то же самое и с нашей стороны. А такого долго быть не может.
Рябинкин говорил поучительно: «Любовь у солдата к жизни в чем выражается? В окопе в полный профиль. Тогда он личность неприкосновенная…»
Инженерные сооружения на этом рубеже были исключительно капитальными, что вызывало у бойцов даже нездоровые настроения. Солдаты считали, что сейчас расходовать столько строительных материалов на оборону не следует, ведь немец разрушил такое множество городов и сел.
По наблюдениям за передним краем врага выходило, что он также оборудовал свою оборону капитально, затратив на нее столько материалов, сколько было бы потребно на строительство многих городов. И это вызывало дополнительную ярость у бойцов, душевно страдающих оттого, что немец тащит этот стройматериал с захваченной им нашей земли.
Никто из солдат, конечно, не выражал Рябинкину своего желания умереть за экономию строительных материалов, столь нужных Отчизне. Но неудовольствие крепостными сооружениями на переднем крае они высказывали, ядовито осведомляясь у Рябинкина: «Настлали уже на КП дивизии паркет или еще не успели?» Все это сопровождалось огневым затишьем. Даже испытанные фронтовики, способные высыпаться и во время артобстрела, привалившись спиной к стенке окопа, сейчас, в хорошо оборудованных блиндажах, страдали нервной бессонницей от непривычной тишины.
Страдал такой же бессонницей и Петр Рябинкин. Среди ночи он выходил из блиндажа, бродил по траншее, вглядывался в передний край врага, откуда бесшумно взлетали ракеты, горящие белым, мертвенно-химическим светом над пустынным пространством, зажатым между двумя оборонительными рубежами.
Июньское небо, обвешанное крупными чистыми звездами, выглядело непривычно порожним от ночных бомбардировщиков и оттого, что оно, пустое и беззвучное, казалось притягивающим своей бездной, опрокинутой над притихшей землей.
Пахнущие свежим тесом лестницы примкнуты к стенам окопов. По ним должны подниматься бойцы, исполняя приказ атаковать врага. Но сейчас ступени лестниц чистенькие, не обтертые ногами. Древесные сооружения, никуда не ведущие.
Какое самообладание должен иметь человек, чтобы подняться по этой лестнице в момент начала сражения, с каждой ступенью ее приближая себя к огненному гремящему шквалу, который будет катиться ему навстречу по земле, калеча ее и все, что на ней! Подняться по ступеням этой лестницы будет уже подвигом.
– Вот, – сказал сипло Парусов, небрежно хлопая ладонью по чистой ступеньке, – хорошая плотницкая работа. Но и та может скоро рассохнуться без употребления. – Спросил: – Никак не пойму, не то мы фрицев бережем, не то они нас. Говорят, на войне не соскучишься. А вот, оказывается, бывает…
– Значит, такая задача – перейти в жесткую оборону, – сухо сказал Рябинкин.
– А для кого она жесткая – для нас или немцев?
– Силы накапливаем, не понимаешь?
– А немец, он не накапливает? – сердито сказал Парусов. – Слушаю вот по ночам его сторону, ушами понимаю, все время у него там передвижение, а головой не понимаю, чего мы ждем.
– А нашу сторону ты прослушиваешь своими ушами?
– Есть солидный шумок, правильно, – согласился Парусов.
– Ну, значит, все, – строго сказал Рябинкин.
– Я ведь почему без боя тоскую, – скорбно сказал Парусов. – Меня жена уважает за то, что я на фронте воюю. Работает она сейчас, как мужик, в рыбачьей артели. Людей кормит. Всю нашу семью содержит. Ноги у ней пухнут, от ревматизма. Летом в валенках ходит, а ведь в мирное время туфли – только на высоких каблуках и размер тридцать шестой, каждая ступня в мою ладошку величиной. Это же понимать надо. – Произнес с ожесточением: – Поэтому я и желаю окончательно и безотлагательно с фашистами кончать, и канителиться с ними больше моего терпения нету. – Помолчав, произнес извиняющимся тоном: Конечно, каждому из нас невтерпеж. Но тут в обороне особо мысли о доме вонзаются, и никуда от них не денешься. – Пояснил: – В бою что? Жена не овдовела, ребята не осиротели, – значит, порядок. – Признался; – Когда боя нет, я солдат никудышный, одна штатская жизнь мерещится.
– Ведь ты орденоносец, – напомнил Рябинкин, – на тебе уже девять танков числится.
– Танки бить – это моя петеэровская должность, а сейчас я все равно как безработный.
– Ты же с пополненцами занятия проводишь! Опыт им передаешь.
– Обучаю владеть оружием, – вяло согласился Парусов. – Но главное им надо самостоятельно достичь.
– Что именно?
– А вот такое, когда ты против него лежишь, ноги раскинув, на локти упор. Глазом в прицел и палец на спусковой скобе, он на тебя, а ты по нему, а ему хоть бы что, а ты все-таки бьешь, потому что, пока ты человеком числишься, свое человеческое перед ним не теряешь. За твоей спиной люди, которые на тебя надеются, уважают, что ты петеэр. Ну и сам потом удивляешься, как это ты в сторону не сполз, когда все естество в тебе просилось – ползи. А ты, выходит, свое естество превозмог, выстоял. И от этого перед самим собой потом становится приятно.
– Значит, и в бою бывает радость?
– А как же, обязательно! Через такую радость и смерти бояться забываешь. – Сказал уныло: – Храбрый солдат, он всегда веселый.
– А чего же ты не такой?
– Я человек семейный, к жене сильно привязанный, как боя нет – обратно к ней тянет. Она у меня лучше всех. И товарищ, и друг, и жена. Сразу все вместе. – Произнес убежденно: – Ежели меня подобьют, тот, кто на ней после меня женится, очень обрадуется, даже не поверит, что такие на свете бывают, самые лучшие. – Парусов смолк, прислушиваясь, сказал снова озлобленно: Тихо, как в погребе. Зарылись в нашу землю. А мы их терпим…
X
И вот в одну из таких тусклых, молчаливых ночей Петр Рябинкин был разбужен в блиндаже Парусовым, который доложил встревоженным шепотом о том, что услышал шорохи на ничейной полосе в заминированном немцами районе.
Рябинкин, прихватив с собой ефрейтора Тутышкина, выбрался из траншеи и пополз по указанному Парусовым направлению.
Небо в рыхлых облаках было сизым, низким, сырым. И когда Рябинкин добрался до кромки минного поля, он уже явственно слышал звуки шанцевого инструмента немецких саперов.
Решение, которое принял Рябинкин, он не мог словами передать Тутышкину. Но, приблизившись к нему, он раскрыл рот, высунул язык и сделал хватательное движение рукой. И этого было достаточно. Тутышкин закивал головой.
Они ползли по минному полю, шаря впереди себя распростертыми руками, осторожно нащупывая в травяном покрове выпуклые островки жухлой, сухой травы, под которыми могли оказаться мины. По существу, обнаружить мины так, на ощупь, почти невозможно, но все-таки на какой-то шанс можно было рассчитывать. Потому что если не думать, что есть такой шанс, значит, остается одно: считать, что ползешь навстречу неминуемой своей гибели, а думать так нельзя, не положено, ни к чему.
На захват противника, который уверен в своей безопасности на своем минном поле, может пойти только тот, кто твердо убежден в собственном бессмертии.
И вот они почти натолкнулись на немецкого сапера, который, сидя в лягушиной позе, на корточках, сняв лопаткой дерн и запустив в яму обе руки, вывертывал взрыватель из мины.
Рябинкин подполз к саперу, держа в руках свою каску, кинулся, плотно втиснул лицо сапера в каску, в то время как Тутышкин, лежа на боку, сильно и точно ударил немца ногой в живот и потом навалился на него, оплетая руками и ногами.
И так они некоторое время лежали вместе молча, в обнимку, прижав сапера и с трудом переводя дыхание.
Потом Рябинкин сунул под каску руку, толкнул кулак в рот сапера. Тот; вяло обмякнувший, не издал ни звука, впав в беспамятство не то от удушья, не то от удара Тутышкина. Тутышкин, деловито обшарив сапера, снял с него ремень, связал им на спине руки. Приспустил с немца брюки на сапоги. На мгновение задумался, потом извлек из кармана шнурок – разведчики народ запасливый, – заткнул обмякшему саперу рот платком и для верности обвязал шнурком, стянув узел на затылке. И после всего показал Рябинкину большой палец.
Рябинкин свалил с плащ-палатки извлеченные из земли мины и на нее положил немца. Волочить сапера на плащ-палатке по заминированному полю пришлось без предварительного ощупывания пространства перед собой.
Когда они отползли несколько десятков метров, Тутышкин отпустил свой угол плащ-палатки. Показал себе на грудь, потом двумя пальцами изобразил как бы движение ног и, оставив Рябинкина с немцем, пополз вперед.
Рябинкин волок сапера вслед за Тутышкиным и так изнемог от усталости, что совсем перестал думать о том, что ползет по минному полю.
Когда впереди рвануло и кроваво-красное пламя обдало едким теплом, он не сразу сообразил, что произошло, продолжая упорно волочить плащ-палатку с лежащим на ней сапером. И он проволок немца по горячей от ожога земле, отворачиваясь от того, что было когда-то Тутышкиным и что сейчас лежало вокруг разбросанными кусками.
Рябинкин уже не мог передвигаться с плащ-палаткой, лежа подтягивая ее к себе. Поднявшись, он взял ее углы в обе руки и потащил, сначала как бы впрягшись в плащ-палатку, а потом пятясь. Обессилев, он лег рядом с немцем передохнуть.
И тут Рябинкин увидел, что сапер лежит с раскрытыми глазами и, мало того, склонив голову набок, внимательно разглядывает его, и на лице у немца не было выражения страха, покорности, подобострастия.
Он смотрел на Рябинкина спокойно, и выжидательно, и, может, даже чуть иронически, возможно, оттого, что русский офицер улегся рядом с ним, обессилев, а может, решил, что этот русский просто сробел после того, как его солдат подорвался на мине, и теперь боится ползти дальше.
Рябинкин сообразил: поскольку немец очнулся, он способен передвигаться, и надо его принудить к этому. Он подтянул на сапере штаны, застегнул на все пуговицы. Ткнул в бок наганом, потом показал стволом, как вытянутым указательным пальцем, направление и приказал:
– Ползи! – Добавил, вспомнив: – Шнель!
Но немец не пошевелился. Лицо его приняло презрительное, высокомерное выражение, и Рябинкину даже захотелось выстрелить в это лицо. Сначала Рябинкин подумал, что немец желает смерти вместо плена и потому так вызывающе и презрительно смотрит, словно выпрашивает пулю. Но пришла и другая мысль, и, следуя ей, сначала, чтобы проверить ее, Рябинкин отполз от немца, а, затем поманил его к себе, и тот послушно пополз вслед. Оказалось, что расчет был правильным. Очевидно, немец решил сначала, что советский офицер погонит его впереди себя по заминированному полю, чтобы только самому уцелеть, и, презирая его за это, предпочитал пулю, чем подорваться на мине, а теперь он покорно и выжидательно полз вслед за Рябинкиным, видимо рассчитывая на то, что офицер подорвется на мине, как тот русский солдат. Рябинкин полз впереди немца, оглядываясь на него, держа на прицеле, и был доволен, что немец теперь послушно следует за ним, поняв, что Рябинкин вовсе не собирался использовать его в качестве живого щупа на минном поле.
Отгадав мысли немца и получив подтверждение, что он отгадал их правильно, Рябинкин все-таки испытывал некоторую неуверенность. Он не был убежден, что поступает разумно. Если он, Рябинкин, подорвется на мине, сапер уползет обратно к своим, а за него отдал уже жизнь Тутышкин, и теперь выходит, что Рябинкин рискует не только собой, но и тем, за что погиб Тутышкин. Справедливей было б все-таки вынудить немца ползти впереди. Но вместе с тем Рябинкин думал, что это будет и неправильно: если ему и удастся погнать немца впереди себя под угрозой оружия и, допустим, благополучно доставить его в целости, он может испортить этим с таким трудом добытого «языка».
Потому что немец, после того как его прогонит впереди себя Рябинкин по заминированному полю, переживет такое, после чего, как бы ни маялись с ним офицеры разведотдела, он не скажет им ничего существенного. Будет только смотреть на них так же вызывающе, как смотрел на Рябинкина, когда тот сначала хотел погнать его впереди себя. И никто не будет знать, почему «язык», добытый Рябинкиным, окажется непригодным. Хотя за захват «языка» Рябинкин наверняка получит орден. И не меньше чем Красного Знамени, потому что уже три недели на участке дивизии никому не удавалось добыть «языка». И командующий армией обещал тем, кто захватит «языка», именно этот орден.
Но если немец не захочет быть «языком», при чем здесь Рябинкин? Его дело доставить пленного. И это ужо подвиг. И все будут считать, что он совершил подвиг. А то, что он решил ползти первым по заминированному полю, внушив немцу уважение к себе, так это скорей глупость, чем подвиг? подорвется – и немец уйдет к своим, только и всего.
Но ведь Рябинкин знает: штабу дивизии нужен не просто живой немец, а «язык», который может дать важные сведения, в от них будут зависеть тысячи жизней, когда начнется бой. Выходит, что, как бы он яростно ни ненавидел сейчас пленного, который не скрыл своего удовольствия от гибели Тутышкина, все это надо превозмочь и не быть просто конвойным при немце, а стать вроде как бы сопровождающим представителем, озабоченным, чтобы этот немец не просто был пленным, а начисто побежденным противником, неспособным не только к физическому, по и к нравственному сопротивлению.
Рябинкин знал: как только немцы хватятся пропавшего сапера, все пространство ничейной полосы, исключая разве только минное поле, они покроют огнем, чтобы уничтожить этого сапера-«языка».
По-видимому, немец-сапер тоже это понимал. Он полз за Рябинкиным поспешно, тревожно озираясь.
Рябинкин стремился быстрее достичь бывшего наблюдательного пункта артиллеристов, где теперь никого не было. На днях немцы пытались захватить наших артиллеристов-наблюдателей внезапной атакой. Наблюдатели вызвали огонь на себя, но, когда и это не помогло, они подорвали себя гранатами, чтобы не достаться живыми врагу.
Обе стороны давно и тщетно пытались взять «языка».
Расчет Рябинкина захватить сапера-«языка» возник не внезапно. Он готовил себя к этому исподволь, поведав о своем замысле только Тутышкину. Разминировать проходы немцы должны обязательно, рано или поздно. Но чем больше бойцов будет участвовать в этом захвате, тем меньше шансов провести его успешно. Ведь каждый обрекал себя не только на возможную смерть на мине, но и шумной своей гибелью мог вызвать срыв операции.
Обнаружить целую группу противнику проще, чем одиночных бойцов. Объясняя Тутышкину свой план, Рябинкин сказал:
– Может, я придумал это, как в кино, – полезть в одиночку на минное поле. Но немцы тоже соображают, что это глупость для нормального человека. И тут первый козырь.
– А кто с тобой? – спросил Тутышкин.
– Не обязательно ты, если сомневаешься. Приказа моего нет, а на одной доброй воле, – уклончиво сказал Рябинкин.
– Грузоподъемности у меня хватит немца на себе нести, воротничок гимнастерки сорок шестой размер, – информировал Тутышкин.
– На вид ты не толстый.
– Толстые – это жирные, – пояснил Тутышкин. – У меня сплошь мускулы. Тяжелоатлетом считался. Поэтому на заводе всегда легкую работу давали, чтобы не переутомлять до состязаний.
– Значит, берегли?
– А как же. Не одними производственными рекордами коллектив гордится, спортивные тоже возвышают.
– Выходит, ты чемпион?
– Нет, – печально сказал Тутышкин. – У меня всегда спортивной злости не хватало, чтобы лишний вес взять.
– А теперь?
– Как все. Через «не могу» – на одном нерве.
– Ну так как?
– Ясно, – бодро объявил Тутышкин. – Сбегать на минное поле. Принести «языка» на себе. После всего сапоги почистить, заправочку проверить. Стать по команде «Смирно»… И медаль.
– Нет, ты все-таки еще подумай.
– О чем? – спросил Тутышкин.
– Маловато возможностей уцелеть. Просто даже нет никаких гарантий.
– Не надо меня на сознательность щипать.
– Хочу, чтобы твердо знал, на что идем.
– А это верно, что мы с фашистами сейчас воюем?
– Балагурить хочешь?
– Каждый чего-нибудь о себе воображает. Вот я тоже. Решил, что самый храбрый, и на этом держусь.
– Несерьезный ты человек, – досадливо сказал Рябинкин.
– А я не просто человек, у меня сан ефрейтора. Значит, не рядовой. Личность!
Хотя Рябинкина и раздражала эта развязность Тутышкина и он мог призвать его, как положено, к порядку, в глубине души он чувствовал, что все это у Тутышкина от радостного волнения, что выбор Рябинкина пал на него.
Тутышкин признавался:
– Хоть я человек сам по себе и небольшой, но самолюбие у меня огромное, на четверых хватит.
И когда в бою лицо его покрывалось нервной испариной, он с полным самообладанием хвастал:
– Зато ноги у меня никогда не потеют.
Получив ранение, он не покинул поля боя, заявив насмешливо:
– По моему здоровью только к ветеринару. – И тут же, сделав серьезное лицо, выстрелил в немецкого автоматчика, объявил: – Вот он, мой самый желанный. До чего активный этот фриц был, весь в медалях, а телосложение совсем не авторитетное.
Во время боя Тутышкин болтал не смолкая. Шутил:
– Мне бы, ребята, хоть малюсенький ореольчик. За то, что в чине человека не зазнаюсь перед вами, имея от природы личный дар – красоту внешности. И солдат я самый приличный. На ночь чищу сапоги, а не зубы, как некоторые. После войны соображу себе за это персональный монумент. Во дворе дома. И буду глядеть на него из окна своей квартиры обожающими глазами.
– А у тебя квартира есть?
– Я ее по телефону закажу из Берлина.
С того дня, когда Рябинкин начал готовить Тутышкина к захвату «языка» на минном поле, получив на это разрешение комбата, Тутышкиным овладела неудержимая, бестолковая жизнерадостность.
Жадно говорил:
– После войны обязательно на юридический поступлю!
– Почему на юридический?
– Люблю справедливость. А то, пожалуй, наймусь матросом на теплоход дальнего плавания. Надо посмотреть все страны. – Спрашивал опасливо: – Ты что, думаешь, я умственно ограниченно годен? Нет. Вот гляди. – Вытащил из кармана засаленный шнурок, на котором висела деревяшка с трехзначной цифрой. Объяснил: – Бирка! Немцы их нашим людям навешивают, как скоту. Буду по странам ее возить, показывать, чтобы знали, что у них на шее висело б у всех, если бы не мы.
– Ладно, – соглашался Рябинкин. – Показывай.
– Мы ведь сейчас кто? – рассуждал Тутышкин. – Снайперы, автоматчики, пулеметчики, гранатометчики, бронебойщики, минометчики. А как войне конец тысячами рабочих профессий развернемся с ходу. Чтобы наша держава по всем статьям всему миру доказывала. И все у всех людей было.
– Вот это правильно, – одобрил рассеянно Рябинкин, пытаясь определить, чем вызвана сейчас такая словоохотливость у Тутышкина. Не то тем, что Тутышкин пытается глубже осознать, ради чего он согласился пойти на опасное задание, или только тем, что он испытывает удовольствие оттого, что Рябинкин лестно выделил его из числа всех других бойцов.
Все эти дни Тутышкин был беззаботно общителен, но нес солдатскую службу с особой, подчеркнутой старательностью, видно опасаясь каким-нибудь упущением вызвать неудовольствие Рябинкина, а еще хуже – быть отстраненным от задания. Так твердо готовил себя Тутышкин к тому, на что пошел и Рябинкин, полагавший, что, как командир, он имеет особые права пойти почти на верную смерть.
Но сейчас Рябинкин был сосредоточен только на одном: чтобы живым вывести немца-сапера.
И когда он вместе с ним вполз в ровик бывшего наблюдательного артиллерийского пункта – в земляную щель, развороченную взрывами гранат, которыми подорвали себя артиллеристы, со следами того, что осталось от их тел, Рябинкин испытал только чувство удовлетворения, что успел вовремя достичь этой щели; здесь ему уже наверное удастся сохранить пленного.
И почти в то же мгновение немцы начали бить по ничейной полосе, освещая ее ракетами. Оглядев сапера, прижавшегося к оползшей стенке окопчика, Рябинкин снял с себя каску, озабоченно накрыл ею голову немца, обвязал ему ногу куском провода на случай, если самого Рябинкина заденет осколком, чтобы немец не ушел. Освободил рот немца от шнурка, как бы в компенсацию за связанные ноги.
Все это время сапер внимательно смотрел на Рябинкина, но уже без злобы. Рябинкин закурил. Заметив, как немец жадно вздохнул при этом, скорей машинально, по солдатской привычке делиться куревом, чем от сочувствия, свернул цигарку, вложил ее в рот пленному, поднес зажигалку.
Рябинкин не придавал особого значения обстрелу немцами ничейной полосы, хотя огонь был плотный, но, когда он услышал пулеметную стрельбу с нашей стороны, встревожился. Значит, немцы бросили автоматчиков на поиск, и те свободно могли обнаружить ровик, в котором засел он с пленным.
Рябинкин вложил в гранату запал, оттянул ее ручку на боевой взвод и, держа большой палец на предохранительной скобе, придвинулся поближе к саперу.
Немец стал что-то быстро, взволнованно лопотать, тряся головой так, будто что-то попало ему в ухо. Тогда Рябинкин скорей из брезгливости, чем из жалости, отодвинулся от немца. Отложил гранату в сторону.
Все ближе и ближе к ровику ложились снаряды, они рвались с сухим хрустом в едком оранжевом пламени.
И вот плеснуло обжигающим огнем, плотным ударом воздуха Рябинкина свалило на дно окопа, и почти в то же мгновение сорокадевятимиллиметровая мина, вытянутая, как капля с крутой траектории падения, ударила в спину Рябинкину и, не разорвавшись, туго вонзившись, застряла между ребрами. Глухой удар ее был почти беззвучен в грохоте рвущихся снарядов.
Рябинкин лежал обмякший, беспамятный, распластанный, как бы пригвожденный к земле, а из спины его торчал четырехперый стабилизатор мины, выкрашенный ярко-желтой краской.
Рябинкин медленно, протяжно всплывал из клейкой густой черноты, в которой он был утоплен, где все внутренности его разрывало от боли удушья, и, чем ближе он был к поверхности, тем сильнее становилась эта непереносимая боль.
И когда Рябинкин открыл глаза, он стал туманно различать своими почти незрячими, как у слепого, глазами равнодушное и бессмысленное человеческое лицо почти рядом со своим.
Потом голова с этим лицом качнулась, заморгала, пошевелила губами и издала какие-то звуки.
Рябинкин безразлично смотрел перед собой, ощущая свою раздавленность, ожидая нового окончательного беспамятства, после которого уже ничего не будет, и, значит, этой муки, бесконечно долгой боли.
Но беспамятство не приходило, тело сопротивлялось ему, а Рябинкин не хотел сопротивляться, он хотел так ослабеть, чтоб больше ничего не было. Но не получалось. Жизнь еще оставалась при нем. Он ждал, когда она кончится. А она не кончалась. Рябинкин тупо смотрел на лицо немецкого сапера, которое, шевеля губами, произносило какие-то отрывистые, чуждые слова, звуки их раздражали Рябинкина своей настырностью – немец пытался что-то внушить ему.
И чем больше его раздражали эти чуждые звуки, тем сильнее мучила боль, и вместе с болью укреплялось угасшее было сознание, возвращая ему никчемную сейчас способность восстановить утраченное ощущение себя. Рябинкин, как бы мстя самому себе, сделал усилие, отгреб рукой землю от своего рта и затаился, ожидая от этого движения убивающей боли. Она пришла, но не убила. Только из прокушенной губы тепло потекла кровь.
Рябинкин слизнул ее и почувствовал жажду. И стал думать о воде.
И она увиделась ему, сверкающая, мягкая, и не было ей края, но она была неутоляющая, становилась все плотнее, и он стекленел в ней, затвердевал вместе с ней. Она давила его, выдавливая из него сердце.
Рябинкин очнулся. Стиснутые зубы его болели, и эта новая боль несколько ослабила главную боль.
Сапер смотрел на Рябинкина, как ему почудилось, с любопытным состраданием.
Рябинкин сплюнул кровь, напрягшись, повел глазами сначала на связанные руки сапера, потом на ноги и торжествующе усмехнулся. Сапер понял, прикрыл глаза и наклонил голову.
Рябинкин тоже понял немца.
И тогда Рябинкин сделал чудовищное усилие и высвободил подогнутую руку с наганом, в скобе которого коченел его скрюченный палец.
Он долго тянул руку, укладывая ее, как чужую, словно протез, почти у самого своего лица, упер в землю рукоятку o нагана, скосив глаза, стал целиться. Немец судорожно привстал. Но Рябинкин повелительным движением ствола что-то внушал ему. И немец догадался. Он сел и вытянул связанные в лодыжках ноги к Рябинкину.
Рябинкин наставил дуло револьвера на провод. Потом посмотрел вопросительно на немца.
Тот жалобно улыбнулся.
Рябинкин прислушался к своей боли, чтобы окончательно решить, насколько его хватит. Он не захотел приговаривать немца своей смертью к смерти в этом ровике, как бы заживо похоронить его в нем. Застрелить? Но ведь немец послушно ведет себя как пленный. Значит, нельзя его застрелить просто так, чтобы одним врагом стало меньше. Пусть уйдет со связанными руками к своим. Получится вроде живой листовки к противнику. Ведь кидают же иногда листовки наши летчики фрицам. Вот Рябинкин тоже выкинет своего фрица-листовку. А может, это просто жалость, перед смертью ослабел, раскис. Прихлопнуть, и все?
Немец смотрел на Рябинкина молча, выжидающе.
Рябинкин подумал: будь он на месте пленного, он бы лег на голову Рябинкину и задушил бы его, вдавливая в рыхлую землю.
Почему немец не сделал этого? Может, просто потому, что, задушив Рябинкина, ему все равно, связанному, не выбраться из щели? А разве с Рябинкиным ему выбраться?
Рябинкин в таком случае, конечно, о себе не подумал бы. Обрадовался бы только, что убил немца, и все.
Но ведь немец противился Рябинкину, когда подумал, что он погонит его по заминированному полю. Значит, он не трус. Значит, в башке у него что-то после всего шевелилось…
Рябинкин снова нацелил дуло нагана на провод, связывающий ноги сапера, нажал на спусковой крючок. Пуля не перебила провода. Он снова нажал – и опять неудача, и с четвертого выстрела то же самое.
Тогда, ожесточаясь своей неудачей, Рябинкин потянулся зубами к проводу. Это движение пронзило его ужасной болью, и он впал в беспамятство.
Очнулся он не скоро.
И никогда не узнал, что было потом…






![Книга Мелодия на два голоса [сборник] автора Анатолий Афанасьев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-190393.jpg)