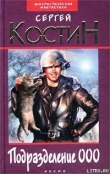Текст книги "Особое подразделение. Петр Рябинкин"
Автор книги: Вадим Кожевников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц)
Бронебойщик Матешин, рыжий, носатый, говорил своему напарнику Куликову, бойцу из недавнего пополнения:
– Я человек вежливый, терпеливый. Но у меня сменщик был никудышный. Уйдет, а станок весь замазанный эмульсией, маслом, засыпан стружкой. Я ему всегда прибирал, а он нет, После смены пулей из цеха выскакивал. Ведь водятся же такие! На душевный разговор оказался неподдающийся. Решил я его проучить маленько. Этим же самым. На безобразие, конечно, пошел, а что делать, как иначе воспитывать? Неделя, вторая – встречаюсь, не обзывает, все переносит, как будто так и положено по-рабочему. Как на займы подписка, так его нет. Индивидуально надо профоргу его уговаривать. Ну чистый отщепенец. А тут меня профоргом избрали. Решил я его дома с подписным листом накрыть, чтобы при всем его семействе о нем свое мнение высказать. Прихожу, комнатуха, мебели никакой. Супруга его тощая, одни глаза торчат, стесняется, говорит; «Извините, у нас не убрано». А чего прибирать, когда ничего нет, кроме верстака, на нем всякое железо. И среди этого железа сидит мой субчик и чего-то мастерит.
Ну, ясно мне все стало. Налево шабашит, по бытовым предметам. Я ему официально: «К вам от завкома».
А он: «Я занят». И даже головы не поднял.
Ну все, чувствую, недопустимую грубость позволю. А жена его мне машет, зовет. Вышел я с ней на лестницу. Она мне: «Пожалуйста, приходите в следующий раз. Сережа всю ночь работал, и, кажется, у него получается».
«Он что у вас? Примуса, кастрюли соседям чинит? Так. И поэтому его нельзя общественности беспокоить?»
Она отшатнулась от меня, словно я гад, а не он, ее Сергей. И выпалила: «Сережа – изобретатель, мы с ним всю свою получку в его идею вкладываем. И поэтому у нас ничего лишнего нет. Даже неловко перед людьми. Но вы сами понимаете, приходится…»
Ошпарила она меня этим, как из кастрюли, в самую рожу. Вошел я сызнова, снял головной убор, сел с ним рядом. Молчу, а он даже человеком меня не воспринимает. Сдвинул плечом от света и копается.
Присматриваюсь, и начинает до меня доходить, чего. он ладит. А ладит он патрон с набором резцов, чтобы, значит, не менять инструмента, одним поворотом патрона, какой по делу требуется, в рабочее положение ставить. Стоящее изделие. Но он чего не постиг? Наш станок разболтанный, по инструменту надо было и скорость обработки регулировать. Я к этому привык, к станку своему. Понимал его, выходит, лучше, чем этого самого чудака человека.
В свою смену вызвал наладчика и, вместо того чтобы алан давать, станок подтянул, отладил, кое-что сменил. Администрация меня стеснялась как официального ударника, выписала все, что затребовал.
Пришел Серега в цех. Я ему говорю: «Ну, давай теперь ставь свою комбинацию».
Ну и порядок. Пошло дело.
На завкоме я все, как тебе, доложил, только официальными словами. Отхватил Серега премию цехкома и еще после от БРИЗа общезаводского. Хоть он и неподходящий мне, но по-прежнему я его сменщиком оставался. Но теперь было понятно – уважительная причина. Вот как не просто человека угадывать!
До тебя я вторым номером, например, числился, вроде подсобником при Петухове. Так тот меня в щели оставлял, вроде как живую свою силу я должен только беречь, а он на открытую позицию в одиночку выползал и оттуда бил по танку с фланга по борту. А мне только доверял ствол чистить и петеэр за ним таскать, как все равно я ему Санчо Панса, оруженосец из «Дон-Кихота».
Сначала я обижался. А потом дошло. Выдающийся боец, но на почет падкий. Ну я ему и оказывал, хоть и старше его своим гражданским возрастом, он вполне такой почет заслужил.
– Почет – она штука полезная, – сказал Куликов, – хоть и в самом малом, а удовольствие.
Сняв ушанку, наклоняя голову, Матешин осведомился:
– Не сильно он меня обкорнал? Не зябко будет?
– Нормально, – сказал Куликов. Добавил тоном знатока: – Стрижка солидная, бобриком, для пожилого в самый раз.
Бронебойщик согласно кивнул – ему было тридцать два года, Куликову пошел девятнадцатый…
VI
Когда получали вещснабжение, пожилые требовали все на один размер больше, для тепла, для того чтобы чувствовать себя вольготнее. Из всех вещей главное – обувь. Ее осматривали вдумчиво, недоверчиво, придирчиво, прежде чем примерить, и, когда боец останавливался наконец на одной какой-то паре, лицо его приобретало выражение отчаянной решимости. Молодые бойцы выбирали обмундирование с такой же медлительностью и упорством, как и пожилые, но руководствовались желанием получить по фигуре: гимнастерки в обтяжку, штаны с обозначением галифе. Их сильно огорчало то, что вместо кожаных ремней – брезентовые, вместо сапог – ботинки, а солдатские штаны без пузырей по бедрам, совсем как гражданские, только цвет хаки. И шинели, хотя и сшитые просторно, со слишком длинными рукавами, стесняли, вроде как с отцовского плеча.
Чувствительны к этой неказистости своего обмундирования в первые месяцы войны были и солдаты части, где служил Рябинкин; особенно расстраивались они, когда им доводилось видеть бойцов кадровых частей во всем их ладно пригнанном, довоенном добротном обмундировании, а главное, у них не ботинки, а сапоги.
И Петр Рябинкин в своем обмундировании чувствовал себя перед кадровыми солдатами так же, как после окончания ФЗУ, когда ему на заводе выдали новую спецовку, и каждый кадровый рабочий видел по этой новой, неладно сидящей спецовке новичка. И хотя он самостоятельно управлялся за станком, обученный в ФЗУ, даже уборщицы на заводе считали возможным давать ему доброжелательные советы, полагая, что он в них нуждается.
Как-то после прорыва немцев на Западном фронте, в октябре сорок первого, часть, где служил Рябинкин, отступила с боями в стужу в летнем обмундировании, заняв потом самостоятельную оборону на «Можайке». Рябинкин, тогда еще рядовой боец, не помнил, был такой приказ «Стоять насмерть» или не было такого официального приказа, но каждый солдат сам себе его отдал. В окопах люди страдали от холода. Но никто не сетовал на то, что он стынет оттого, что он в летнем обмундировании, когда положено было получить ему зимнее. Люди считали, что, оставив свои прежние рубежи, они как бы сами помешали нормальному вещснабжению, отступив, повинны в том, что потеряли зимнее свое обмундирование вместе с дивизионным складом.
Немцы прорывались танками. И люди шли на их танки с зажигательными бутылками, гранатами. Ложились в снег, били одиночными по автоматчикам, понуждая себя менять позиция как можно чаще не столько для того, чтобы маневром обезопасить себя от прицельной пулеметной очереди, сколько для того, чтобы не застыть насмерть в неподвижности.
Раненых притаскивали сначала в обогревательный пункт, а уж потом на перевязочный. Даже от малой потери крови люди впадали в беспамятство. И на поле боя раненым не делали перевязки, кровь твердо оплывала на ране красно-бурым льдом.
Старшина соорудил кипятильник из бочки для горючего, в нее для заварки сваливали жженные дочерна сухари, и этот бурый кипяток разливали по котелкам и доставляли их нанизанными на палку в окопы и щели бойцам для обогрева круглосуточно. Оборудовали в траншее тепляки из плащ-палаток, куда приползали застуженные и грелись у цинковок, в которых горел тол.
В эти дни страх смерти у человека как бы вымораживался страданиями от стужи. И не было таких отчаянно исступленных подвигов, каких бы люди не совершали. Но вот странно: они полагали, что фрицам достается от холода хуже, чем им. Немец якобы непривычный к морозу и страдает от него больше.
И людям казалось, что только выносливостью они пересилят тут немца, несмотря на его значительный перевес и технике и боеприпасах, несмотря на удачу прорыва в сладостно-манящую близость Москвы.
Даже самые вялые, унылые и сварливые бойцы здесь, на подмосковных рубежах, самозабвенно предались жажде мщения. Москва не укладывалась в понятие только города. Она была как бы обозначением сущности той жизни, которой жили люди, ее великого смысла.
И как бы на грани того, существовать или не существовать большему, чем твоя жизнь, все бились исступленно.
И когда изможденных, искалеченных, но одержимо приговоривших себя стоять насмерть бойцов пришла сменить на рубеже свежая, сильная дивизия сибиряков, солдаты-ветераны с неохотой уступали им свой рубеж.
Командир батальона сибирской дивизии, в валенках, в полушубке, в ушанке, весь тугой, теплый, сытый, с висящим на груди ППШ, говорил Трушину, тощему, с черно-синим обмороженным лицом и кроваво-потрескавшимися губами:
– Боевой приказ, обязаны подчиниться.
Трушин только злобно и напряженно смотрел на командира батальона, словно не понимая его, не желая понять, и повторял упорно:
– Подчинюсь только приказу командования своей дивизии. Согласно уставу…
Подразделение брело на отдых понуро, уныло, оскорбленно, не соблюдая строя, толпой. Раненые не захотели остаться в санбате «чужой дивизии», плелись, ковыляя, опираясь на плечи товарищей.
И когда в тот же день старшина, сияя, счастливым голосом объявил о раздаче зимнего обмундирования, солдаты растерянно бродили возле связок из полушубков, ватников, стеганых брюк, мягких ушанок, около насыпанных кучей валенок, трехпалых варежек, тюков суконного обмундирования, бумазейных портянок и такого же белья, молчаливо, задумчиво ощупывали все эти предметы и никто долго не решался набирать себе комплект.
И даже сам старшина, который вначале своим торжествующим видом как бы намекал на то, что во всем этом есть и его доля личной щедрости, сник, сказал жалобно:
– Вот, товарищи, какая диалектика. Мы из-под Вязьмы налегке от немца уходили. – И развел руками! – А теперь снаряжают, как папанинцев-героев.
Приказал:
– Получайте положенное, нечего резину тянуть.
И даже самые вещелюбивые не копались, не выбирали дотошно, не проверяли, все ли крючки, пуговицы на месте, называли свои размеры старшине, и стояла при получении вещснабжения тишина.
В новом зимнем добротном обмундировании солдаты Рябинкина приобрели облик тех армейских кадровых частей, от которых они в первые месяцы так были заметно отличимы. Теперь сравнялись с ними видом и по боевому опыту. И это вещевое щедрое богатство, выданное им в самый критический момент войны, ощущалось ими как одежда Отчизны, хранящая ее тепло.
…Солдаты из нового пополнения чувствовали себя в подразделении Рябинкина в первые дни трудно, тяготясь суровой замкнутостью бойцов старого состава, как бы признающих только свое товарищество, сплоченное испытанным, пережитым, а главное, памятью о тех, кто погиб в кого только они одни знали и будут помнить до конца жизни.
Как-то так получалось, что наилучшими почитали тех, кто погиб, хотя далеко не все они были таковыми, но помнили о них только хорошее, запамятовав плохое.
Остролицый, тонкогубый Андрей Клепиков с прозрачными высокомерными глазами, едкий на слово, себялюбивый в солдатском быту, отлынивающий, когда надо было копать окоп, щель, во время огня всегда оказывающийся там, где окоп глубже, перекрытие прочнее, – этот самый Клепиков, когда обстановка требовала особого подвига – не всех, а одиночного бойца, – угадывал такой момент, преображался, становясь на короткое время совсем другим человеком.
Пробравшись к фашистскому дзоту, ведущему по нашей цепи спаренным крупнокалиберным пулеметом губительный фланговый огонь, лежа уже вблизи от противника, в мертвом, непростреливаемом пространстве, Клепиков снял с себя ватник, расстелил на снегу, положил на него бутылку с горючей смесью, ударил по ней прикладом винтовки и, когда всесжигающее неугасимое пламя фосфорной жидкости вспыхнуло едким костром, поддел пылающий ватник стволом винтовки, привалился плечом к стенке дзота, затолкнул ватник в амбразуру. Выскочивших наружу немецких пулеметчиков Клепиков застрелил. Наша цепь почти без потерь совершила бросок, завязав бой во вражеских траншеях. Но Клепиков после этого и не подумал присоединиться к своему подразделению, выждав конца атаки у захваченного им дзота.
Доложив небрежно Рябинкину о своем подвиге, Клепиков потребовал, чтобы тот приказал старшине доставить ему новый ватник.
Рябинкин спросил:
– Ты же не раненый, не контуженый, почему потом тебя в бою не было?
Клепиков пожал плечами:
– А чего мне там со всеми пулять, я свое задание выполнил, и точка.
Трушину Клепиков бесцеремонно напоминал:
– Товарищ политрук! Мне же за дзот причитается. Или, по-вашему, я должен был своей тушкой амбразуру прикрыть? Тогда только положено?
Когда Клепиков читал в «дивизиовке», в листовках о подвигах самопожертвования, совершенных отдельными бойцами, он говорил:
– А к чему им теперь награды, если попользоваться нельзя? Мертвому ничего не надо. – Добавлял задумчиво: – Разве что знакомым и родственникам будет приятно.
Немцы налаживали на льду реки бревенчатый настил, укрепляя лед для прохода танков.
– Хотите, за «Звездочку» я им это дело поломаю? – предложил Клепиков комбату.
Тот сказал неприязненно:
– Храбростью, товарищ боец, не торгуют.
Клепиков разрушил переправу. Сделал из лыж санки, водрузил на них невзорвавшуюся немецкую бомбу, обложил ее толовыми пакетами, ночью приволок эти груженые сани к берегу, зажег короткий конец бикфордова шнура и спустил сани вниз по береговому откосу.
Погиб Клепиков в новогоднюю ночь, сопровождая подводу с праздничными подарками, присланными из тыла.
В пургу он потерял направление, напоролся на немецкое боевое охранение. Приказав повозочному разворачиваться и дуть во всю мочь в обратном направлении, Клепиков соскочил с саней, залег в снегу и отстреливался, последний патрон он послал себе в сердце. И даже в эти страшные мгновения он все обдумал: убил себя наверняка, расчетливо, понимая, что, если он подымется, немцы могут только ранить его, но не убить.
И лишь когда Клепикова не стало, Петр Рябинкин, и не только он, понял, что этот паренек был неразгаданным человеком, упрятавшим свое истинное мужество за бравадой, лихостью, как бы стесняясь выявить перед товарищами свою твердость, свою чистоту.
То же самое Утехин. Он был приметен только тем, что никак не мог привыкнуть к солдатской самостоятельности, сообразительности. Когда все по-солдатски чуяли, что будет ночной бой, Утехин преспокойно раздевался в натопленной землянке до исподнего и укладывался, закрывшись с головой полушубком. Потом он спросонок никак не мог отыскать своего обмундирования. И когда бойцы кричали на него, он отвечал обиженно:
– А что я, по-вашему, должен раздетым выскакивать на улицу? – Хотя улицы никакой не было, только снежное пространство, покрытое копотью и лупками от разрывов снарядов и мин.
Ел он медленно, жадно, истово, широко расставив локти.
И вообще у него была манера во время сильного огня, когда все шаталось, рушилось, притулиться спиной к окопу и есть. Он доставал сухарь и начинал жевать, бессмысленно, самоуглубленно глядя перед собой.
Лежа в цепи, он спрашивал:
– Стрелять? Сколько раз? А по чему? А если я никого не вижу, тоже стрелять?
Однажды он пополз из цепи в тыл, странно шаря в снегу руками. Рябинкин к нему:
– Ты что, гад, струсил?
– Где-то гранату свою потерял, – спокойно сообщил Утехин. И, глядя доверчиво крупными коровьими глазами, заверил: – Вы меня обождите, я ее сейчас найду, вернусь.
Продвигаясь в цепи, Утехин выстрелом положил немецкого ефрейтора. Вскочив, заорал:
– Попал, товарищи, попал!
Рябинкин, ударив по ногам прикладом, свалил Утехина на снег, сказал злобно:
– Чего вскочил, убьют!
– Так я же попал, вы видели! – радостно воскликнул Утехин.
– Ну, значит, медаль тебе за это, – пошутил Рябинкин.
– Ну что вы, – смутился Утехин. – У меня нечаянно получилось. Даже до сих пор не верится.
Утехин испытывал безграничную доверчивость ко всем без исключения. Ему казалось, что людям интересно в важно знать, что он думает, чувствует. Он был простодушно откровенен, не считая это стыдным, запретным.
– Знаете, товарищ Рябинкин, чего я придумал? – говорил Утехин, улыбаясь. – Когда вы меня в боевое охранение посылаете, я сам с собой занимаюсь.
– То есть как это «занимаюсь»?
– Одному плохо. Видеть нечего, темнота. На слух только их караулишь. Ну, я учебники вспоминаю, которые в школе перед экзаменом вызубривал. И знаете, хорошо отвлекает.
Когда однажды бойцы после тяжелых потерь обсуждали обстоятельства боя, Утехин вдруг объявил, обводя всех сияющим взглядом:
– А знаете, я уверен, что меня не убьют. Ну как это так, чтобы меня совсем не было! Конечно, ранить могут, это я допускаю. Но убитым я себя представить не могу никак.
– Ты что, чокнутый?
Утехин упорствовал:
– Но ведь бывают люди счастливые во всем. Почему я не могу быть таким? Ну почему?
– Забалованный ты, вот чего!
– Почему же?
– Да разве о смерти можно так рассуждать?
– А чего перед ней унижаться?
– То-то ты сахар в бою сосешь, как младенец.
– Сахар действует успокаивающе на нервную систему. Ведь я некурящий. Спросил воодушевленно: – А вы заметили, товарищи, после сильной бомбежки обязательно хочется отлить? У меня это всегда так…
Как-то во время боя, когда подразделение, покинув окопы, медленно, ползком передвигалось цепью по открытой местности, в терпеливом ожидании того, чтобы своя артиллерия, бьющая сейчас по глубине немецкого расположения, перенесла огонь по его переднему краю и что тогда можно будет совершить бросок, опасаясь только ослабленных на излете ударов осколков своих же снарядов, Утехин сказал Рябинкину:
– Одолжите, пожалуйста, обойму, а то я свои уже все расстрелял.
Уже в самой такой просьбе содержалось какое-то бесстыдство. Каждый боец знал: случается, что последний сбереженный патрон спасает тебе жизнь. И если «одалживали» кому патроны, даже, бывало, из магазина винтовки, то тому, кто назначал себе в одиночку добраться до вражеской пулеметной точки. Бывало, раненые, ослабевшие бойцы окликали соседа, чтобы тот прихватил их неизрасходованные патроны, оставляя для себя лично на всякий возможный случай в магазине винтовки только два-три патрона. Брали и у погибших. Это был солдатский обычай, суровый, разумный, расчетливый.
У серьезных, квалифицированных бойцов в особо назначенном кармашке подсумка хранились обоймы, где каждый патрон протерт тряпочкой, встряхнут у самого уха, чтобы убедиться в плотности пороховой набивки, а также насадки пули. Такие заветные обоймы составлялись из наборных патронов: бронебойных, зажигательных, трассирующих.
Нет в мире такого волевого человека, который, допустим, оказался бы способным во время боя участвовать в заочном шахматном турнире, да что там шахматном – играть на память в шашки, помня все свои и чужие ходы, в то время когда в тебя стреляют изо всех всевозможных стволов. Между тем Петр Рябинкин, так же как и другие опытные воины, в бою владел собой так хорошо, что держал в уме не только свои боевые расчетливые ходы, но и ходы противника.
Он еще на заводе обучился этой тонкой рабочей наблюдательности, как и другие бойцы, привык к тому, чтобы ощущать себя частицей целого, от которого ты зависишь так же, как и оно, это целое, от тебя зависит.
И вот когда Рябинкин продвигался по местности рядом с Утехиным, он был занят мыслями: немцы стали применять ранцевые огнеметы не только в наступлении, чтобы их струей выжигать команды в дотах и дзотах, но и в обороне, с короткой дистанции, когда наши врывались в их траншеи. Значит, надо особо выглядывать огнеметчиков и уничтожать их в первую очередь.
И когда однажды Утехин попросил простодушно одолжить ему обойму, Рябинкин сказал зло:
– Ты свои выпулил не глядя куда. Вояка! – Но все-таки, пересилив себя, дал.
– Спасибо, – сказал Утехин и пообещал: – Я, товарищ Рябинкин, теперь каждый ваш патрон буду стрелять только по видимой цели.
И действительно, Утехин стрелял редко, каждый раз после выстрела подымал голову, чтобы убедиться, попал или не попал. Рябинкин даже был вынужден на него прикрикнуть:
– Ты что, в тире очки выбиваешь? Не высовывай башку.
Но Утехин, дорожа каждым выстрелом, все-таки подымал голову в на последнем своем выстреле упал с пробитым лбом на приклад винтовки. И у Рябинкина было такое чувство, будто он сам повинен в смерти Утехина, и эта вина останется у него на всю жизнь, потому что не рассчитал в своей личной озабоченности в бою того, что во всей доверчивый к людям Утехин, получив от него обойму, засовестился от его обидных слов. Это надо было понять, а Рябинкин не понял.
VII
Война учила Рябинкина не только бою, но и пониманию того, что среди рядовых нет рядовых людей. Каждый чем-то неповторимо особенный.
Рябинкин все больше проникался соображениями о том, что сберечь товарища не всегда можно, только прикрывая его огнем или даже кидаясь на врага, если заметил, что товарищ твой замешкался.
Надо во всех нечеловеческих обстоятельствах войны оставаться человеком, понимать душевное состояние другого. Тот же Володя Егоркин, получая нехорошие письма от жены, томясь мнительностью, перебарывая тревогу и страх перед унижением, стал щеголять бесшабашной удалью, молодечеством, этаким боевым озорством. Он стал язвительно груб с товарищами, особенно с пополненцами, говорил новому бойцу Прохорову, который к черному пластмассовому солдатскому медальону прикрепил портрет девушки в целлофановом футлярчике:
– Ты ее портрет на груди держишь, а она, может, в это время… Я вот даже солдатского медальона не ношу. Ни к чему. Если разворотит прямым попаданием, так и медальон не поможет…
Рябинкин слушал эти рассуждения молча, еле сдерживая себя. Он аккуратно собирал, что ему понадобится для разведки в расположении врага, куда он должен был идти вместе с Егоркиным. Закончив приготовления, не глядя на Егоркина, он сказал:
– Насчет тебя мое решение – отставить. – И добавил резко: – Все.
Пополненцев, конечно, не полагалось пускать сразу в разведку, да и вообще для разведки подбирались люди опытные, знающие друг друга по бою. Без обоюдной уверенности на такие задания не ходят, иначе бы Рябинкин пошел с Прохоровым, не зная его как бойца, но заинтересовавшись им как человеком. Его тронула та простодушная откровенность, с которой этот парень нацепил при всех портрет своей девушки на солдатский медальон, не видя в этом ничего неловкого, а даже гордясь этим, как особой присягой, отданной кому-то помимо воинской.
Эта серьезная откровенность Прохорова – он любит и не собирается скрывать, напротив, считает долгом поставить всех в известность об этом, его уверенность в том, что каждому его чувство понятно и близко, вызвала у Рябинкина к молодому бойцу не столько, пожалуй, симпатию, сколько доверчивое любопытство.
Может или нет человек проникаться к себе особым уважением только оттого, что он кого-то там любит, и от этого держаться с таким достоинством?
Прохоров ответил тогда Егоркину, выслушав его внимательно:
– Вы правы, сомневаясь, каким я окажусь солдатом. Но зачем же, если я, допустим, слабодушный, внушать мне плохие мысли о самом близком мне человеке? По меньшей мере это нерасчетливо. И я бы даже сказал, не по-товарищески.
– Ты студент? – спросил Егоркин и, не дожидаясь ответа, констатировал: – На полном гособеспечении. Жизни не знаешь.
– Нет, я не студент, – сказал Прохоров.
– Из каких же?
– Техник-лесовод.
– Для войны профессия никчемушная. – И, кивнув головой на искалеченную рощу с высокими расщепленными пнями, Егоркин объявил: – Видал, вон где немцы – мы по ним и по своему лесу лупим. Жалко тебе небось леса?
– А вам?
– Я человек заводской.
– Ну и что?
– Значит, не переживаю. На все переживалки не хватит. Товарищей теряем, и то душой глохнешь.
– Зачем?
– Вот повоюешь – поймешь.
– А знаете, – сказал Прохоров, – по-моему, вы просто застенчивый человек. И говорите со мной совсем не о том, о чем думаете.
– Откуда ты знаешь, чего я думаю?
– Я не знаю. Но мне так кажется.
– Видали, какой прыткий! – воскликнул Егоркин. – Раздень перед ним сразу свою душу, он ее осмотрит и определит, чисто она здесь вымыта от пота и крови или нечисто. – И произнес грубо; – Ты свою наблюдай, как бы она тебе в бою штаны не замочила…
Падал мягкий, рыхлый и, казалось, теплый своей пушистостью снег. Шорох его падения, мягкая его уютность как бы лишали человека ощущения опасности, тем более что расположение врага, местность, которую он занимал, ничем не отличалась от той, где находились наши рубежи.
В серых сумерках ночи снежный покров как бы слабо светился, кожано скрипел, блестя ледяными песчинками.
Обнаружили линию связи. Рябинкин перерезал черный, в толстой резине провод, оставил в засаде Куприянова, а сам вместе с артиллерийским разведчиком, солдатом Крутиковым, пополз к бугру, с которого намечено было вести наблюдение за передним краем противника.
Внимательно прислушиваясь к музыке, доносившейся от одной из немецких землянок, Рябинкин определил:
– Патефон. Надо засечь эту землянку. – И деловито пояснил: – Ребята довольны будут обзавестись патефоном. – Потом, так же напряженно прислушиваясь, сказал огорченно: – Пожалуй, скоро не возьмем. – Спросил: Слышишь, бревна с грузовиков сваливают? Значит, пополнение ждут новое. Блиндажи строят. А вон, видал, сугроб вроде в воздухе висит. Это на маскировочную сетку над батареей снег нападал. Не стряхивают сетку, вот и раскрылись. А вообще немец маскировку художественно под местность делает. Старается.
Спустя некоторое время Рябинкин сказал встревоженно:
– Чего-то Куприянова не слышно. Ты побудь, я до него схожу.
Но Куприянов объявился сам, с немецким автоматом на шее и катушкой немецкого провода на детских салазках с сиденьем, обитым по краям тесьмой с помпончиками. Куприянов сказал сипло:
– Пошли!
Салазки, которые тянул за собой Куприянов, звонко шуршали полозьями по насту.
– Да брось ты их! – приказал Рябинкин.
– Нет уж, – сказал Куприянов, – довезу. – Произнес озлобленно: – Я как увидел, что он на ребячьих санках свою катушку волочет, ну все… – Показал окровавленную ладонь. Объяснил: – Прокусил он мне все мясо, пока я его за пасть держал, а другой рукой наспех давил. – Пожаловался: – Озверел я сильно за эти детские санки. А то можно было б наганом запросто успокоить.
Возвращаясь в свое подразделение, разведчики зашли на НП к артиллеристам. Наблюдательный пункт был вынесен далеко за пределы оборонительного рубежа. Это была щель, выкопанная под брюхом подбитого танка, башня которого валялась невдалеке, отброшенная взрывом снарядов из боекомплекта.
Куприянов снял с шеи немецкий автомат, подал младшему лейтенанту-артиллеристу, сказал:
– Вам от нашего стрелкового подразделения. – Добавил: – За то, что аккуратно огонек кладете. – Спросил: – Ну как ваш бог войны, не кашляет?
– Пришли новые системы, – похвастался артиллерист.
– Ну а вы сами как?
– Отлично, – оживился младший лейтенант. – Теперь без ошибки на слух определяю, стреляет пушка или гаубица и какого калибра, стоит ли орудие на открытой позиции, или в дзоте, или в железобетонном доте. А ведь, представьте, в свое время считал непостижимым таинством, как это дирижер может одновременно улавливать звучание каждого в отдельности инструмента в оркестре.
– Вы что же, музыкант?
– У меня голос, – смущенно сказал артиллерист. – Но вместо музыкального училища поступил в артиллерийское.
– Это почему же?
– Так, – сказал артиллерист и, потупившись, объяснил: – Папа погиб в Испании.
– Понятно, – сказал Куприянов. И, вытащив из ватника «вальтер», произнес твердо? – А это к автомату в придачу от меня лично.
– А что у вас с рукой? – спросил младший лейтенант.
– Травма на производстве, – сказал Куприянов и небрежно сунул израненную руку в карман.
Доложив о выполнении задания, Рябинкин вернулся в землянку. Положив толсто забинтованную руку для мягкости себе под щеку, Куприянов спал. Прохоров писал, склонившись к коптилке, сделанной из сплющенной на конце гильзы зенитного снаряда, вместо фитиля в ней тлел зажатый вигоневый носок.
– Ей пишете? – опросил Рябинкин.
– Да, – сказал Прохоров и предложил: – Хотите прочту?
Рябинкину казалось неловким слушать письмо, адресованное девушке, которую Прохоров так сильно любит. Но он превозмог свою душевную стыдливость из тайного желания услышать какие-то особенные, сильные, жгучие слова.
– Валяй, – сказал Рябинкин.
Прохоров читал свое письмо так, как требовал учитель русского языка в ФЗУ от Рябинкина, – «с выражением». Письмо было написано складно и даже красиво, особенно в том месте, где Прохоров описывал блиндажи, землянки, орудийную пальбу. Рябинкин, слушая, кивал одобрительно головой и даже заметил, что про воинский долг Прохоров написал не хуже, чем даже в «дивизионке» печатают. Но про самое главное Прохоров писал не своими словами, а из стихов, и хотя стихи были ничего, хорошие, по получалось, что он вроде как брал взаймы чужое, как брали взаймы ребята пиджак или новые ботинки, чтобы сходить на свидание.
Прохоров сообщал своей девушке, что, когда его послали в боевое охранение, он думал только о ней. Но это же, решал про себя Рябинкин, неправда. Хотя это не разведка, не может человек, да еще первый раз пойдя в боевое охранение, так думать. Рябинкин бесчисленно бывал в разведке, но всякий раз, когда давал Трушину партбилет, зябнул душой. Выходило, что он опасался, как бы немцы, шаря в его карманах, не обнаружили бы, кто он такой был, этот советский павший боец.
Опустив глаза, рассматривая свои валенки, Рябинкин спросил глухо:
– Ты что же, Прохоров, ничего такого не переживал, находясь в боевом охранении, действительно о ней только думал, и больше ничего?
– Ну что вы! – удивился Прохоров. Сообщил доверчиво: – Меня все время беспокоило, дослал я патрон в казенник или не дослал. Хотелось проверить. А затвором щелкать нельзя. Очень мучился такой мнительностью.
– Так, – протяжно произнес Рябинкин. Глядя пристально в глаза Прохорова, спросил сурово: – А ты бы вот и написал фактически насчет винтовки. Это у всех вначале такое бывает беспокойство.
– Но ведь это ей неинтересно.
– Так, – еще раз сказал Рябинкин. Спросил: – Ну как у Куприянова, ничего, обошлось с рукой?
– Вы знаете, он все-таки жестокий человек, – объявил Прохоров. Задушил немца и спит спокойно.
– Не жестокий, а душевный, – твердо сказал Рябинкин. – До меня сразу не дошло, откуда у фрица детские саночки. А он сразу от этого зашелся. Чувствительный на подлость. А спит он не спокойно. Откуда ты знаешь, что у него на душе? Ты вот сам убей, а потом скажи, как после такого спится. В то, что Куприянов про ребятенка думал, у которого фашисты санки отняли, я верю. А тебе почему-то не очень.
– Почему же? Ведь это обидно.
– Может, я тебя и не понял, как ты не понял Куприянова. У каждого человека своя душевная механика. Только и всего…






![Книга Мелодия на два голоса [сборник] автора Анатолий Афанасьев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-190393.jpg)