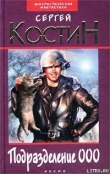Текст книги "Особое подразделение. Петр Рябинкин"
Автор книги: Вадим Кожевников
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
IV
Рябинкин на своем опыте изведал, какую целительную помощь оказывает в бою эта утешающая, откровенная солдатская доверчивость…
Всю ночь немец обрабатывал передний край стволами больших калибров. Снаряды лопались со звонким хрустом, вышвыривая бревна наката, ушибая горячими тугими глыбами воздушной волны, словно падающими прямо из распоротого неба.
Немецкие батареи работали мерно, с интервалами, потребными для подачи снарядов в разгоряченные стволы и на дистанционные поправки. Батареи работали, как гигантский цех без кровли и стен. Серый облачный далекий навес над ними озарялся мгновенными багряными отблесками, пороховыми зарницами. И звук их был подобен глухим ударам многотонного молота, заколачивающего в твердую толщу гигантскую сваю, мягко, грузно сотрясая после каждого удара податливую землю. Над головой наждачно шуршали воздушные струи, из которых выпадала стальная тварь, гибнущая при соприкосновении с землей и приносящая гибель. Она лопалась с неизъяснимым звуком, вышибающим ушные перепонки. Она лопалась, распертая внутренним пламенем, как закупоренная посудина, яростно расшвыривая свои стенки, расколовшиеся на тысячи смертельных обломков, режущих, рассекающих, пронзающих. Пороховые газы черно оплавляли землю, а удар струи придавал воздуху тяжесть и плотность разжиженного стекла.
Рельсы на перекрытии блиндажа при прямом попадании скручивало, словно после проката на вышедшем из повиновения стане.
Мерный стук больших калибров сменялся краткими массированными ударами из всех наличных стволов, и тогда передний край уподоблялся лесному пожарищу. Кустами огня вспыхивали разрывы мин, а разрывы снарядов выращивали огненную гигантскую чашу, извергнутую из земли и мгновенно гаснущую, опадающую с гулом каменной лавины. Этими массированными ударами враг старался вызвать у людей паралич воли, нервно-психическое угнетение.
После таких налетов враг испытывал танками в сопровождении бегущей за их броней толпы автоматчиков душевную выносливость наших бойцов, копошащихся в оползших щелях и окопах, как шахтеры в завалах, полуоглохших, полуослепленных, полуутративших ощущение себя живыми. Солдаты выбирались из этого ощущения полусмерти с таким же судорожным усилием, как из окопного завала.
Это ощущение полусмерти рождало у человека невыносимое, угнетающее чувство одиночества, полусуществования, новой полусмерти или полной смерти. Он видел ее рядом с собой в истерзанных, разбросанных человеческих телах.
Все это в ту ночь и переживал Петр Рябинкин в окопе, шатаемом, как земляное корыто, находясь в состоянии полужизни-полусмерти. И вот тогда к нему подполз солдат Чишихин, бывший токарь с его завода. Глаза его были белыми на сером лице. В поднятом воротнике шинели – комья глины, которых тот не чувствовал. Чишихин произнес застывшими, твердыми, как бы костяными, губами, насильственно улыбаясь:
– Что, Рябинкин, дает нам фриц жизни? Дальше некуда! – И спросил: Закурить найдется?
Рябинкин, стыдясь выдать дрожание рук, сказал неприязненно-сипло:
– Нету.
– Тогда давай мой закурим.
Судорожно сведенными пальцами Чишихин с трудом раздергивал шнурок кисета и никак не мог его раздернуть, объяснил с горестной откровенностью:
– А я вот зашелся, понимаешь. Как дало рядом, ну, думаю, все…
– А ты не думай, – сказал Рябинкин, хотя сам то же самое про себя думал, когда его завалило.
– Вот ты при себе, – завистливо сказал Чишихин, – управляешься с собой, не думаешь про это, а я, как слабак, все одно про себя думаю.
И тогда Рябинкину стало стыдно своего притворства, и он сказал:
– Холодно, а я вот весь отсырел от пота, и руки – того. Ты уж мне сам сверни, Чишихин.
– Значит, переживаешь, – обрадовался Чишихин и суетливо заговорил: Ну, спасибо, обнадежил, а то я стал думать, что я один хуже всех, только мне одному невмоготу, а другие все спокойно терпят, начал совсем теряться. А теперь мне на душе легче, раз я не хуже, а такой, как все. – Затянувшись, сказал доверчиво: – Я уж к тебе ближе подержусь. Ты меня на заводе выручал, когда я с нормой не справлялся. Так если подобьют, не оставишь, вынесешь! Произнес застенчиво: – Ну, и что я у тебя в долгу, помню, пока живой. Так что нам рядом лучше.
– Ты о чем таком со мной договариваешься? – подозрительно осведомился Рябинкин.
– Да вовсе я ни о чем не договариваюсь! – протестующе воскликнул Чишихин, уязвленный таким вопросом, а главное, тоном, каким он был задан. Не надо мне никакого договора. Это я сам себе разъясняю, как надо понимать мне самого себя, про свой должок перед тобой.
– Ты свой солдатский долг помни! – сказал Рябинкин командирским голосом.
– А он из должков состоит, этот солдатский долг, – горделиво объявил Чишихин. – И не перед тобой одним у меня должки, и, если прямо сказать, за всю свою гражданскую жизнь я всем обдолжался, как и ты тоже, и все мы вместе.
– Ну это правильно, – согласился Рябинкин. – Гражданская жизнь у нас была подходящая, и, если б не война, то ли еще было б!
– Именно, – обрадовался Чишихин. – Вот Трушин Алексей Григорьевич. Для всех солдат он кто? Политрук, и только. А для меня он по званию еще больше. Когда зашивался на токарном, он мне свой опыт подсунул, как будто он ему самому лишний, не задел за самолюбие, а исподтишка подсунул. Хоть я и не из его бригады. И на фронте он меня наблюдал. Я штык от винтовки потерял. Он заметил, стал выговаривать.
Я ему: «Сейчас не та война, как в гражданскую, в штыковую атаку не ходим. Фашисты в нас из автоматов брызжут с короткой дистанции, а вы меня за штык упрекаете. На крайний случай могу и прикладом ударить».
А он мне: «Ты, говорит, задумайся, Чишихин, не о том, почему ты штык в бою потерял, а почему ты в бою потери штыка не заметил. А не заметил ты этого потому, что не энергично шел на сближение с противником. И этого ты в себе не заметил. А если б это главное в себе заметил, то и штык бы на винтовке сидел на месте прочно закрепленный и ты свое солдатское место в бою в передовой цепи не потерял».
Спрашиваю: «Что ж я, по-вашему, трусил?» – «Нет, зачем же, просто ты еще до передового бойца не подтянулся. Значит, обрати на себя внимание с этой стороны».
А я ведь в том бою трусил, жался в землю. Не столько на фашистов глядел, сколько на местность, где ловчее прилечь, безопаснее после перебежки, каждый бугорок выглядывал и все патроны при себе таскал не расходуя.
Рябинкин уныло согласился:
– Верно, бывает, что прикрытие сильнее ищешь глазами, чем фашиста, который из своего окопа высовывается. Ну и свой комплект потом после боя сосчитаешь, выходит, сэкономил ради своей шкуры, перед бойцами совестно, а перед павшими совсем невыносимо виноватым выходишь.
– Вот-вот, – подхватил Чишихин. – Трушин так и разъяснил. С одной стороны, боец по местности должен грамотно передвигаться, с другой стороны, должен грамотно огонь вести и сам собой управлять, согласно своей совести. И нет такого командира, который за всеми бойцами может в бою уследить, надо самому собой командовать и после боя как бы самоотчитываться – пересчитать, скажем, патроны: если остались, выяснить самому себе, почему остались, а если их не осталось, не было ли у тебя такого, что ты или просто так отстрелялся, не ради боя, а ради проверки отделенным. Его-то, допустим, можно обдурить пустым патронташем. Но свою совесть не пережулишь. Ведь верно?
– Верно, – согласился Рябинкин.
– Значит, надо один на один с самим собой уметь правильным быть. Тогда тебя и все отделение признает, и взвод, а может, и вся рота. – И Чишихин тут же пояснил: – Вот это вот самое думать мне Трушин посоветовал. Сказал, такой душевный опыт он с гражданской войны для себя утаил. И еще сказал: «Солдатское ремесло, оно не такое уж сложное, чтобы понять. Но хороший солдат только из хорошего человека получается». И он мне прямо объяснял: особенность партийной должности политрука в том и состоит, что он человеческое в каждом солдате на уровень коммуниста должен вытянуть. В гражданскую войну была памятка для красногвардейца-партийца, лично Лениным одобренная, так в ней сказано: коммунист должен вступать в бой первым, а выходить из боя последним. Значит, для беспартийного, если он так поступает, это есть наилучшая его рекомендация в партию.
– Ты что, меня агитируешь? – спросил Рябинкин, одобрительно глядя в глаза Чишихина, блестевшие сейчас живой, иной взволнованностью, чем прежде.
– Да нет, – смутился Чишихин. – Это я как бы вслух для себя. Ты же сам Трушина лучше знаешь. Он тебя еще на заводе одобрял и тут тоже…
И хотя во время этого разговора гулко падали снаряды, ослепляя оранжевым едким пламенем, оглушая, лишая воздуха, выжженного пламенем взрыва, засыпая опаленными сухими комьями глины, оба переживали эти толчки в смерть терпеливо, только мгновениями ощущая боль души, сведенной судорогой одиночества, от которого так же мгновенно освобождались силой человеческой близости, сознанием одинакового переживания. И это освобождало от заточения в самом себе, которое постигает человека в моменты соприкосновения со смертью. Освобождало от паралича воли, от психического угнетения. Разжигало в сердце волю к бою, мести за пережитое душевное унижение. Помогало дальше терпеливо свершать подвиг бездействия в ожидании, когда наступит спасительная свобода для действия. И не только Рябинкин с Чишихиным находили простой человеческий путь для преодоления такого угнетения, как бы сближали свои души, но и другие бойцы в эти гибельные длинные часы артналета, теснясь парами или, против устава, собираясь кучкой, вели медленные беседы тихими голосами о столь далеком от войны и столь необходимом для войны, для победы человеческого духа над ней. И эти беседы прекращались только тогда, когда надо было вытащить раненого или убитого.
* * *
Трушин, обходя траншеи и слыша, что бойцы разговаривают, не ввязывался в их разговор, считая, что тут все в порядке, но, когда видел молчаливых, притулившихся к стенке, начинал с обычного солдатского – просил закурить или угощал сам. Сообщал доверительно:
– Сегодня фрицы, как никогда, на нас много боеприпасов расходуют. Поняли, какой батальон у нас крепкий. И днем и ночью из всех калибров шумят. В гражданскую я такого громкого гула не слышал, только теперь привелось. Аж душа зябнет.
– Это у вас-то?
– А как ты думал? Переживаю!
– В командирском блиндаже безопаснее переживать. Четыре наката.
– Верно, в окопе небо открытое, – мирно говорил Трушин, будто не замечая, что солдат не в себе. – Видал, звезды какие крупные, и все светят как ни в чем не бывало.
– Вы что же, на звезды вышли поглядеть под огнем?
– Возможно, и на звезды. Они не только нам с тобой светят, но и тем, кто дома.
Значит, есть кому похоронку получить.
– Найдется. А ты чего такой злой, может, дома ее об тебе получить некому?
– Нет, есть, родственников хватает.
– Так ты бы вот в эту нишу перешел, безопаснее, и бруствер над ней целее!
– А, один черт!
– Ну, как желаешь. Только я тебе так скажу. Ты хоть не для себя, а для близких тебе людей сохраняйся по возможности. Допустим, тебя не будет, а им как это переживать?
– Вы, товарищ политрук, мной командуйте, а семья моя для вас совсем ни к чему.
– Как же так ни к чему? – изумленно развел руками Трушин. – А зачем мы здесь с тобой, как не для них?
– Чего вы мне вкручиваете? Разве каждый тут за свою семью стоит?
– Обязательно. И в первую очередь.
– Не по-партийному вы со мной говорите.
– Это почему?
– Потому, что не состою.
– Ну ты не состоишь, а я-то состою. Так что ж, по-твоему, я должен одно партийным говорить, а другое – беспартийному?
– Ваше дело такое – дух поддерживать, на каждого свой ключ.
– Ты что ж, полагаешь, люди тут свои души на замке держат?
– Обыкновенно, у каждого свое.
– Свое-то свое, а замок – это одна тяжесть, и больше ничего.
– А вот вы мне скажите, мог я на себя замок этот навесить или не мог? Подобрал я с убитого бойца его патроны, а отделенный после боя у меня их пересчитал и при всех бойцах поставил по команде «Смирно» – и того, будто я в воронке отлеживался и солдатский долг забыл. Обидно.
– Что ж ты не разъяснил?
– Разъяснишь, как же, когда стоишь по команде «Смирно» весь вытянутый. А он обозвал и ушел.
– Ладно, будет у меня с отделенным особый разговор.
– Не надо.
– Почему?
– У отделенного семейство на оккупированной территории. Переживает. Сам без оглядки в бою, ну и с других того же требует.
– Так ты его что, извиняешь?
– Нет, зачем. Будет бой, я ему докажу.
– Что ж, правильно, раз так запланировал для себя. Значит, докажешь отделенному?
– И докажу!
– А я, понимаешь, сам в тебе ошибся. Гляжу, оцепенел боец, винтовка землей присыпана, сам тоже. Решил агитацию развести, а выходит, ни к чему.
– То есть как это ни к чему? – обиделся боец. – Что я, политбеседы вашей не понимаю? Понял же.
– Чего же ты постиг, какой тезис?
– Ну, про то, что и отделенного надо по-человечески понимать, как вы вот со мной поговорили, понял. Вы не за винтовку сразу меня в разговор взяли, не почему солдат такое упущение имеет. Сначала понять его пожелали по-партийному, понять по-человеческому. А потом про упущение. И за это я вам скажу. Я ведь почему скис? Не из-за отделенного. Немец бьет, того и гляди тебя насовсем свалит. А мне покурить даже не с кем. Думаю, подойду к бойцу, даже со своим кисетом. А он табака не возьмет. Про патроны неистраченные мои вспомнит и не возьмет.
А стану про патроны объяснять, как на самом деле было, может и не поверить.
– А я же тебе верю.
– Так я вам сказал почему? Думал, вы только советовать будете, как врага бить, а вы со мной про дом заговорили.
– Сначала про звезды, – напомнил Трушин.
– Верно, про звезды, было такое. Ну, я прикинул, политрук подхода ищет. Взъерошился. А потом постиг, тоже, может, у вас свое щемит горе какое. Ну, и информировал, что моя обида хоть и мелкая, но тоже щемит. Сконфуженно попросил: – Только вы сильно не переживайте, что вас в политотделе крепко жучили за то, что у бойцов фашистские листовки нашли, а вы наши вещмешки не позволили проверить. Мы потом сами от себя штабников в отхожее место сводили, ребята для этого листовки пользовали, бумага самая подходящая. Только и всего…
И весь этот разговор шел в пламени, в грохоте взрывов, в чаду сгорающей взрывчатки, в землепаде, начиненном осколками, визжащими, как страдающее животное, и прерывался он только для того, чтобы Трушин мог подняться в секунды затишья и взглянуть, не идут ли фашистские танки.
Когда Трушина спрашивали: почему молчат наши орудия? – он отвечал изумленно: «А чего им себя высказывать? Фашисты сильно свои огневые позиции обнаружили и, видать по всему, полностью сегодня себя обнаружат. Наши засекут и в соответствующий момент их погасят. Артиллерийские разведчики где сейчас? Впереди нас выползли. Засекают, подсчитывают. Без всяких удобств на открытой местности работают, где ни щелей, ни окопов, все тело наружу. А на кого они работают? На нас. Вы что же думаете, у наших огневиков за вас душа не болит, не видят они со своих позиций, как немец тут снарядами почем зря колотит все пространство? Видят. Знают. Переживают. Но бой – это не драка: он тебе, ты ему. И еще неизвестно, что в нем важнее – ум или храбрость. Хотя без смелости ума в бою не сохранишь, ум от нее зависит. Смелость с умом – это и есть доблесть. Вон, к примеру, Ходжаев выполз на танкоопасное пространство с противотанковой миной, привязал ее на длинном проводе, залег в воронке и, когда фашистские танки пошли, проводом подтянул мину под самую гусеницу, ну и все, порядок.
Весь маневр провел лежа на брюхе в воронке, и осколки не тронули, в танк не приметил одиночного бойца в сторонке».
– А автоматчики ему очередь саданули.
– Задели. Но живой все-таки. И с орденом. Ему генерал в госпитале прямо к нижней рубахе орден привинтил. Обмундирование забрала хозчасть госпиталя. Одну нижнюю рубаху оставили. Больше никакого своего имущества при нем нет. Рубашка, орден да бинты. А опыт Ходжаева – с миной на проводе танк подлавливать – при нас остался. Облагодетельствовал он нас своим умом. И теперь много желающих по-ходжаевски с минами действовать. Некоторые даже позволили себе свое же минное поле обворовывать, тянут как с огорода тыквы. Это уже неправильно. Можно с саперами договориться. Попросить об одолжении. Хоть им не положено мины на руки раздавать. По-человечески всегда договориться можно. А то есть у нас такая манера своевольничать, не спросясь. И в гражданской жизни.
Я, например, всегда в инструментальном сам для себя резцы изготавливал в нерабочее время по своему вкусу. После работы в шкафчике своем укладывал. Прихожу, беру, гляжу: что такое? Иступлены и в побежалых цветах от перенакала. А кто это себе позволил? Наш Рябинкин на скоростное резание себя пробовал моим инструментом, не спросясь. Я его спрашиваю: «Как же ты мог такое бесстыдство позволить?»
А он молчит. Физиономия зябнет, уши вспухли.
Говорю: «Какую же ты скорость станку давал?»
Называет.
«Врешь, должен режущий край сразу крошиться от сильного перенакала, а он только иступлен».
Рябинкин вякает про какую-то свою эмульсию новой его рецептуры.
«А ну, – говорю, – дай я с ней попробую».
Попробовал. Идет. Только надо было резец под несколько большим углом заточить, всего и делов.
«Почему же, – спрашиваю, – своевольничал?»
«А я, – говорит, – не верил, что позволите. Не верил!»
Вот все нехорошее бывает оттого, что мы самим себе не верим. А в кого нам верить, как не в людей? Верить в бою в товарища, и страх тебя не так сильно касается.
Не веришь – худо тебе будет с самим собой справляться, хоть ты и, допустим, храбрый.
И Трушин, оглядев солдат, задорно спросил:
– Вот почему партийный боец тверже себя в бою чувствует? Не потому, что он сам по себе обязательно особо хороший, а потому, что партийный билет – это какой-то твой личный номер после товарища Ленина, и каждый партийный номер на счету у партии, у всего народа. И по этому счету с коммуниста больше причитается, поскольку он в строю партии состоит, который никогда нигде ни в чем не дрогнул.
Трушин вдруг хитро сообщил:
– А ведь есть среди нас и скрытые коммунисты, не оформленные. Считаю, их надо оформить. Вот как, скажем, Ходжаева. Можно за него поручиться? Можно. Спрашиваю в госпитале, почему раньше рекомендацию не просил? А он: «Я, – говорит, – давно нацелился на фашистский танк, да все не получалось, хоть и с бронебойкой выходил. Теперь получилось. Значит, можно проситься в партию». Видали как! Сам себе фашистским танком рекомендацию в партию добыл. Кто же из коммунистов-бойцов после этого, в своей партийной рекомендации откажет?
И, перестав улыбаться, Трушин произнес сурово и строго:
– У нас, товарищи бойцы, большие потери в коммунистах. Надо восполнять. Задумайтесь каждый за себя. Дело это такое – на всю жизнь. Пояснил: – Есть, конечно, которые стесняются, почему раньше в партию не вступали, в гражданской жизни, в коллективе, где его все знают. Так что же, я думаю, на фронте человек весь всем виден. И самому себе он стал виднее, как, скажем, сегодня. Каждый по десять, а то и больше раз вроде как погибал и вновь оживал. Сильно немец бьет. А ведь ничего, видите, беседуем. Вполне нормально, как люди внимательные, осмысленные…
V
Большое душевное отдохновение доставил бойцам Трушин в эти дни, когда немцы сотрясали передний край обвалами снарядов, кидали сверху равновесные бомбы, продолговатые жестяные футляры – самораскрывающиеся на высоте кассеты с мелкой смесью гранат, мин, сыплющихся смертельным мусором. Немцы применяли также бомбы замедленного действия. Полутонная или четвертьтонная тяжкая посудина, глухо шлепнувшись, влезала в мякоть земли и, притаившись там, высчитывала свои сокровенные минуты и секунды. Пикировщики, падая косо, словно подшибленные, вопили исступленно включенными сиренами, роняя черные, кувыркающиеся, визжащие стокилограммовые бомбы, падающие в воздухе, как поленья. «Мессеры» гвоздили крупнокалиберными пулеметами – крохотными снарядами с фосфорной начинкой, от которых загоралась торфяная почва и тлели шинели на непогребенных мертвых.
И вот в эти дни Трушин, зная, как не только в штабе полка, но и в дивизии высоко оценивают подвиг выносливости его подразделения, выпросил парикмахера и привел на передовую.
Парикмахер – пожилой человек с сановным обрюзгшим лицом – держал себя перед политруком независимо, солидно, хотя был всего-навсего рядовым. Обремененный винтовкой, противогазом, подсумком, как и положено солдату, он бережно нес дамский клетчатый чемоданчик и, когда где-то далеко стукал снаряд, поспешно падал, накрывал чемоданчик своим упругим брюхом.
В узком ходе сообщения, проникаясь сочувствием к одышке и возрасту парикмахера, Трушин захотел помочь ему и предложил понести его чемоданишко. Но парикмахер сказал:
– Лучше освободите меня от этого.
Снял винтовку, противогаз и передал Трушину, растерявшемуся от такого наглого, да еще перед лицом офицера, нарушения устава.
Еще в штабе батальона парикмахер удивил Трушина своим высокомерием; искоса и небрежно взглянув, он сказал как-то даже сквозь зубы:
– Обратите на себя внимание, товарищ политрук! Один височек у вас косо подрезан, другой на прямую. Большая небрежность.
И Трушин решил проучить парикмахера, взяв у него винтовку и противогаз, чтобы так появиться с ним в окопах, – несомненно, это вызовет едкие усмешки у бойцов по адресу цирюльника.
– В гражданскую какую должность занимали? – вежливо осведомился Трушин, подозревая, что этот человек с таким сановным и важным лицом, очевидно, какое-нибудь штатское бывшее начальство, не нашедшее на фронте применения своим способностям.
– Заведующий, – сообщил парикмахер.
Этот ответ укрепил Трушина в сознании своей проницательности. И он уже не без некоторого ехидства хотел осведомиться после очередного разрыва мины близ самого хода сообщения: «Как, не беспокоит?» – но его спутник тут же добавил тоскливо и мечтательно:
– В центре магазин, с двумя салонами. Дамский на шесть кресел, мужской на восемь… – Заявил надменно: – Ко мне лично можно было только по предварительной записи. В тридцатом году уже на Петровке на первом кресле работал.
– Извините, сколько же вам лет?
– Не имеет особого значения, – сказал парикмахер. И, как бы снисходя, пояснил: – Я не через военкомат. Я через райком партии, поскольку не подлежал мобилизации в связи с датой рождения.
– Значит, партийный?
– С двадцать четвертого! – Оглядываясь через плечо на Трушина, сказал внушительно: – Все лучшие мастера при нэпе свои магазины держали, импортная парфюмерия, высокий класс обслуживания. Но была установка партии вытеснить частный капитал. Вызвали в райисполком, назначили на пост заведующего. В госпарикмахерскую номер один. Ну, доверие оправдал. Постоянная клиентура. На случайный контингент командировочных, так, прохожих надежд не держали. План на них дать можно. Но чтобы качество? Качество обозначается только в постоянной клиентуре.
– Так вам бы по вашей квалификации лучше при штабе корпуса, посоветовал Трушин.
– Командир нашей дивизии – мой бывший клиент, – сказал парикмахер.
– Ну вот хотя бы при штабе дивизии. И спокойствия больше для вашего возраста. И начальство знакомое.
– Может, вы мне посоветуете и о сыне моем похлопотать у комдива, поскольку я его брил и стриг из уважения всегда, как будто он в предварительной записи?
– А сын воюет?
– А ваш? – сердито спросил парикмахер и, не дожидаясь ответа, горделиво сообщил: – Такой чистый, хороший мальчик! Работая в дамском салоне мастером. А вы понимаете, что это такое – работа в дамском салоне? Очень большой соблазн на легкомысленное поведение.
– Он что же, по своей специальности на фронте?
– То есть?
– Ну, только на мужскую стрижку переквалифицировался?
– Да, – печально и иронически сказал парикмахер, переквалифицировался. И даже по атому поводу у него на левом рукаве обозначение нашито. Черный суконный ромб, и на нем скрещенные, как раскрытые ножницы, стволы пушек изображены.
– Артиллерист?
– Угадали!
– Серьезная специальность.
– А он у меня всегда серьезным мальчиком был…
– Разрешите? Как вас по имени-отчеству?
– Сергей Осипович.
– А меня Алексей Григорьевич.
– Очень приятно, – без улыбки сказал парикмахер.
Но когда вышли из хода сообщения, Трушин все-таки посоветовал Сергею Осиповичу взять противогаз и винтовку, опасаясь, что бойцы могут всякими шутками обидеть этого человека.
В ротном блиндаже парикмахеру было отведено рабочее место.
Трушин взял список наличного состава подразделения и, как прежде, в мирной жизни, задумывался над списком рабочих своей бригады перед распределением премий, так и тут задумался, кого вызывать к парикмахеру первый, в соответствии с боевыми заслугами, высокой дисциплиной по службе. Разметив цифрами список, он отправил с этим списком связного. И он счел нужным все-таки предупредить Сергея Осиповича, что, поскольку здесь траншеи прежде были заняты противником, а у фрицев, по-видимому, нет такой манеры, чтобы проверять солдат на вшивость, и, может, даже им становится теплее от этого, потому что чешутся, скребутся, содействуя кровообращению…
– Короче, – попросил парикмахер.
– Ну, словом, будьте деликатны, если чего обнаружите, – скорбно сказал Трушин.
– Вежливость, – сухо сказал парикмахер, – это первый закон в нашем деле.
Солдат входил в блиндаж сконфуженно, улыбаясь, смущенный и вместе с тем осчастливленный таким необычным почетом на переднем крае в условиях, когда каждый штык на счету и противник подпирает.
– Прошу, – говорил Сергей Осипович и щелкал встряхнутой простынкой. Вы какую стрижку предпочитаете? Полечку, бокс, полубокс, бобриком или аккуратно под машинку?
– Чего скорее, то и давай.
– Вам так некогда?
– Для чего фасонить-то?
– У бойца должно быть все в ажуре, внешний вид тоже, – строго говорил Сергей Осипович. – Это, знаете ли, немец себе внушает, что мы некультурные.
– А что вы хотите от расистов?
– У вас, извините, верхняя губа расшиблена, бритвой беспокоить не посмею. Осторожно ножничками пройдусь, сформирую растительность а-ля Дуглас Фербенкс. «Знак Зерро» в кино видели? Вам подойдет. По медалям понимаю, тоже обладаете исключительной отвагой.
Явился хмурый солдат с глубоко впавшими щеками, высокий, лицо его было землистого цвета, снял ушанку, на голове грязная, заскорузлая повязка. Сел на ящик против зеркала, потребовал:
– Подровняй маленько… – Спохватился и стал сматывать бинт, морщась от боли.
– Тебе в санбат надо, Егорычев, – сказал поспешно Трушин. – Я же тебе приказывал, ступай в санбат. Солдат встал, произнес обиженно:
– Значит, нельзя? – И заявил со злостью: – А в санбат я не пойду! Нечего мне там околачиваться.
– Один момент, – сказал Сергей Осипович, объявил обнадеживающе: – Нет таких трудностей, каких не могли преодолеть большевики. – Обратился к Трушину: – Вызовите санинструктора освежить на товарище повязку, и мы с ним комплексно клиента обслужим.
И пока санинструктор делал перевязку, Сергей Осипович, жалостливо морщась, работал машинкой, ножницами. Закончив, посоветовал:
– Одеколон не рекомендую. У вас кругом дополнительные царапины, вызовет нежелательное ощущение.
– Жалеешь? – спросил солдат.
– Причинять боль не имею права.
– Одеколов жалеешь?
– Встаньте, – попросил парикмахер.
Боец встал. Сергей Осипович брызгал из пульверизатора на обмундирование. Парикмахер обошел солдата вокруг, продолжая нажимать на резиновую грушу. Потом приблизился, вздохнул. Объявил:
– Аромат гарантирую, сутки будет пахнуть, как от жениха на свадьбе.
Солдат спросил:
– Вы всегда такой?
– Какой?
– Ну, веселый.
– С приветливыми людьми приятно и повеселиться, – бодрой скороговоркой сказал парикмахер. Крикнул: – Прошу следующего!
Когда Сергей Осипович коснулся машинкой головы нового солдата, он вдруг спросил встревоженно:
– Беспокоит?
– Нет.
– Извиняюсь, но вы дергаетесь. Я полагал, оттого, что, может, машинка засорилась, дерет.
– Да нет, я теперь всегда так.
– Контузия?
Солдат, испуганно покосившись на Трушина, пояснил:
– Но я к ней уже приспособился. Ловлю момент сразу после, как дернет, перед тем, как снова дернет, и тогда на спусковой крючок нажимаю. Конечно, не та меткость, но все-таки. А для того чтобы гранату бросить, это даже совсем ничего.
Сергей Осипович вдруг занялся самообслуживанием, опрыскал себе лицо из пульверизатора и, вытирая глаза и лицо салфеткой, переспросил:
– Так, вы говорите, ничего, нормально?
– Порядок, – согласился солдат.
Сергей Осипович медленно, тщательно застегнул пуговицы на воротнике солдата, так медленно, будто не хотел отпускать этого клиента, потом, обращаясь к Трушину, когда солдат ушел, сообщил задумчиво:
– Вы обратили внимание, волос у него со лба хохолком растет. Мастеру надо такое обстоятельство особо учитывать. Сыну, например, только я умел красивую стрижку делать, поскольку у него тоже волос не стандартно, хохолком рос.
После того как бойцы были обслужены, Трушин самолично приготовил угощение парикмахеру. Но тот сказал!
– Извините, но я лучше прилягу.
Разувшись, парикмахер лег на топчан, положив выше головы на скатанный полушубок ноги. Голые ступни Сергея Осиповича были вздуты, черно-лилового цвета. Заметив взгляд Трушина, парикмахер объяснил:
– Чисто профессиональное явление, застой крови в нижних конечностях от длительного пребывания в вертикальном положении. – Сказал презрительно: Может, за границей где-нибудь и обслуживают клиента сидя, но это же не работа, профанация.
И вот такая малость, как посещение парикмахером подразделения на передовой, произвела на солдат большее впечатление, чем приход в их расположение командира полка или даже командира дивизии.
Когда такие высокие командиры появляются на переднем крае, это, конечно, означает прежде всего, что позиции, занимаемые подразделением, особо важны для боевого успеха всей части.
С одной стороны, это внушает солдатам гордость, а с другой – и тревогу: все понимают, что предстоит исключительно трудный бой.
И как бы ни был хорош, уважаем, даже любим бойцами большой командир, как бы умно, тактично и доверительно он ни разговаривал, как бы широко ни проявлял заботу о людях, все это положено в военном обиходе.
А тут вдруг пришел на передовую пожилой человек в солдатском звании, деловито обслужил бойцов, так, как будто нет для него войны, каждого вежливо, строго спрашивал: «Какие височки предпочитаете, косые, прямые?» будто это и для него, и для солдата исключительно важно…
Эта основательность, серьезное отношение к своей работе, к своей профессии, даже как бы одержимость ею порождали среди солдат разговоры, не касающиеся прямо посещения их этим мастером своего дела, однако чем-то связанные с ним.






![Книга Мелодия на два голоса [сборник] автора Анатолий Афанасьев](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-melodiya-na-dva-golosa-sbornik-190393.jpg)