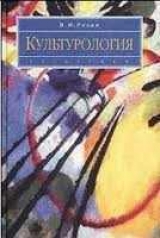
Текст книги "Культурология"
Автор книги: Вадим Розин
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 37 страниц)
2. Объяснение Л. Иониным социально-культурных трансформаций в современной России
Л. Ионин утверждает, что Россия в течение прошлого столетия пережила две волны культурной колонизации. Главные понятия, на основе которых в работе Ионина строится объяснение процессов трансформации, происходящих в России, это не представление о колонизации, а понятия «канона», «культурного стиля» («жизненной формы» и «жизненного стиля»). На их основе вводятся представления о «моностилизме» и «полистилизме» и высказывается гипотеза о том, что смена моностилистической культуры на полистилистическую и определяет основные характеристики процесса социокультурных трансформаций. «Закономерности перехода, – пишет Ионин, – прослеживаются здесь на материале России, но, с нашей точки зрения, имеют универсальный характер – их можно выявить в культурной истории любого общества» [70. С. 171].
С точки зрения Ионина, «канон – это предписанные нормы и правила, которым должны строго соответствовать способ поведения, выражения и т.д.» [70. С. 166]. Канон не предполагает выбора, в противном случае имеет место стиль. Анализируя советский политический канон, Ионин выделяет три основных принципа, его характеризующих: принцип целостности, принцип иерархии и принцип целенаправленности. В соответствии с первым принципом «политическая система была единой и неизменной повсюду вплоть до самых дальних ее уголков» [70. С. 168]. Принцип иерархии (в торой принцип) задавал действие системы на всех уровнях и ячейках, «принятые решения на самом верху равномерно и равнообязательно распространялись по всей системе» [70. С. 168]. Третий принцип ориентировал систему на будущее. «В будущем лежало ее оправдание. Парадоксально, но она не имела оправдания и обоснования в сегодняшнем дне. Система существовала как предварительная стадия, как процесс строительства того дома, в котором будут жить следующие поколения. Эта неукорененность в сегодня и вследствие этого как бы ирреальность самой системы доставляли большие неудобства ее вождям и устроителям, потому что трудно заставить людей жить как бы понарошку, то есть как бы завтра в сегодняшнем мире, или сегодня – в завтрашнем. Вожди по-разному пытались преодолеть эту трудность. Например, Н.С. Хрущев объявил, что ждать осталось недолго, что сегодня станет завтра, а завтра станет сегодня через двадцать лет („Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме“). Когда двадцать лет прошло, но ничего особенного не случилось, Л.И. Брежнев решил забыть об этом обещании двусмысленного будущего и объявил, что мы живем в „реальном социализме“. Это было равносильно тому, как если бы он сказал: вот оно – реальное светлое будущее. От этого „будущего“ всем стало скучно, наступил „застой“, все перестали строить коммунизм, а каждый захотел построить что-нибудь для себя.
Так политический канон лишился одного из краеугольных принципов – принципа целенаправленности. И тогда стали рассыпаться два других принципа, поскольку без третьего они, как оказалось, не могут существовать. Канон распался. Начало перестройки стало временем возникновения стилевого многообразия в российской политике (скорее возрождения, если учесть его кратковременный всплеск до и после Октябрьской революции)» [70. С. 169].
Под жизненным стилем (способом организации и ведения жизни) Ионин вслед за М. Вебером понимает культуру групповой жизни или репрезентативную культуру. В работах по социологии религии, пишет Ионин, «Вебер выделил принципиальные факторы, конституирующие жизненные стили: религиозную этику и содержащиеся в ней явные или латентные правила интерпретации и оценки жизненных феноменов, а также институциональные образования, характерные для доминирующих групп и способствующие воспроизведению определенного типа личности» [70. С. 178—179]. Репрезентативная культура в том случае является монополистической, «если ее элементы (убеждения, оценки, образы мира, идеология и т.д.) обладают внутренней связностью и, кроме того, активно разделяются либо пассивно принимаются всеми членами общества» [70. С. 181].
Ионин перечисляет следующие характеристики (категории) моностилистической канонизации жанров и стилей культурной деятельности: строго определенный порядок реализации явлений культуры согласно нормам доминирующего мировоззрения; иерархия и канонизация способов репрезентации господствующего мировоззрения и других форм культуры; тотальный характер моностилистической культуры; исключение «чуждых» культурных элементов и телеологичность. Последняя характеристика, замечает Ионин, «свойственна практически всем моностилистическим культурам: все они телеологически ориентированы; советская культура не являлась исключением. Постулирование цели социокультурного развития всегда служит консолидации социокультурного целого и обеспечивает возможность „трансляции“ общих целей развития в частные жизненные цели конкретного человека» [70. С. 185]. Нетрудно заметить, что приведенные здесь характеристики моностилистической культуры идеально ложатся на советскую социалистическую культуру, впрочем, Ионин именно ее и приводит в качестве основной иллюстрации.
Анализируя сакральное ядро советской культуры, Ионин приходит к парадоксальному выводу о том, что «культурные факторы (логика моностилистической культуры) практически всегда и везде оказывались более сильными и более эффективными, чем соображения хозяйственной, экономической целесообразности... Поскольку логика моностилистической культуры по мере течения времени входила во все более глубокий конфликт с экономической реальностью и поскольку приоритет всегда отдавался первой, советская экономика в конце концов пала жертвой советской культуры, а не наоборот, как это считается обычно... Можно констатировать парадоксальную ситуацию: крайне рационализованная, насквозь бюрократизированная система, технократическая по существу, к тому же всюду и всегда декларировавшая свой „научный“ характер, постоянно впадала в вопиющий антирационализм, приведший в конечном счете к подрыву ее собственных рациональных оснований» [70. С. 186-187].
Ионин старается объяснить, почему это произошло. Он пишет, что набор формулируемых в идеологии «законов социализма» (гармоничного сочетания при социализме общих и частных интересов, неуклонного повышения благосостояния социалистического общества, непогрешимости высших уровней управления, действующих якобы на основе объективных законов), «фактически открывал перед практиками управления возможности неограниченного и произвольного вмешательства в ход социальных и даже природных процессов. Единственным ограничителем мог быть недостаток природных и человеческих ресурсов, но коммунистам досталась богатая страна, а практика обращения вождей с „человеческим фактором“ удесятеряла возможности системы. В результате ничем не ограниченное управление, опирающееся на „объективно оптимистические“ представления о законах развития, становилось административным произволом, приводило к расточительному расходованию ресурсов, а если это не приносило требуемого эффекта, то применялось насилие, подтверждающее те самые представления, на которых он, этот произвол, основывался.
Все это позволяет сделать вывод о природе практической идеологии, на которой долгое время зиждилась управленческая деятельность в советском обществе. В ее основе лежат два принципа, внешне противоречивых, а по сути тесно взаимосвязанных и дополняющих друг друга: первый из них – технократический принцип произвольности, создающий иллюзию легкости и безграничных возможностей преобразовательной деятельности; второй принцип – сакральный принцип органичности, позволяющий, благодаря признанию «объективных преимуществ», обосновывать справедливость и целесообразность деятельности любого рода независимо от того, какие социальные последствия она влечет за собой» [70. С. 188].
Характеристики полистилистической культуры во многом задаются оппозиционно к моностилистической. Это деиерархизация, деканонизация, неупорядоченность, детотализация, эзотеричность вместо официального консенсуса, негативность и атеология (т.е. «отказ признавать какую-либо цель развития культуры, общества, цель жизни, человеческого существования вообще» [70. С. 191– 192]). Например, иллюстрируя первую характеристику, Ионин пишет: «Подобная ситуация, выражающаяся в деиерархизации образа культуры, складывается сейчас в России. Правда, министерство культуры существует, но не имеет возможности не то что диктовать свои правила, но и вообще сколько-нибудь заметно воздействовать на культурные процессы. Сформировались (и продолжают формироваться) новые культурные инстанции (разного рода фонды, союзы, объединения, творческие коммерческие организации) , на основе которых возникли новые констеляции культурных действий, совершенно не зависимые от культурной бюрократии. Разумеется, в каждой из этих организаций создаются свои иерархии разного порядка, как формально административного, так и неформально творческого. Но важно не это, а то, что универсальная культурная иерархия практически отсутствует. Такая же ситуация складывается в идеологии, политике, экономике, во всех других сферах жизни» [70. С. 191].
Не обходит Ионин стороной и вопрос о том, как при переходе от моностилистической к полистилистической культуре складываются в России новые культурные модели и формы жизни. Здесь два основных процесса – «культурные инсценировки» новых моделей жизни и поиск «утраченной личностной идентификации». «В результате стремления „показать себя“, – пишет Ионин, – „внешняя“, презентативная сторона возрождаемых культурных форм стала важнее „внутренней“ – теоретической, доктринальной. Она стала и наиболее важной, так как позволяет вербовать новых сторонников. Резкое увеличение численности российских кришнаитов (к концу 1990-х гг. ситуация с кришнаитами изменилась. – Л.И.) объясняется не глубиной и совершенством моральной доктрины, а привлекательностью театрализованных уличных шествий, участники которых в розовых одеждах несут развевающиеся флаги и распевают гимны. Точно так же монархисты увеличивают число сторонников не столько благодаря своей политической теории (если она у них и есть, то в самом примитивном, неразработанном виде), сколько по причине зрелищности торжественных молебнов и подчеркнуто аккуратного ношения дореволюционной офицерской формы.
Распад моностилистической культуры привел к разрушению традиционных систем личностных идентификаций. Многочисленные новые формы и традиции предлагают альтернативные возможности идентификаций. В этом смысле внешняя, презентационная сторона играет важнейшую роль: для людей, которые пытаются установить новые связи с жизнью взамен утраченных, внешние знаки идентификации являются знаками быстрого и скорого выхода из нынешнего их неустойчивого положения. Поэтому они надевают розовые одежды кришнаитов, русскую офицерскую форму, раскрашиваются под панков и т.д., часто далее не имея представления о доктринах, обусловливающих эти внешние проявления» [70. С. 194].
Ну, а что нас ждет завтра? Ионин делает следующий осторожный прогноз: если не скатимся к «культурному фундаментализму», то есть надежда. «Так же, – пишет он, – как плюралистическая демократия, полистилистическая культура может осуществиться в действительности, если реализованы две предпосылки. Первая предпосылка – терпимость граждан по отношению к новым и чуждым культурным стилям и формам, их готовность жить в достаточно сложной полистилистической культурной среде. Вторая предпосылка – наличие формальных (в том числе законодательно утвержденных) правил взаимодействия различных стилей, форм, культур, традиций в нормальном контексте повседневной жизни.
Сейчас крайне трудно оценивать уровень терпимости и готовности к мирному культурному сосуществованию всего населения бывшего Советского Союза. С одной стороны, налицо более чем семидесятилетний опыт сосуществования в многонациональном государстве, когда между нациями границы отсутствовали, более четверти населения проживало вне «своих» национальных регионов, развивались и крепли реальные традиции культурного добрососедства. С другой стороны, это добрососедство можно объяснить как случайное явление, как вынужденное сплочение перед общим и одинаковым для всех бедствием, каким был коммунистический режим. Национальная вражда, национальный изоляционизм, нетерпимость, сепаратизм, необычайно усилившиеся после распада СССР, свидетельствуют в пользу второго объяснения. Но все же остается надежда, что после периода националистической эйфории, вызванной становлением самостоятельных национальных государств, начнут восстанавливаться прежние культурные, хозяйственные и просто родственные связи, и многокультурное сожительство вновь станет нормой. Нынешние конфликты носят в основном политический характер и в принципе преодолимы.
Аналогичные проблемы возникают и при выработке формальных демократических правил, регулирующих взаимодействия не только в политической, но и в культурной сфере. Предшествующее, советское культурное законодательство создавалось исходя из потребностей моностилистической официальной культуры. Поэтому на современном этапе культурное развитие либо сталкивается с устаревшими нормами и предписаниями, либо происходит в правовом вакууме. В последнем случае царит произвол разного рода чиновников. Все решают деньги, политические предпочтения, потребности и закономерности собственно культурного развития отходят на второй план.
Но и само развитие культуры в период перехода от моностилистической культуры к полистилистической, то есть в период, как было сказано, стилистического промискуитета, таит в себе опасные с точки зрения будущего тенденции, а именно тенденции культурного фундаментализма...
В этом анализе, я думаю, ключевым является слово «тотализация» – тотализация мировоззрения и образа жизни. Чисто логически пределы возможной тотализации всегда фиксируются «изнутри» – они заложены в самом содержании доктрины и традиции, представляющих тот или иной культурный стиль. В процессе инсценирования каждый культурный стиль движется к этому пределу, то есть к фундаментализации, к формированию моностилистической культуры. Но только некоторые из этих стилей имеют экспансионистский потенциал, то есть представляют собой потенциальную опасность как для политической демократии, так и для политической культуры вообще. Сейчас трудно определить однозначно, каковы шансы тотализации тех или иных фундаменталистских течений в России. Во всяком случае, предпосылки для их развития налицо» [70. С. 196, 199].
Прокомментируем объяснение Ионина. Конечно, это исследование можно рассматривать как фундаментальное. Но если мы повернем его к проблемам, волнующим Ионина и, вероятно, многих из нас (о том, что происходит с Россией и как в этой ситуации действовать, жить), то данное объяснение можно считать прикладным. Далее, оно явно гуманитарно ориентировано, недаром Ионин подчеркивает различие объективистской и понимающей социологии культуры, а также не скрывает свое явное предпочтение последней и концепции репрезентативной культуры. В работе можно реконструировать и тип социального действия, который является для Ионина привлекательным. Уже само представление о полистилистической культуре подсказывает симпатии Ионина: он за культурное многообразие, за то, чтобы каждый человек или социальная группа могли реализовать свой стиль жизни. Следовательно, и социальное воздействие (например, реформы), если оно стремится быть культуросообразным и эффективным, не может не учитывать особенности полистилистической культуры.
Итак, исследование Ионина является прикладным, поскольку оно отвечает жизненным проблемам многих из нас, гуманитарно ориентировано, подразумевает определенный тип социального действия. Дальше мы обсудим механизм культурных новаций, сочетающий в себе реформы «сверху» и «снизу».
3. Понимание реформирования в России
Если во времена Платона реформаторская деятельность была всего лишь идеей и замыслом, пришедшим на ум нескольким мыслителям, то сегодня – это массовый феномен и практика, особенно в нашей стране. Социальные преобразования сознательно, но чаще бессознательно, осуществляются на самых разных уровнях социального действия – начиная от государства в целом, кончая «епархией» отдельного чиновника. В.Г. Федотова в книге «Модернизация „другой“ Европы» пишет, что исторически Россия всегда была модернизирующей страной – от Петра I , Александра II , большевиков до нынешних реформаторов [158. С. 14]. И сегодня, отмечает она, Россия не может отказаться от задач социального переустройства: «Путь никогда не бывает единственным. Могут быть другие пути. Автор говорит о пути исходя из тех задач, которые страна ставит пред собой сегодня – завершить модернизацию, войти в технотронный век, построить гражданское общество, сделать государство правовым. Социальная база таких преобразований в России невелика, и поэтому эти задачи не могут быть решены радикально (используя неомодернистскую теорию и идеологию). Не могут они и быть отброшены постмодернистским безразличием к выбору пути» [158. С. 20].
Однако проблема не только в нащупывании и определении путей и эффективных способов модернизации России в целом, но и в том, как поставить заслон массовым социальным преобразованиям и изменениям, вызывающим все возрастающий объем негативных социальных последствий. Трагизм ситуации заключается в том, что большинство социальных реформаторов («инженеров») не отдают себе отчета, что их вроде бы частные, локальные решения, суммируясь и сливаясь на уровне страны в бурный поток, быстро изменяют облик социальной и общественной жизни. Изменения эти не только не совпадают с замышляемыми и декларируемыми целями, но зачастую им противоположны.
Предпосылки модернизации сложились, когда развитие Запада обусловило превращение истории во всемирную и становление идеологии прогресса. «Вызов Запада предстал как вызов современности прошлому. Он был в идее прогресса, утверждавшей в теории то, что уже начало осуществляться на практике – общую линию развития по пути, предлагаемому лидирующим Западом» [158. С. 27]. Модернизацию можно рассматривать двояко. С одной стороны, модернизация – это тип развития, состоящий в переходе от традиционного общества к современному, с другой – тип социального действия, направленного на создание новых социальных институтов, отношений и норм, что в конце концов должно привести к кардинальной смене типа идентичности.
«В ходе модернизации, – пишет Федотова, – происходит переход к современному обществу ( modern society ). Оно включает в себя, прежде всего, коренное отличие современного общества от традиционного – ориентацию на инновации и другие черты: преобладание инноваций над традицией; светский характер социальной жизни; поступательное (нециклическое) развитие; выделенную персональность, преимущественную ориентацию на инструментальные ценности; демократическую систему власти; наличие отложенного спроса, то есть способности производить не ради насущных потребностей, а ради будущего; индустриальный характер; массовое образование; активный деятельный психологический склад (личность типа А); предпочтение мировоззренческому знанию точных наук и технологий (техногенная цивилизация); преобладание универсального над локальным... Процесс модернизации можно рассмотреть как процесс создания институтов и отношений, ценностей и норм, который требует предварительного изменения идентичности людей модернизирующегося общества и завершается сменой их идентичности» [158. С. 39, 63].
Разные типы модернизации – «вестернизация», «догоняющая модернизация», «постмодернизация», «неомодернизация», как показывает Федотова, различаются по тому, как понимается социальная жизнь, какие цели общество ставит, какими способами оно готово их реализовать. Например, в рамках стратегий вестернизации и догоняющей модернизации именно западная жизнь рассматривается как желаемый идеал, в качестве цели выдвигается достижение этого идеала, а способы, в одном случае – прямой перенос структур, технологий и образа жизни западных обществ, в другом – собственно модернизация, важной составляющей которой является «организация масс для индустриализации» [158. С. 50—62]. Постмодернизация – «это развитие на базе собственных культурных оснований»; здесь рисуется другой идеал – не западное, а «постсовременное общество», органически сочетающее в себе черты современности и культурных традиций, и совершенно иначе понимается способ реализации этого идеала. Постмодернистскую стратегию Федотова поясняет на примере успехов Японии, Таиланда и ряда других азиатских стран. «Успехи названных азиатских стран, – пишет она, – дают некоторые уроки.
1. Проблема социальных трансформаций для своего обсуждения нуждается не только в макросхемах, но и в микроанализе того, как это происходит на уровне каждой страны и даже по-разному развитых регионов.
2. Успех может быть достигнут при отказе от разрушения собственных особенностей, прежде казавшихся исключительно препятствием развитию, вхождению в современность, обновлению в сторону конкурентоспособности с западными странами.
3. Развитие без предварительной смены идентичности позволяет людям сохранить достоинство. Достоинство состоит и в готовности к жертвам, и в готовности к трудовой аскезе (а не только гедоническим ожиданиям)...
4. Такая способность к развитию не имеет предзаданной модели, она использует уникальные особенности своих стран. Например, критикуемый азиатский фатализм, терпеливость оказались полезными свойствами на сборочных линиях технотронного века.
5. Развитие осуществляется в каждой стране или регионе путем управления им, нахождения конкретно и успешно действующих форм. Вместо моделирования, проектирования (равно как их антитезы – полагания на естественное становление западных форм жизни) здесь уместны методы сценарного прогноза и менеджмента социальных трансформаций, поддерживающего устойчивое развитие.
6. Осуществляемые трансформации закрепили культурные особенности региона и внесли быстрые изменения в экономику и технологии, но более медленные в социальные процессы. По мнению ряда японских ученых, задачи построения гражданского общества, обычно осуществляемые в ходе модернизации, здесь не решены полностью, но и не отброшены: их предстоит решать» [158. С. 76-77].
Федотова показывает исключительную важность определения содержательной стороны модернизационных преобразований, то есть обсуждение смысла самих преобразований, опыта удачных и неудачных реформ, их ресурсов, цены изменений, цивилизационных и культурных ограничений, условий, позволяющих действовать согласованно и проч. Другими словами, меняется не только понимание технологической стороны социального действия (на смену идее социальной инженерии приходит концепция управления социальными трансформациями), но и его смысловая, содержательная сторона. Последняя все больше основывается на знаниях современных социальных и гуманитарных наук, позволяющих, с одной стороны, не столько описывать, сколько конституировать, прогнозировать и сценировать социальные структуры и изменения, с другой – трансформировать их, реагируя на оценку хода социальных изменений. Еще один важный аспект – успешные социальные трансформации невозможны без самосознания, самоопределения и конституирования самих субъектов социального действия.
В России «новые элиты, – пишет Федотова, – обнаружили номенклатурную сущность, независимо от того, были ли они прежде связаны с номенклатурой или нет. Она состоит в стремлении к замкнутости и отгороженности от общества, в защите элиты от вхождения в нее новых членов, в молчаливой способности отличать своих от чужих и проч. Большая же часть общества оказалась аморфной, неструктурированной. И даже десоциализированной и демодернизированной. В этой ситуации исчезла как возможность общего пути, общих интересов, так и возможность согласования интересов. Невыявленные или недостижимые интересы невозможно согласовать... В этической сфере возникает представление о благе, которое бы позволило в переходный период наполнить смыслом свободу, предстающую перед данными слоями общества поначалу как пустота. Именно здесь, решив проблемы идентификации, люди могут быть готовыми к формулировке своих интересов. Следовательно, всякий договор, согласие в переходный период упирается в способность к артикуляции интересов как предпосылке компромисса (жертвы части интересов), согласования интересов, выработки новых общих правил и консенсуса как полного согласия по поводу базовых ценностей и интересов» [158. С. 166—167].
К сказанному я бы добавил еще несколько моментов. Мы иногда забываем, что помимо реформ экономики необходимо разрешить чудовищный клубок всяческих проблем, накопившихся почти за целое столетие. Нельзя скидывать со счетов и особенности российского менталитета. Кто только на него не ссылается, пытаясь объяснить наше неблагополучие. Но что это, собственно, такое? С одной стороны, наши традиции, с другой – российская духовность. Один смысл духовности постоянно обсуждает Н. Бердяев. По его мнению, духовность предполагает культ, религиозное отношение, веру в иные реальности, в конечном счете, в Бога, как бы его ни понимать. Отсюда бердяевское учение о «символичности» культуры и бытия человека: культура, пишет он, символична, в ней даны лишь символы, знаки иного духовного мира, но сам этот мир непосредственно реально не достигается.
Другой смысл российской духовности – в ее эзотеричности. Эзотерическое – это не обязательно запредельное, тайное, дело в другом (см.: [130; 131; 137]). Эзотерическая личность больше верит в тот, подлинный мир, чем в этот, обыденный, живет не столько здесь, сколько там. При этом нельзя понимать дело так, что такая личность просто воображает, грезит, пребывает, как говорил Платон, в состоянии творческого безумия. Нет, она полноценно живет в своем творчестве, в размышлении о мире, в стремлении понять последние проблемы жизни и бытия. Эзотерическая личность каждый раз заново рождается во всем этом и через это. Для русского интеллигента конца XIX – начала XX в. духовный эзотеризм сделался буквально образом жизни, заслонил собой обыденную жизнь с ее практическими заботами и проблемами.
Соединение эзотерического отношения к жизни с неукорененностью или, как сегодня говорят социологи, маргинальностыо, еще одна особенность российского менталитета. В России со второй половины XIX в. всегда было много неукорененных (оторвавшихся от своего сословия и культурной почвы) людей, но самое грустное, что неукоренен был и значительный слой образованного общества. Еще Гоголь писал о недообразованности и беспочвенности русского человека, о том, что нигде не видно настоящего гражданина. Декабристы, хотя и выказали образец гражданственности, но были и не с дворянством и не с народом; и значительно позже, когда сформировалась, так сказать, чеховская интеллигенция, она также была в значительной мере неукорененным слоем общества. Русский интеллигент предпочитает жить в мире книг, идей, размышлений, духовной работы, где, конечно же, приятнее, чем в серой, а порой и страшной российской действительности. Таким образом, понятие российского менталитета довольно сложное. Однако что из этого следует?
Говорят, что в России важно ответить на два главных вопроса: кто виноват и что делать? На первый можно ответить так – никто не виноват, если, конечно, не считать виноватой нашу собственную природу, поэтому нечего искать виноватого или козла отпущения, лучше внимательно посмотреть на себя в зеркало. Ответ на второй вопрос предполагает как раз рассмотрение нового понимания реформ и модернизации.
Первое соображение. Наша культурная и человеческая сегодняшняя неготовность к западным реалиям (правам, свободе, гражданскому обществу и т.п.) вовсе не означает, что они не верны или что мы не сможем их достичь, не сможем к ним приобщиться. Другое дело, как, когда и какие для этого необходимы условия. В этом отношении я не разделяю мнение тех, кто, указывая на наше историческое и культурное своеобразие, на этом основании утверждают, что и жить мы должны иначе, что на нашей почве не действуют законы и ценности, характерные для западной цивилизации. Более вероятно, что для них просто еще не сложились условия. Однако условия иногда можно и создать. Вопрос в другом – захотим ли мы тратить огромные, возможно, титанические усилия на создание таких условий.
Второе соображение. Нам необходимо приобщиться к этим реалиям, это условие и выживания России, и ее возрождения, и обретения россиянами достойного места и положения среди других народов. Ведь Россия – это не только «остров», как утверждает в интересной статье в «Полисе» (см. [170]) В.Л. Цымбурский, и не просто автономная культура, на чем настаивали славянофилы, и даже не только платформа, связывающая Запад и Восток, Европу и Азию. Россия еще и часть мировой системы, один из культурных потоков мировой цивилизации. Сегодня никто, даже такая большая страна, как Россия, не может развиваться сама по себе и автономно, по сути, быстро складывается мировая экономическая система, глобальная мировая цивилизация и культура. У нас общая судьба со всеми другими народами. Только так, мне кажется, можно понимать выживание, возрождение, обретение достойного места России. Тем не менее нельзя игнорировать и другие взгляды на конечную цель наших усилий.
Например, Ю. Громыко, выражая позицию многих современных участников политического дискурса, утверждает, что «по всем позициям, которые выделяются сегодня либеральной формой познания, могут быть выстроены свои собственные противопоставления:
1. Участие России в международном разделении труда... – Умеренный изоляционизм, частичное игнорирование принципов и форм международного разделения труда...
2. Россия должна догонять другие страны – в частности, осваивать технологический уклад, который будет основным в XXI веке... – Россия должна программировать свой собственный технологический уклад безотносительно к движению лидеров мирового технологического развития...
3. Россия должна войти в цивилизационное пространство и уравняться по множеству параметров с богатыми государствами. – Россия не должна создавать единые конвертируемые формы жизни с Западом» [56. С. 10].
Более интересным мне кажется размышление Цымбурского. «Россия, – пишет он, – несомненно, консервативная сила нынешнего мира. Вопрос лишь о том, обязана ли она в понимании этого консервативного принципа совпадать с „мировым цивилизованным“ или нет... Не оптимален ли для России такой вариант геополитического консерватизма, который сохранит нынешний мир до поры до времени в равновесии между силами статус-кво и силами дестабилизирующими, в равновесии нестабильном, напряженном на несколько десятилетий, при котором ни революция не вырвется с Юга и не ударит по России – ни „мировое цивилизованное“ нас не пожрет ради лишних гарантий своей стабильности? ...Ведь среди наработанных человечеством „великих идей“ есть и такая идея – кстати, очень убедительно культивировавшаяся в Америке в изоляционистские 30-е, – как идея „грядущей расы“, временно самоустранившейся из окружающего мира, сконцентрировавшейся, зреющей и ждущей, пока господствующая цивилизация себя истощит и подорвет... Побережем русскую кровь как единственный залог когдатошнего более приемлемого для нас порядка и предоставим всему, что не требует от нас участия, совершиться без нас» [171. С. 116, 117].








