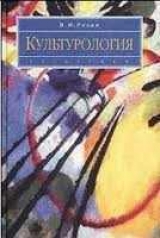
Текст книги "Культурология"
Автор книги: Вадим Розин
Жанр:
Культурология
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 37 страниц)
Постулат порождения: мышление порождает соответствующие формы действительности, объекты, реальности, которые и отражаются в мысли. Постулат контекстности: мышление не автономно, а подобно языку, имеет разные контексты (контекстом мышления можно считать те формы опыта и жизни, которые сливаются и переплетаются с мышлением, способствуя его дальнейшему развитию). Постулат полифоничностм: современное мышление – это много разных мышлений, находящихся между собой в различных отношениях (дополнения, противостояния и отрицания, независимости, родства и т.д.). Например, естественно-научное и гуманитарное мышления, с одной стороны, находятся в отношении оппозиции и отрицания, с другой – дополнения. Но если современное мышление полифонично, контекстно, порождающе, то, спрашивается, как в этом случае оно может выполнять свое назначение: упорядочивать и направлять мысль, давать правильное представление о действительности; и как в таких условиях вести дискурс, что считать истиной? Еще один вопрос: какую роль в современном мышлении играет философия? Только после ответа на эти трудные вопросы мы можем судить о философии культуры.
Первое положение, которое в связи с этим хотелось бы сформулировать, следующее. Чтобы преодолеть хаос, взаимоотрйцание и взаимонепонимание в мышлении, о которых говорил, в частности, В. Дильтей, вероятно, нужно в явной форме отрефлексировать особенности современного мышления и дискурса. При этом должны быть соблюдены такие общие условия, которые позволяют мыслить и вести дискурс другим, т.е. не посягают на другие виды мышления и интеллектуальные территории. Спрашивается, однако, как это возможно? Например, если будут артикулироваться и публиковаться особенности своего мышления и дискурса, а также выявляться их границы. Последнее, в частности, предполагает отказ в мышлении от «натуралистической позиции», т.е. веры в то, что мыслимое содержание совпадает с действительностью, как она есть. Однако, как отрефлексировать, чтобы с этим согласились другие, чтобы они приняли условия культурной коммуникации?
Думается, и это второе положение, здесь нужно ориентироваться на саму эту коммуникацию, на те ее признаки и контексты, которые все или основные участники культурной коммуникации начинают признавать и разделять. С моей точки зрения, в современной культуре наиболее признанными и значительными являются следующие четыре контекста. Контекст научной и технической рациональности, заданный не только современной наукой и техникой, но и сферами проектирования, производства, экономики и т.д. Контекст, заданный сферой влияния и активности личности, реализацией в мышлении ее фундаментальных желаний, целей, ценностей (назовем этот контекст персоналистическим). Третий контекст можно назвать групповым; здесь определяющим является не личность, а группа или сообщество (например, творческий коллектив, научное или эзотерическое сообщество, «школа» и академия и т.д.); в этом контексте мышление и порожденные в нем идеи становятся для группы событиями, общение и творчество перетекают в мышление. Наконец, четвертый контекст – это контекст самой культуры. В качестве примера такого контекста можно указать на различие национальных школ мышления или кардинальную смену мышления при переходе от одних культур к другим.
Итак, рефлексия и упорядочивание мышления (и своего и чужого), вероятно, должна вестись с позиции научной и технической рациональности, от которой мы в нашей цивилизации, даже если бы хотели, просто не можем уклониться, с позиции личности, т.е. «автора» мышления, с позиции группы или сообщества, где мышление порождается и обращается, наконец, с позиции культуры (культурной традиции). Этот подход можно углубить, обратившись к рассуждениям С. Неретиной.
«Философские и научные теории, – пишет Неретина, – предельно развив свои элементарные понятия, оказались перед необходимостью пересмотра самого понятия элементарности, подкосившего при этом аксиоматически дедуктивные начала прежней логики. Классический разум, действующий в сфере объективной логики развития человечества пал, не в силах понять (познать, объять) эту тотальную иррациональность. Его падение как единственного и всеобщего стало особенно наглядным в связи с перекройкой карты мира, когда обретший самостоятельность Восток отказался принять западные образцы государственности и разумения: локомотив исторического процесса сошел с рельсов, и выбравшийся из под его обломков индивид обнаружил себя на перекрестке различных смысловых движений, каждое из которых претендует на всеобщность, каждое из которых для другого либо бессмысленно, либо требует взаимопонимания... В философской логике это выглядит так: при глубинном исчерпании всех способов познания мира субъект разумения (как субъект познания) доходит до полного своего отрицания; прижатый к стене собственного безумия, он побуждается к выходу за собственные пределы, „в ничто“, во внелогическое. Используя неопределенную способность суждения, индивид в самом этом „ничто“ обнаруживает новые возможности бытия нового мира („мира впервые“, в терминологии B . C . Библера) и соответственно нового субъекта, который и является носителем другого разума, другой логики» [106. С. 44—45]. Вряд ли лучше можно охарактеризовать современную гносеологическую ситуацию. Будем из этого исходить и отрефлексируем наше «ничто», нашу «неопределенную способность суждения».
Прежде всего я хотел бы придерживаться философской традиции, понимая под ней определенные исторические и современные способы осмысления кардинальных проблем человеческого существования – соотношение мышления и бытия, проблему правильного поступка и жизни, вопросы о высших духовных реалиях и т.д. Далее я рассматриваю все свои мыслительные построения и конструкции именно как интеллектуальное занятие, несущее на себе печать собственной личности и ее пристрастий. В этом плане мое познание есть одновременно выражение вполне определенных устремлений моей личности, реализация ее ценностей. Мир и реальность, которые я познаю, с одной стороны, воспроизводятся моделирующей способностью моего мышления, но, с другой – они конституируются работой этого мышления, порождаются им в акте философской объективации.
Что же моделирует, воспроизводит мышление, какую реальность? Я утверждаю, что современное мышление в решении проблем, подобных тем, которые мы анализируем, воспроизводит прежде всего гуманитарную реальность. Гуманитарное же мышление, считает Библер, предполагает «работу с текстом как с истоком мировой культуры и как с ориентиром на внетекстовой смысл, заключенный в личности и в поступках его автора. Мир понят как произведение, возведенное в статус особенного всеобщего» [106. С. 49]. Вот необходимое и для меня ключевое выражение – мировая культура. Мое «ничто» – это культура. С одной стороны, я хотел бы понять культуру как произведения мысли, как форму культурного произведения. С другой – как «материал» культуры, т.е. как идеи, уже воплощенные в мышлении и действии людей.
С этой точки зрения, культура для меня неотделима от понятия «культура». При этом под культурой на этом уровне рассуждения (но только на этом) я, действительно, также как и Э. Орлова, понимаю не объект, а определенный способ мышления и объяснения. Он включает в себя: анализ текстов культуры, сопоставление разных культур, анализ творчества представителей культуры, создающих культурные тексты-произведения, за счет чего только и возможно воспроизводство культурных реалий отдельными людьми, рассмотрение того, как эти тексты-произведения определяют деятельность и поведение представителей культуры, описание устойчивости и динамики культуры и т.п. Культура – это теоретический концепт, понятие, способ мышления, которые, конечно, в рамках теоретического мышления приходится объективировать, но наивно думать, что полученный при этом объект похож на газ или солнечную систему.
По позиции изучения философ сближается с гуманитарием, но у него другие задачи. Его цель – осмысление современности, создание мыслительного плацдарма для ответов на ее вызовы. Это предполагает, с одной стороны, критику отживших, тормозящих дальнейшее развитие способов мышления и видения, с другой стороны, создание новых идей и схем, вводящих в современность, с третьей – разворачивание новых типов социальности, коммуникации и рефлексии. В этом смысле философия не только познание, но и форма новой жизни. Вероятно, поэтому В. Межуев утверждает, что, например, философия культуры это не наука. «Философия, – пишет он, – ставит вопрос не об объекте, а о бытии. И культура для нее – не объект познания, а лишь способ, форма проявления, обнаружения человеческого бытия, как оно раскрывается в данный момент времени. Ученый может рассказать нам о разных культурах, как они существуют объективно, для философа культура – то, что имеет Отношение к нам, живущим здесь и сейчас, что имеет тем самым субъективную значимость и ценность... Философия делает возможным наше собственное существование в культуре, тогда как наука лишь фиксирует культурное многообразие мира безотносительно к вопросу о том, кто мы сами в этом мире» [101. С. 82].
Я думаю, что Межуев не совсем прав. Во-первых, гуманитарные и социальные науки тоже делают возможным наше собственное существование в культуре. Во-вторых, философия как способ конституирования новой жизни не исключает философское познание (исследование), но оно будет ориентированным как раз на эти формы. Именно философия в условиях кризиса и распада культуры должна прокладывать дорогу для наук, особенно гуманитарных и социальных. Например, сегодня мыслятся такие задачи философии культуры: критика существующей техногенной цивилизации и ограничения амбиций новоевропейской личности, разработка идей выживания человечества, безопасного развития, новых форм общения и коммуникации и других, переориентация всех наук на решение этих и сходных задач.
Попробуем подвести итог. Современная философия вынуждена признавать не одно, единое мышление, а много разных. Однако философия не отказывается упорядочивать и нормировать мышление, но предпочитает ныне решать эту задачу другим способом. Вместо установления единой системы правил и онтологии предлагается: во-первых, следовать складывающейся культурной коммуникации, а это предполагает учет ее основных контекстов (научной и технической рациональности, персоналистической рациональности, групповой, культурной), во-вторых, осуществлять рефлексию основных структур мышления, а также указывать его границы.
Современная философия уже не берется полностью определять человеческое бытие и жизнь, понимая, что это невозможно. Однако она не отказывается вносить посильный вклад (наряду с наукой, искусством, идеологией, религией, эзотерикой и т.д.) в структурирование и конституирование жизни, бытия и особенно мышления. Более того, она признает свою ведущую роль в таких вопросах, как критическое и позитивное осмысление, аксиологическая ориентация, понятийная проработка мыслительного материала. В знаменитом докладе, прочитанном в 1935 г., Э. Гуссерль писал: «В теоретической установке философа самым существенным является специфическая универсальность критической точки зрения с характерной для нее решимостью не принимать на веру ни одно готовое мнение, ни одну традицию в стремлении найти для всего традиционно данного универсума истину саму по себе, некую идеальность... Это происходит в форме практики нового рода – практики, приобретающей характер универсальной критики всей жизни и ее целей, форм и систем культуры, уже развившихся в жизни человечества, и вместе с тем – критики самого человечества и тех ее ценностей, которые явно или скрыто руководят им» [58. С. 33, 38]. Подобно тому как, например, философия Аристотеля ориентировалась на идею Блага (Разума, Божества), а философия Ф. Бэкона на идеи природы и могущества человека, использующего законы природы, современная философия также опирается на определенный пласт этических идей. Но одновременно этические идеи, ориентирующие философские системы, вероятно, не должны быть утопическими. «Путь от несовершенного к более совершенному пониманию истины, – замечает А. Швейцер, – ведет через долину реального мышления» [173. С. 228].
Что же необходимо учесть в рамках реального мышления? Например, с моей точки зрения, современные философы должны учесть, что любое социальное действие реализуется в поле других сил и действий, что в социуме правят не только Разум, но и Стихия и даже Зло. Реализм философского мышления сегодня связан не только с наукой и инженерией, но и с опытом искусства, и с опытом жизни отдельных людей, с опытом социальных движений. Вероятно, в настоящее время реализм философского мышления – это инстинкт самосохранения человеческого рода, воля его к жизни, к изменениям и самоограничению, к отказу от форм бытия, хотя и притягательных, но гибельных.
Действуя в рамках такого подхода, философия культуры не пытается больше спасти европейскую и мировую культуру, но зато признает разные культуры и их самоценность, конституирует и направляет их изучение и исследование, способствует здоровью культуры, т.е. старается действовать культуросообразно. Последнее означает, что культуролог как культурно и гуманитарно ориентированный специалист и человек проводит в своей деятельности этические идеи Разума и Культуры, учитывая одновременно реальные возможности и границы своих усилий, постоянно преодолевая присущий всякому мыслителю натурализм и утопизм. Современная философия культуры не отрицает и науки о культуре и истории культуры. Напротив, философия культуры осуществляет по отношению к наукам о культуре, а также истории культуры важные методологическую и аксиологическую функции. Поэтому трудно согласиться с критикой философии культуры, высказанной Э. Орловой, но зато вполне можно принять следующий ее вывод по поводу соотношения философии культуры, истории культуры и наук о культуре: «Разумеется, любой тип исследования культуры включает в себя все три компонента: метафизический, упорядочивающе-описательный, объяснительный... Все они сосуществуют, выполняя свои познавательные функции в изучении культуры. И можно утверждать, что именно их совокупность и составляет в современной науке области специализированного знания о культуре» [112. С. 12].
3. Трехслойная схема науки
Вполне приемлемым для наших целей описанием науки можно считать такое, в котором научная деятельность характеризуется познавательным отношением (установка на выявление не явлений, а сущности) и наличием трех слоев (уровней) существования – эмпирического, теоретического и оснований науки. В эмпирическом слое, как показывают науковедческие исследования, находятся реальные объекты той или иной практики, на которые направлены процедуры манипулирования и эмпирического познания. В теоретическом слое выделяются идеальные объекты и теоретические процедуры (доказательства, решения задач, построение теории, объяснения и т.д.). В отличие от эмпирических объектов идеальные объекты специфицируются не относительно практики, хотя и имеют к ней отношение, а относительно идеальной деятельности. Например, в античной науке – это сущности и «начала», в естественной – природа, «написанная на языке математики», в гуманитарной – психика, деятельность, диалог и т.д., т.е. разное в разных концепциях. Именно к идеальным объектам относят теоретические знания (знания теории). Получают теоретические знания или в процессе преобразования одних идеальных объектов в другие (сведение в теории новых случаев к уже познанным), или при теоретической интерпретации эмпирических знаний (путь снизу, от практики), или при интерпретации определенных «внепредметных» знаний, ассимилированных из других наук или из «оснований наук» (путь сверху).
Но как бы ни получались теоретические знания, вводятся они в науку с помощью стандартных теоретических процедур, регулируемых специальными правилами, нормами, законами. Совокупность (органон) этих правил, норм и законов (непротиворечивости, исключенного третьего, системности и т.д.) фактически образует третий слой научной деятельности – «основания науки». Именно в основаниях науки формируются критерии «строгости» научных процедур, задаются научные предметы и объекты изучения, формируется научная онтология и научные картины мира. Все эти образования – уже не просто множество объектов, знаний и процедур (как эмпирических так и теоретических), но множество упорядоченное и организованное в соответствии с правилами, нормами, законами, регулирующими научную деятельность и мышление [136; 150].
В своих основных чертах и познавательная установка и трехслойная структура науки сложились в античной науке, однако осознавались они иначе, чем в наше время, и на первый план выдвигались другие элементы. Античный идеал научного познания связывает науку прежде всего с непротиворечивой организацией научных знаний, описывающих определенную область бытия (действительности); эмпирические знания и процедуры в науку не включались, не было и требований к экспериментальной проверке теоретических построений.
Отдельные этапы и характеристики формирования античных представлений о науке можно проследить, анализируя генезис самой первой в истории человечества сознательно построенной науки – системы геометрических знаний – «Начал» Евклида.
Предыстория «Начал» Евклида уходит корнями в древнеегипетскую и шумеро-вавилонскую практику восстановления границ полей, смываемых разливами рек, и сравнения полей по величине. Чтобы восстановить конфигурацию поля и указать положение поля среди других полей '(а это необходимое условие восстановления системы прилегающих друг к другу полей), вавилонские и древнеегипетские писцы, как мы помним, использовали планы полей – рисунки полей, на сторонах которых проставлялись числа.
Если первоначально планы полей использовались только для восстановления полей, то в дальнейшем с их помощью стали изображаться различные операции с полями (соединение, разделение, передел полей и т.п.). В связи с этим планы полей превращаются в знаковые модели, на которых получают одновременно две группы знаний: о величине поля и его элементов, а также конфигурации поля.
Следующий этап – восстановление и осмысление греческими философами решений вавилонских задач, планов полей и относящихся к ним числовым отношениям. Греческих философов, вероятно, не могло удовлетворить формальное осмысление образцов решения шумеро-вавилонских задач, для них, очевидно, был неясен объект знания. Что такое, спрашивается, прямоугольное или треугольное поле как сущее, а не явление? В попытке ответить на этот вопрос они перешли от рассмотрения полей к изучению фигур, представленных в планах полей, и прибегли к идее «мысленного наложения» одних фигур на другие. В этой ситуации знания о числовых отношениях величин, полученные при анализе вавилонских задач, превращаются в геометрические отношения («равно», «больше», «меньше», «подобно» и т.д.), а планы полей, к которым эти знания относятся, в геометрические объекты – фигуры. Постепенно складывается процедура получения новых геометрических знаний, опирающаяся на схематизацию в «геометрическом языке» образцов решения шумеро-вавилонских задач и анализ геометрических фигур. Однако главное звено этой процедуры – доказательство геометрических «положений», в ходе которого геометрические знания и объекты сводились (преобразовывались) друг к другу и к «началам» (определениям фигур, аксиомам, постулатам), а все рассуждения строились в соответствии с правилами мышления.
Параллельно с этим процессом развернулся и второй – сознательное построение в работах Платона и Аристотеля науки геометрии и попытки обосновать сами начала – исходные геометрические знания и объекты, к которым сводились все остальные. «Начала» Евклида, как показывают исследования, удовлетворяют принципам, выдвинутым Платоном и Аристотелем. Эти принципы могут быть рассмотрены как своеобразный проект первой античной науки, а доказательства и совокупность полученных в них геометрических знаний – как материал, в котором такой проект реализовался. Вероятно, только с этого этапа можно говорить в строгом смысле этого слова о формировании науки геометрии, содержащей все три слоя – эмпирический, теоретический и «оснований геометрии» (заданный принципами).
Рассмотренный здесь материал позволяет сделать два важных вывода. Происхождение науки – сложный исторический процесс, в котором сходятся два разных вида человеческой деятельности: с одной стороны, деятельность знакового моделирования и надстраивающиеся над ней процедуры с идеализированными объектами, с другой – логическая и философская деятельности, выросшие из рационального объяснения явлений. Наука складывается, когда логическая и философская деятельности начинают нормировать и перестраивать процедуры со знаковыми моделями и идеализированными объектами. Именно в этом процессе формируются все три слоя науки, а также первые системы научных знаний. Второй вывод касается функционирования науки, оно происходит под влиянием по меньшей мере трех факторов: а) действия познавательного отношения (стремление к познанию сущности и истины); б) ассимиляции в теории новых эмпирических знаний и объектов и в) удовлетворения требований, предъявляемых к научному мышлению и деятельности со стороны философии.
Если по отношению к античным и естественным наукам трехслойная схема науки не вызывает особенных сомнений, то в сфере гуманитарной науки требует доказательство даже само существование идеальных объектов. Такое доказательство, действительно, можно провести, показав, что в гуманитарной науке существуют все три слоя, характерных для античной и естественной наук. Чтобы в этом убедиться, рассмотрим сначала одну иллюстрацию – гуманитарное исследование В. Плугина, посвященное произведению А. Рублева «Воскрешение Лазаря».
Что изобразил Андрей Рублев на иконе «Воскрешение Лазаря»? Взгляды исследователей-искусствоведов относительно композиции (иконографии) этого произведения не совпадают. Большинство (Г. Милле, Л. Рео, В. Лазарев, И. Лебедева и др.) считают, что «Воскрешение Лазаря» «не представляет ничего нового и неожиданного ни в деталях, ни в построении целого» (сюжет иконы прост – Христос воскрешает умершего Лазаря, являя свою божественную сущность и знаменуя будущее собственное и всеобщее воскресение) [122. С. 60]. Однако В.А. Плугин утверждает, что «иконография рублевского „Воскрешения“ при всей традиционности деталей уникальна...» Он обращает внимание на новое расположение в композиции апостолов. Обычно они изображались за Христом, это можно наблюдать в тысяче других «Воскрешений», здесь же апостолы идут навстречу Христу. Апостолы поменялись местами с иудеями. Христос в своем движении как бы наталкивается на обращенных к нему апостолов. «Его вытянутая вперед правая рука словно врезается в эту группу». В то же время изображение Лазаря отходит на второй план. Божественная благодать как бы адресуется теперь только апостолам [122. С. 60, 66]. Другое важное отличие – изображение белоснежной фигуры воскресшего Лазаря, обернутого погребальными пеленами, не на черном фоне входа в пещеру (как это делалось всегда), а на белом. Рублев написал его белым на белом?! Фон пещеры, как показали обследования иконы Плугиным, «действительно был изначально белым или, может быть, охристым. И на этом фоне проецировалась одетая в чуть желтоватый, моделированный белилами саван, фигура воскресшего. Другие исследователи, также заметившие это новшество, однако не придали ему особого значения: так, В. Лазарев считает иконографию рублевского „Воскрешения“ „привычной и освященной вековой художественной практикой“, а Э. Смирнова интерпретирует ее в русле новых веяний «московской живописи XV в.» [122. С. 60].
Как же Плугин объясняет, почему Андрей Рублев разрывает с традиционным каноном? Он доказывает, что Рублев в своих иконописных произведениях пытался провести исихастские идеи. Речь идет прежде всего об идеях прижизненного обожествления человека, об апостольской миссии и роли божественной энергии («Фаворского» света славы, исходящего от Христа на людей и всю природу). «Ясная, спокойная уравновешенность рублевских композиций, удивительно лиричный линейный ритм, – замечает Плугин, – исследователи давно связали с именами Сергия Радонежского, Нила Сорского, которые, как известно, проповедовали на Руси идеи исихазма» [122. С. 57]. По мнению искусствоведа Н.А. Деминой, Рублев меньше, чем другие средневековые люди, разделял дух и материю, он видел в их неразрывном единстве светлую, воздушную, живую плоть. Ему не нужна тень, чтобы подчеркнуть силу света [61. С. 318—319].
Исихасты считали, что человек должен преодолевать противоположность между материальным и духовным. Воспринимая божественную энергию, он, будучи во плоти, может «обожиться не только душой, умом, но и телом, стать Богом по благодати и постичь весь мир изнутри – как единство, а не как множественность, ибо только благодаря этой энергии един столь дробный и множественный в своих формах мир» [122. С. 59]. Свет от Христа, изображенный Рублевым, считает Плугин, понимается русским художником именно как благодать, «как энергия, которая животворит весь мир» [122. С. 59].
Если традиционная иконография «Воскрешения» подчеркивала факт удостоверения чуда прежде всего для неуверовавших иудеев («иудеи мечутся и жестикулируют, ощупывают тело воскрешенного и затыкают носы от трупного запаха» [122. С. 62, 65]), то Рублев переносит центр тяжести всей композиции и драматургии на взаимоотношения Христа с апостолами. Именно апостолов, а не простых иудеев, доказывает Плугин, убеждает Христос в первую очередь, а поэтому именно к ним и обращается («Тогда Иисус сказал им (ученикам) прямо: Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы не уверовали; но пойдем к нему» [65. С. 15—16]). Плугин уверен, что вифанские иудеи, как народ темный, неодухотворенный, мало интересуют Рублева. Им отведена третьестепенная роль статистов. Главное внимание Рублев сосредоточивает на апостолах, идущих по пути богопознания [122. С. 71].
Однако, изменив «центр тяжести» «Воскрешения», Рублев, как убедительно показывает Плугин, вынужден был для сохранения «художественного равновесия» изменить и другие ее элементы. Так, он снижает и отодвигает на второй план старую ось и центр – Христос и Лазарь; именно этому служит изменение фона пещеры («белое на белом» уже не бросается в глаза, не приковывает к себе взор). Еще одно назначение этого приема – передать божественный свет славы Христа, освещающий пещеру и воскресшего, свет, одновременно физический и мистический, который заново созидает человека из тлена (в «Апологии» 1868 говорилось: «Верю и принимаю, что свет Господня Преображения на Фаворе есть несозданный и вечный, что он есть безначальное и вечное божество, физический луч, существенная и божеская энергия, осияние и блеск и красота божества Бога—Слова» [155. С. 359]).
И еще один новый момент: Рублев искусно группирует цвета одежды Христа и апостолов; компонует, связывая силуэтные линии фигур Христа и апостолов формой овала, снимает натуралистические подробности (так, персонажи иконы уже не зажимают носы от нестерпимого смрада, как это любили изображать средневековые художники) [122. С. 66-67].
Интерпретация Плутина, безусловно, интересна и убедительна. И тем не менее, нельзя с достоверностью утверждать, что так и было на самом деле. Нет строгих исторических свидетельств того, что Рублев был исихастом (известно лишь, что он родился, вероятно, в 1360 г., сорок лет жил в миру, затем постригся в монахи, еще в миру получил признание и известность, всех превосходил в мудрости). Но даже, если бы подобные свидетельства остались, нет прямых доказательств, что Рублев в своих произведениях выражал исихастское мировоззрение. К тому же ведь возможны и другие интерпретации «Воскрешения Лазаря». Например, можно (наша собственная интерпретация) предположить, что, расположив апостолов перед Христом, Рублев всего лишь следовал канону средневекового видения. Он изображает толпу, следующую за -Христом двумя группами: апостолов как более значимую группу он, выдвинул вперед и развернул к Христу, а простых иудеев дал традиционно, идущими вслед за Христом. Средневековое художественное видение вполне допускало не только изображение рядом видимых и невидимых с фиксированной точки зрения поверхностей (и внешних, и внутренних), но также изображение частей одного предмета разнесенными в пространстве и различно повернутыми (особенно толпы; это прекрасно видно, например, на миниатюре из «Древнего летописца» – желая показать план фундамента возводимой церкви, летописец разбил толпу на три части и разнес их в живописном пространстве; средневековый зритель, однако, видел на миниатюре одну толпу, а не три). Изменение же фона пещеры действительно понадобилось из чисто художественных соображений, чтобы более органично согласовать изображение толпы с осью Христос – Лазарь.
Но и принимая исихастскую трактовку, можно предложить несколько иную интерпретацию, чем это сделал Плутин. Если присмотреться к «Воскрешению», то можно заметить, что Христос находится не в той же плоскости, что и апостолы, он, к чему и стремились обычно средневековые иконописцы, пребывает в другом пространстве и реальности (мистической). Например, анализ новгородской иконы «Успение», приписываемой Феофану Греку, показывает, что две группы событий – смерть Марии в окружении апостолов, стоящих около ее ложа, и встреча ее души с Христом – осуществляются хотя и одновременно, но первое – в обычной реальности, а второе – в мистической. На иконе изображены два плана – реальный, где находятся ложе Марии, апостолы, святители и архитектурный фон; и план мистический с Христом. Взоры всех персонажей, подчеркивает Б. Раушенбах, «обращены к умирающей Марии, и никто не смотрит на Христа, хотя совершенно очевидно, что появление Христа среди его учеников потрясло бы их тем более, что он появляется в сияющих и светящихся одеждах. Желание более четко выделить границу, разделящую обычное и мистическое пространство, обусловило то, что с начала XV в. такая граница часто обозначается не только цветом, но и изображением непрерывного ряда ангелов, расположенных вдоль границы пространств» [128. С. 152—154].
Рублев, конечно, действует не столь прямолинейно, но, тем не менее: взгляд и движение Христа, динамика иконных горок, подчеркивающая его ход, направлены в «Воскрешении» не к апостолам и не к Лазарю, а вовне; они выводят Христа за пределы реальных взаимоотношений и событий, в которые погружены люди. Соответственно, взгляды иудеев и апостолов обращены не прямо на Христа, а как бы проходят сквозь него, мимо него (такое впечатление, что они его не видят). Сделано это, конечно, весьма тонко и деликатно, без жесткого деления пространства на две сферы – обычную и мистическую. Рублев как бы хочет сказать: Христос сделал свое дело и уходит, а на земле остаются апостолы и иудеи, вот они стоят друг против друга. Им жить дальше, как же они будут жить, что делать, после того, как воочию увидели чудо Воскрешения. Прокомментируем теперь данное исследование.








