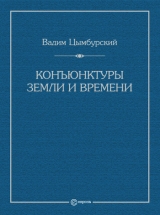
Текст книги "Конъюнктуры Земли и времени. Геополитические и хронополитические интеллектуальные расследования"
Автор книги: Вадим Цымбурский
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Нет уж, если мы впрямь ставим вопрос о корреляции между внешней политикой и идеологическим официозом николаевского царствования, то «уваровскую триаду» мы должны будем поверять политикой демонстративной опеки над среднеевропейскими (германскими) столицами, шантажируемыми революционной угрозой. Тогда иначе увидятся смысл и прагматика «триады» с ее виртуозно прослеженными Зориным германскими (шлегелевскими) истоками; с ее претензией на «идеологическую систему, которая сохранила бы за Россией возможность и принадлежать европейской цивилизации… и одновременно отгородиться от этой цивилизации непроходимым барьером» (с. 367); с демонстративной симпатией ее автора к германской «всеобъемлющей учености» – при неприятии французских претензий представлять Европу; с religion nationale в уваровских черновиках там, где в переводе стоит «православие»; наконец, с «народностью», определяемой через «самодержавие» и «национальную религию». По сути, речь идет о схеме такого цивилизационного самоопределения империи, которое могло бы отвечать ее союзу с народами и режимами Европы, сохранившими в достаточной неповрежденности сходные принципы – традиционную (национальную) религию и традиционную власть.
Похоже, в годы, предшествовавшие Мюнхенгрецким соглашениям, в интеллектуальной и политической атмосфере России прямо-таки витал, с высочайшего поощрения, спрос на идеологические формулы с подобными внешнеполитическими выходами. Напомню любопытнейший документ этого времени – письмо Чаадаева Бенкендорфу, сочиненное от имени И. В. Киреевского в те же месяцы 1832 года, когда помощник министра народного просвещения Уваров вырабатывал свою формулу, готовясь занять министерский пост. В этом письме, написанном по поводу закрытия журнала «Европеец», адресант, исповедуясь могущественному адресату в своих истинных воззрениях, и в частности признаваясь в неприятии крепостного права, тем не менее настойчиво стремится доказать свою лояльность правительству – и для того выдвигает три тезиса: 1) несоответствие теорий, господствующих в Европе, «требованиям великой нации, создавшей себя самостоятельно, нации, которая не может довольствоваться ролью спутника в системе социального мира»; 2) невозможность применить в России социальные формы, отражающие европейский опыт, чуждый русским, которые в своей цивилизации «значительно отстали от Европы»; а потому 3) желательность усваивать «образование, позаимствованное не из внешних сторон той цивилизации, которую мы находим в настоящее время в Европе, а скорее от той, которая ей предшествовала и которая произвела на свет все, что есть истинно хорошего в теперешней цивилизации» [Чаадаев 1989: 226–227].
Итак, лояльность к политическому курсу начала 1830-х годов демонстрируется тем, что империя ставится в связь не со скептически оцениваемыми наиболее передовыми фазами развития Европы, а с европейскими культурными основами, более ранней и более законной цивилизационной стадией Запада. Таковую стадию и должна мощно олицетворять в современном мире «великая нация, создавшая себя самостоятельно» и полагающая недостойной себя роль «спутницы» наличной Европы. Письмо Чаадаева-Киреевского Бенкендорфу обнаруживает в своей аргументации явное концептуальное сходство с текстами Уварова, обосновывающими его «триаду». В обоих случаях Россия мыслится силой, «отставшей» от Европы в ее катастрофической, рискованной динамике и потому в самом европейском мире представляющей его подлинные фундаментальные начала. Отсюда уже понятен тот переход к поддержке империей в европейском пространстве исторически «законных» центров и рас, который, к удовольствию Николая I, и провозгласит в «России и Германии» Тютчев.
Известно, что доктрина Уварова своим мотивом «народности», образом Европы как мира разнообразных, по-своему развивающихся народов, сопротивляющихся французскому стремлению к лидерству и цивилизационной нивелировке, особенно своей апелляцией к специфике «гражданского образования славянских народов», внесла вклад в генезис идеи славянской цивилизационной особости. Жаль, что Зорин не счел нужным откликнуться на непосредственно соприкасающуюся с его темой известную статью Б. Гройса о том, как подхваченный из Германии пафос национального своеобразия («народности»), столкнувшись в сознании русских в те же 1830-е годы с гегелевской идеей «конца истории», достижения Западом пределов своей духовной эволюции, породил мысль о России и славянстве как великом Ином Европы, способном снять ее позитивный и негативный опыт в новом синтезе [Гройс 1992]. В то время как идеология «уваровской триады» в собственном виде с подчеркнутым упором на самодержавие и religion nationale, представляла собой гуманитарное обеспечение «мюнхенгрецкой геополитики», превращавшей легитимистскую Германию в передний фронт империи, переразвитие момента особой «народности» вело к картине столкновения разных цивилизационных начал в европейско-российском пространстве[16]16
При том, что в годы Священного союза и позднее, до Крымской войны, это пространство нормально воспринималось как единое в смысле не только политическом, но и собственно географическом. Ср.: [Надеждин 1837], где «русский мир», ограничиваясь Уралом на востоке, оказывается на западе открытым в сторону Европы.
[Закрыть].
И если в разработках Уварова, по наблюдению Зорина, со словом «цивилизация» увязывалась идея претендующего на универсальность, однако зачастую «неприменимого для России социального опыта» (с. 350), то параллельно в 1830-х начинает звучать мысль о встрече на земле Европы двух цивилизаций – «дряхлой и издыхающей» исконно европейской и «новой, юной и мощной цивилизации, цивилизации собственно русской, которая обновит ветхую Европу»[17]17
Надеждин Н. И. Два ответа Надеждина Чаадаеву [Чаадаев 1989: 543].
[Закрыть]. Обновит уже не обороной «законных начал» западной истории, но решительным прорывом за ее исчерпавшийся исторический круг. Естественно, что при этом наряду с «мюнхенгрецкой геополитикой» обороны Средней Европы оформляется – блистательно представляемая, например, М. П. Погодиным – геополитическая «оппозиция его величества», предлагающая радикальную реконструкцию той же Средней Европы и Ближнего Востока с опорой на мобилизуемое империей славянство (оппозиция, по крайней мере одним из идейных корней уходившая в уваровскую «народность»). Славянский вопрос впервые ставится в это время как вопрос о пересоздании Европы на новых началах, с новым для империи геокультурным различением «своих» и «чужих» – ставится так, что константинопольская тема оказывается частью этого вопроса, а не изжитого греческого.
В конце концов рекомпозицию «уваровской триады», объявляющую самодержавие, то есть традиционную имперскую власть, и православие (но уже именно православие, а не religion nationale) цивилизационными началами Европы, явит в революционном конце 1830-х радикальный в своем ультраархаизме геохронополитический проект Тютчева. Согласно автору «России и Запада», в западном мире эти исконные начала выродились и извратились, уцелев в России, каковая в мире выступает ничем иным, как прямым продолжением православно-самодержавной империи Константина Равноапостольного, ограбленной и порушенной римскими папами и германскими королями. После того как возникшая из сговора этих грабителей западная цивилизация через череду революций зашла в моральный и социальный тупик, России выпала миссия, поглотив Германию и Италию, воссоздать в Европе и Средиземноморье Константинову империю во всей ее полноте – с центрами в Риме и Константинополе, свернув всю историю Запада как не бывшую. А вместе с этой историей положить конец сидению в Царьграде турок – исполнивших свою миссию охранителей священного имперского города от самозваных западных поползновений. Проект Тютчева предстает не только результатом мистифицирующего переосмысления идеологии «триады», но и взрывной смесью почти всех выделенных Зориным идеологем – и «греческого комплекса» («Назад в Византию!», «град Константина – Константину»…), и идеи универсального спасения мира через достижимый геополитическими средствами скачок по ту сторону европейской и российской истории, и мирового заговора (пап и королей) в основе западного цивилизационного движения, и сплочения славянства вокруг России (ради перехода к завершающей времена перекройке Европы).
Вопреки Зорину, эпоха Николая I виделась массе современников не как «послевоенная ситуация», проникнутая духом «мирного эволюционного развития» (с. 367), а как межвоенное время. Пушкинских строк 1836 года про то, как «Новый царь, суровый и могучий / На рубеже Европы бодро стал, / И над землей сошлися новы тучи…», со счета тоже не скинешь (об этих стихах как «предвоенных» писали Д. Д. Благой и В. В. Кожинов – и, независимо от отношения к этим литературоведам, вопрос в том, можно ли данные строки истолковать иначе). Идеология «уваровской триады» не просто обязывала русских защищать и поддерживать как залог своего самосохранения те священные принципы, коим угрожает безоглядное развитие Запада, – она узаконивала перевод этой установки в план реальной политики, трактовавшей европейские «законные» центры и «законные» силы как зажатые между революцией и охранительницей-Россией. А уж такое мировидение не могло в крайних своих модуляциях не ставить Россию и Революцию в двусмысленные отношения сотрудничества-противоборства – так что в начале Крымской войны Тютчев объявит Красного демона европейской революции союзником и спасителем России в ее схватке с режимами Запада, Погодин будет призывать монарха использовать «фрачных» врагов России против «врагов мундирных», а Герцену Николай I привидится бессознательным орудием – эдаким «ледоколом» мирового переворота, возмездием буржуазному царству «сплоченной посредственности».
Восприятие «уваровской триады» из дали 1870-х, когда Пыпин навесил ей ярлык «официальной народности», имеет слабое отношение к той политике, на которую она работала в годы николаевского максимума «натиска на Запад», и тем более к идейному полю, окружавшему ее в то время – полю, далекому от «послевоенной» стабилизационной благодати, но точно проникнутому электрическими сполохами и гулом «геополитики как машины времени».
Закончу почти тем же, чем начал – советом всем работающим с идеологией нашей империи читать книгу Зорина от первой страницы до последней, книгу, блещущую явными удачами и исключительно продуктивную даже в самых спорных ее частях.
ЛИТЕРАТУРА
Брикнер 1876 — Брикнер А. Г. Юрий Крижанич о Восточном вопросе // Древняя и новая Россия, 1876. Т. 3.
Внешняя политика 1976 – Внешняя политика России XIX и начала XX века. Серия II. Т. II. М., 1976.
Гройс 1992 – Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Вопросы философии, 1992. № 1.
Дебидур 1995 – Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Т. 1. М., 1995.
Елисеева 2000 – Елисеева О. И. Геополитические проекты Потемкина. М., 2000.
Милютин 1847 – Милютин Д. А. Первые опыты военной статистики. Кн. 1. СПб., 1847.
Надеждин 1837 — Надеждин Н. И. Опыт исторической географии русского мира // Библиотека для чтения, 1837. Т. XXII, отдел II.
Плюханова 1995 – Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. М., 1995.
Соловьев 1991 – Соловьев С. М. Сочинения. Кн. VI: История России с древнейших времен. Т. 11–12. М.,1991.
Чаадаев 1989 — Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989.
Kissinger 1973 – Kissinger Н. A World Restored. Gloucester (Mass.), 1973.
VIII
ДОЖДАЛИСЬ? ПЕРВАЯ МОНОГРАФИЯ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ
Рецензия на книгу: Алексеева И. В., Зеленов Е. И., Якунин В. И. Геополитика в России: Между Востоком и Западом. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. Рецензия была размещена 20 мая 2002 года в одиннадцатом выпуске рубрики «Библиобзор» на сайте журнала «Полис» (http://www.politstudies.ru/uniyersum/biblio/issuella.htm) и практически в то же самое время – на сайте «Русского Архипелага» (http://archipelag.ru/geopolitics/osnovi/review/wait/). По предложению самого автора, последняя публикация сопровождалась редакционным пояснением причин появления академической рецензии на общественно-политическом сайте: «<…> ввиду того, что последняя часть рецензии имеет собственно политический интерес, мы попросили у автора согласия на ее публикацию на сайте РА. Читатель, не заинтересованный в цеховой дискуссии специалистов по истории геополитики, имеет право проигнорировать первые три части. С другой стороны, и ему может оказаться небесполезно заглянуть в них для уяснения деталей яростной полемики автора с геополитизмом “третьемосковской псевдодержавности”». – Прим. ред.
Первая в России монография по отечественной геополитике, вышедшая в Санкт-Петербурге, достойна троякого комментария. Как профессиональный опыт, независимо от своей удачи или неудачи, важный для всех, кто работает в той же сфере и, может быть, захочет его повторить. Как скопище ляпов, о которых придется предупреждать читателя. И, наконец, как документ времени. При этом рецензия выходит намного больше, чем того требует простая оценка книги. Надеюсь, меня отчасти оправдает серьезность вопросов, которые приходится поднимать попутно с вынесением этой оценки.
Раскрывая книгу под заглавием «Геополитика в России», мы вправе к ней сразу же поставить несколько вопросов. Во-первых, как авторы вообще понимают «геополитику»? Во-вторых, что они разумеют под российской «геополитикой» для времен, когда сам этот термин не был у русских в ходу? А в-третьих, как они думают организовать материал, подаваемый под таким титулом?
Монографию открывают слова: «Геополитика – это отрасль знания, использующая пространственный подход при анализе политических процессов» (с. 3). Далее узнаем, что это «комплексная научная дисциплина» (с. 4) и что предпосылкой появления в России геополитических идей было развитие тут с XVIII века политической и экономической географии (с. 34). У К. Э. Сорокина, правда, не оговорив этого, авторы берут разделение геополитики на «фундаментальную» – «научную дисциплину, изучающую развитие мировой политики» – и «прикладную», которая дает государствам и их союзам практические рекомендации. От себя же они хотели бы добавить третий раздел, «который рассматривает геополитическую теорию в ретроспективе, в контексте государственных идеологических доктрин прошлого» (с. 6). Тут задумаешься: если эта «комплексная научная дисциплина» должна осмысляться «в контексте государственных идеологических доктрин», с чем мы все-таки имеем дело – с отраслью научного познания или с частью идеологического процесса, шире – процесса политического? Но эта проблема даже не встанет в книге, что вызовет, как увидим, немалые последствия.
Главы труда выстроены так, что история геополитики как бы подчиняется порядку интеллектуального созревания. Сначала перечисляются мыслители – «предвестники» нашей геополитики. Потом описывается появление отдельных «геополитических идей» в разных умственных областях. Наконец дело доходит и до «геополитических теорий». В этот ряд вклинивается глава, призванная показать, как переход к «теориям» готовился практикой государственных мужей, впитавших геополитические принципы и идеи.
Что же дает нам такая схематика? В «предвестники» записываются А. Н. Радищев (за одно-два изречения в стиле географического детерминизма), декабристы (за то, что при написании своих конституций спорили на федералистско-унитаристские темы), славянофилы с западниками и академик К. Э. Бэр, писавший о развитии цивилизаций вследствие хорошего сочетания «земли» и «воды». «Идеи» геополитического свойства обнаруживаются в географических и статистических штудиях К. К. Арсеньева, в военной географии Д. А. Милютина, позднее – А. Е. Снесарева, в публицистике Ф. И. Тютчева и Ф. М. Достоевского, проходящей почему-то как «этнополитика». Наконец, в размышлениях С. М. Соловьева и В. О. Ключевского над географическими основаниями русской истории.
Очень занятен параграф «Геополитические идеи в русской философии» (с. 100–106). Он начинается сообщением, что «катализатором развития геополитических идей в русской философии было влияние… учения Ч. Дарвина». Тут же авторы оговариваются, что дарвинисты Сеченов, Павлов и Бехтерев «оказали лишь косвенное влияние на развитие геополитических идей в России» (с. 101). Да как же его разглядеть-то, хотя бы и косвенное? Показали б нам. Затем быстро пересказываются главные воззрения Н. Н. Страхова, Н. Ф. Федорова и особенно В. С. Соловьева, из наследия которого выбирается мечта о том, чтобы «Россия… хотя бы и без Царьграда… стала… царством правды и милости». На том сочинители и кончают параграф, на самом деле не указав в нашей философии ни на одну геополитическую идею (что же, спросим, «катализировал» Дарвин?). Нам остается лишь оценить глубину уверений в том, будто бы «геополитика восприняла из философии принцип целостности материальных и духовных основ мироздания» (с. 105).
Уже упомянутая глава «Геополитический фактор в государственной деятельности России во второй половине XIX века» «радует» нас длинным списком министров иностранных дел от А. А. Чарторыйского до В. Н. Ламздорфа (с. 154), обычными добрыми словами об А. М. Горчакове и С. Ю. Витте, наконец, упоминанием о трениях между «европеистами», заправляющими в МИДе, и «восточниками» из Азиатского департамента. Полезную информацию можно найти в параграфе о кавказских делах генерала Р. А. Фадеева и в главке о российском транспортном развитии в XIX веке, написанной В. И. Якуниным (с. 147–164). Что же касается этюда, посвященного русским приверженцам доктрины «морской силы», он сводится к разбору двух проходных статей из «Морского сборника», на которые авторов книги, по их признанию, натолкнули упоминания в «Геополитике» К. С. Гаджиева. Прискорбно, что совершенно без внимания оставлена наиболее оригинальная русская дореволюционная работа на эту тему – «Морская идея в Русской земле» Е. Н. Квашнина-Самарина[18]18
См. ее перепечатку в сб.: Россия морей 1997.
[Закрыть].
Наконец, к зрелым геополитическим «теориям» империи причисляются почему-то объединенные в одну «теорию» сочинения Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, книжка Л. И. Мечникова о речных, морских и океанических цивилизациях, классификация типов «могущественного территориального владения» по В. П. Семенову-Тян-Шанскому и разные соображения Д. И. Менделеева, особенно насчет важности для русских Ледовитого океана и желательности сдвига демографического центра страны поближе к ее территориальному центру в Сибири. Завершается все рассказом о том, как Октябрьская революция расколола нашу геополитику на эмигрантские теории, отлученные от практики, и лишенную собственной теории большевистскую геостратегию, причем и первая и вторая были обречены на духовное засыхание, а СССР – на идейную разоруженность перед геополитически исхищренными США.
Все эти сведения, полагают авторы, должны нас убедить в существовании «российского геополитического направления, которое фактически появилось раньше многих зарубежных и тогда развивалось автономно» (с. 5).
Я тоже уверен, что в России такая традиция существовала. Но боюсь, что выводить эту традицию из клочковатой подборки разнородных примеров «пространственного подхода при анализе политики» – лишь дискредитировать утверждение о значительности и оригинальности этого явления.
Для меня от работы начинает тянуть научной неудачей с первых же страниц, когда обнаруживается, что авторы совершенно не озабочены разграничить сколько-нибудь внятно геополитику с иными географическими и политологическими практиками. Разве политическая и историческая география, возникнув раньше геополитики, не применяли к политическим объектам и процессам «пространственного подхода»? И с какой стати развитие мировой политики должна изучать выдуманная без году неделя «фундаментальная геополитика», а не респектабельная дисциплина «международные отношения»? А если «пространственный подход» еще не есть критерий геополитики, то что позволяет подгребать под одну вывеску Тютчева с Милютиным, Мечникова с Леонтьевым, Достоевского с Ключевским? Почему мы это всё должны принимать за геополитику?
Один лишь раз И. В. Алексеева с соавторами попробовали основательнее прочертить свой предмет – когда им случилось противопоставить геополитику старым школам географического детерминизма. Оказывается, «геополитические идеи нередко опирались на аргументацию географического детерминизма, однако решали собственную задачу: не «постфактумное» обоснование имеющегося, а прагматический поиск средств достижения искомой политической цели, причем не только политическими методами, но и с привлечением естественнонаучных знаний» (с. 74–75). Если не цепляться за стилистику вроде «поисков средств достижения искомой цели», мы находим тут важное утверждение: специфика геополитики определяется ее направленностью на политическое целеполагание и целедостижение. Геополитика не просто «изучает» политику – она тянется содействовать политике, и более того – проектировать ее. Она есть форма политического участия.
Но если принять такое понимание, то придется считать неправомерным, когда к геополитике относят политгеографические, историко-географические и тому подобные штудии, не отмеченные политическим целеполаганием, волей к нему А значит, труды, зачисляемые в геополитику, должны выдерживать тестирование на политическую проектность!
Авторы как-то не осознают, какие проблемы могут возникать в связи с некоторыми их собственными формулировками – например с той, что-де «значительное место среди российских геополитических теорий занимает политико-географическая концепция В. П. Семенова-Тян-Шанского» (с. 197). Ведь любая политико-географическая концепция есть по природе своей не что иное, как «постфактумное объяснение имеющегося». Если мы решаем, что под пером Семенова-Тян-Шанского политгеография делалась геополитикой, значит, должны сосредоточиться на тех убеждениях и приемах, которые позволяли географу транспонировать научное объяснение в политико-проектное «умоначертание». Однако, повторяю, авторы как бы и не видят проблемы в том, что они говорят, – по меркам их дискурса, проблемы тут и впрямь нет Но не определив геополитику в ее политическом качестве, ученые себя осудили на смысловую «недотянутость» замысла, на непрочерченность своей темы. А не сумев убедительно выделить в истории «геополитическое», они не смогли и сколько-нибудь естественно его организовать.
В самом деле, вовсе не очевидно, что явления, причисленные к геополитическим «идеям», будь то доктрина Тютчева или воззрения Снесарева, по каким-либо ясным критериям представляли в области геополитики низшие, менее развернутые интеллектуальные конструкты, нежели те, что отнесены к «теориям», – скажем, раздумья Леонтьева или калькуляции Менделеева. К тому же «идеи» и «теории» свободно раскиданы по одному и тому же временному интервалу, с середины XIX века по 1910-е, внутри которого первые не обязательно предшествуют вторым. В конце концов на исходе книги все это время объявляется одним этапом «накопления идей и оформления теорий» (с. 258). Но зато, чтобы сохранить хоть какую-то видимость периодизации, та пора, что прежде объявлялась временем «предвестников» и как бы смещалась в предысторию предмета, вдруг теперь заново переименовывается в этап «появления первых геополитических идей» и «теоретизации геополитических мотиваций» (с. 257). Хотя вовсе не объяснено, какие мотивации «теоретизировались» Радищевым с Бэром, а также декабристами, западниками и славянофилами. Плохо все это смотрится, бестолково. Вроде как сначала возвести геополитическое в нашей философии к Дарвину, а потом не отыскать в ней ничего геополитического.
Тезис же о подготовке геополитических теорий практикой имперских политиков, сам по себе небезынтересный, зависает по особой причине: эта практика как таковая предстает в книге страшно монотонной, проникнутой из века в век одними и теми же неизменными «геополитическими мотивациями». Мы на западе веками поддерживаем «баланс сил и интересов», зато на юге грыземся с турками да с персами, да всё ищем пути к «теплым морям» (с. 65). Петр I кого-то посылал в Индию. Екатерина II, «следуя примеру Петра, организует поход в Индию». Павел I матери не любил, но «унаследовал от нее программу внешней политики» и погнал казаков в Индию, «не обладая должным политическим кругозором» и не убоявшись поссориться с англичанами. «Наследником “восточной политики” Павла I стал его сын Николай I», хотя в Индию он не ходил. «Попытки России найти выход к Персидскому заливу не были забыты и во второй половине XIX века». И так далее, и тому подобное (с. 63–71). Для Запада знаем в точности – какой политический «заказ» и каких десятилетий, если не годов, порождал геополитические предложения Маккиндера и Хаусхофера, Спайкмена и Видаль де ля Блаша. Но русская политика у петербургских экспертов выглядит каким-то бодлеровским «чудовищем с лицом Всегда-Одно-И-То-Же». А значит, движение геополитической мысли не получается увязать с динамикой эпохальных задач империи. Соотношение конкретных геополитических «умоначертаний», появившихся в данный, а не иной момент, с политическим «заказом» выпадает за рамки обсуждения. Политика крутится вокруг одних и тех же «мотиваций», а геополитическая мысль, не вдохновляемая живой конъюнктурой целеполагания, сама собою – с позволения сказать – развивается: от «первых» и «ранних» идей к «накоплению», «концептуализации» и так далее. Никакого сотрудничества этих мыслителей с имперскими руководителями мы не видим. Скажем, Витте уважал Менделеева – ну и что с того, если нам ни разу не покажут, как в географических помыслах у обоих проступала общая «довлеющая дневи» политическая забота.
Сполохами на этом фоне вдруг промелькивают упоминания – то о Крымской войне, после которой почему-то «станет очевидным евразийский характер русского геополитического бытия» (с. 29), то о Берлинском конгрессе 1878 года, чьи решения «заставили Россию скорректировать векторы своего геополитического развития» (с. 228). Промелькнут и исчезнут, не определяя ни сюжетики политических биографий (а ведь тот же Витте как геостратег, с его пониманием желанного и невозможного, был определенно сформирован «послеберлинским» миропорядком!), ни генезиса геополитических «идей» и «теорий». Не видя эпохальных «заказов» за вневременными географическими мотивациями, мы не получим никакой истории геополитической мысли, а разве что размазню «пространственного подхода при анализе политических процессов».
Признаю, что я пристрастен в предыдущей критике, отправляясь от иного понимания «геополитики», чем то, которое заявлено в начале рецензируемой книги и, на мой взгляд, сделало для ее авторов невозможной настоящую удачу, даже будь эта работа свободной от иных недостатков. Как уже сказано, я вижу в геополитике тип политического проектирования, стремящийся мобилизовать народы и элиты при помощи географических образов (моделей) с заложенным в них зарядом политических ориентаций и установок. У геополитики в таком понимании три главные цели. А именно: 1) внушить элитам и народам отождествление с неким «географическим организмом», изображенным моделью; 2) заразить их сознание некой «жизненной проблемой» этого «организма», которую несет в себе модель; 3) увлечь их волю тем решением этой проблемы, которое модель подсказывает своей образной структурой. Для меня геополитика – это форма внесения в мир политической воли, а не научная дисциплина, живущая процедурами верификации, самоопровержений и методологических самоограничений. Известное наукообразие языка западной классической геополитики конца XIX и XX века было навеяно интеллектуальным поветрием модерна, отождествляющим респектабельность политической позиции с ее научностью. В России Данилевский в конце 1860-х был вполне захвачен этим поветрием – но еще Тютчев двадцатью годами ранее не считается с ним, свободно опирая свой геополитический замысел «другой Европы – России будущего» на вполне средневековую топику хищения, переносов, сокрытия и тайного пестования якобы священной Власти. Геополитика может быть или не быть «научной» по своему антуражу; настоящей же наукой является только история геополитики, раскрывающая ее приемы, ее технику, ее возможности – в том числе семиотические.
При таком подходе напрашивается мысль, что реальные основания российской геополитики были заложены не в XVIII–XIX, а в XVI веке. И дело не в том, что у Ивана IV были некие «геополитические мотивации» (с. 43). А в том, что, установив контроль России над Волгой и тем отрезав причерноморские степи от Центральной Азии, а затем, истребив Ливонский орден – продолжение Священной Римской империи на Балтике, – Иван IV, не сознавая того, поработал на сотворение Балтийско-Черноморской международной системы (БЧС) XVI–XVIII веков. Той системы, где четыре сцепленных силовых центра – Россия, Польша, Швеция и Турция с Крымом, – в их борьбе и перегруппировках союзов представляли каждый особую географическую точку зрения на перспективы организации Балто-Черноморья. К этому можно и нужно добавить, что тогда же, в XVI веке, к меридиональному балтийско-черноморскому полю России присоединилось второе ее поле – широтное, сибирское, – причем два эти пространства скрепил волжско-прикавказский шов. Так оформились материальные предпосылки развития нашей геополитической мысли, вышедшей из своего эмбриогенеза и заявившей о себе крупными проектами во второй половине XVII века. Это – проект A. Л. Ордина-Нащокина: объединив позиции России и Польши с их речными верховьями и водоразделами, создать беспроигрышный плацдарм для натиска на оба морских фланга БЧС – черноморский и балтийский. А также для выхода России на Балканы и охвата католической Польши православным пространством, возглавляемым Москвой: выстроить это пространство с опорой на Польшу и им же ее защемить!
Далее – проект, представленный в «Скифийской истории» А. И. Лызлова, доктрина противостояния кочевого и оседлого миров от Восточной Сибири до Балкан и Юго-Восточной Европы, впервые эксплицитно объединяющая русских с европейцами. Наконец, проект хорвата Ю. Крижанича – создание в покоряемом Крыму второй, южной России, соединенной с северной Московией дуальным союзом, который бы мыслился как «славянское царство», притягивающее к себе славян с европейской периферии.
Это все не XIX, не XX–XVII век! С XVIII же века геополитическая мысль империи, развернутой к европейскому «основному человечеству», начинает работать над моделями «похищения Европы», утверждающими европейскую роль за страной с незападным историческим опытом, за народом с незападной этнорелигиозной идентичностью, за державой, опирающейся на неевропейские протяженности в глубинах материка. Такими первыми большими планами русского «похищения Европы» оказываются проект «Северного аккорда» Н. И. Панина (попытка противопоставить первому в истории Европы «униполю», достигнутому при Людовике XV союзом Парижа и Вены, новый европейский центр, который был бы собран вокруг России с опорой на Балтику), затем екатерининско-потемкинский «греческий проект», нацеленный на то, чтобы военными, политическими, иммиграционными и иными методами актуализировать геокультурную память Причерноморья и Балкан, укореняя русских через византийское наследие в античном родоначалии Европы[19]19
Подробнее об этом: Зорин 2001.
[Закрыть].








