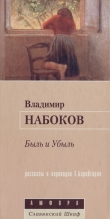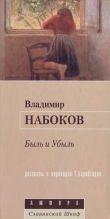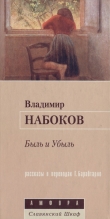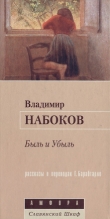Текст книги "Набоков и потусторонность"
Автор книги: В. Александров
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 26 страниц)
Одно из распространенных заблуждений относительно творчества Набокова заключается в том, что оно якобы не имеет никакого отношения к «реальному» миру.{67} Трудно понять, отчего возникло такое впечатление, а знакомство, даже самое поверхностное, с дискурсивными писаниями автора, убеждает в его безосновательности. Всепроникающий опыт космической синхронизации показывает, до какой степени зависит художник от результатов пристального наблюдения окружающей жизни на первоначальном этапе творческого процесса. Более того, целый ряд афористических высказываний Набокова относительно связи между искусством и наукой убеждает, что данные внешнего мира превосходят своим значением вдохновение, непосредственно питая художественное произведение: «не существует науки без фантазии, а искусства – без фактов»; в «записях натуралиста» можно обнаружить «гениальное озарение»; «творческому писателю следует внимательно изучать труды своих конкурентов, в том числе и Всемогущего… художник должен знать данный ему мир. Воображение без знания ведет лишь на задворки примитивного искусства» (CIII, 575). Ясно, что высказывания в этом роде не следует толковать в том смысле, что Набоков хотел бы держать зеркало перед «действительностью», но они убеждают в том, что он стремился к созданию правдоподобных симулякров реального бытия.
К мысли о том, что факты внешнего мира не являются в искусстве самоцелью, а служат в конечном итоге трамплином для прыжка в потусторонность, Набоков возвращается в самых разнообразных своих вещах. В отклике на книгу о бабочках он задается вопросом, «существует ли высокий кряж», где горный склон «научного» знания соединяется с противоположным склоном «художественного воображения».{68} На этот риторический вопрос он отвечает в мемуарах, заявляя, что «в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно в другое воображение и знание, точка, которая достигается уменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства» (IV, 233). Ключевое слово в обоих случаях – «воображение», которое, как мы видели, подразумевает в метафизической эстетике Набокова трансцендентное.
Особенно интересна его мысль, что пристальное исследование материального мира должно в какой-то момент завершиться переходом в сферу воображения и, таким образом, вплотную приблизиться к границе потусторонности. То, как Набоков говорит об ограниченности научных методов познания, заставляет предположить, что эта идея, возможно, растет из его собственных исследований мира бабочек. Он утверждает, что реальность – это «вещь весьма субъективная», которую можно охарактеризовать как «постепенное накопление сведений и как специализацию» (CII, 568) – любой природный объект, например, тот или иной цветок, всегда будет более реален в глазах натуралиста, нежели в глазах обыкновенного прохожего; еще более реален он будет для ботаника, и далее – для ученого, специализирующегося на изучении именно этого цветка. Таким образом, можно лишь подходить «ближе и ближе» к действительности, каковая есть «бесконечная последовательность ступеней, уровней восприятия, двойных донышек, и потому она неиссякаема и недостижима». Стало быть, «мы живем в окружении более или менее призрачных предметов» (CII, 568). Тот тип пристального изучения, о котором говорит здесь Набоков, приводит на память его же описания разнообразных примеров космической синхронизации, в частности, рассказ о том, как рождалось первое стихотворение юного автора: на основе тщательного учета показаний чувственного восприятия. Таким образом, получается, что невозможность ухватить материальные предметы в их неповторимости и полноте можно компенсировать прозрениями, даруемыми моментами епифаний. Собственно, Набоков сам намекает на это, говоря в одном из интервью, что стремится «все больше и больше оценить объективное бытие всех явлений как форму воображения с посторонними примесями („impure imagination“ курсив мой. – В. А.)… Какой бы предмет сознание ни ухватывало, оно осуществляет свою работу с помощью созидательной фантазии, которую можно уподобить капле воды на стеклянной пластинке, что позволяет более отчетливо, в деталях рассмотреть наблюдаемый организм». Отсюда становится понятно, почему Набоков всегда с такой настойчивостью окружал слово «реальность» кавычками – чтобы подчеркнуть полную ее, «реальности», зависимость от неповторимого типа любой познающей индивидуальности (при этом Набоков, разумеется, ни на йоту не отступал от выстроенной им иерархии: у каждого разные возможности в плане прозрения и в плане познания). Различение между «чистой» и «смешанной» формами воображения, которое Набоков также проводит в этом интервью, лишний раз подчеркивает, что он не переменил своего взгляда на те связи, что существуют между воображением и потусторонностью. Разве что первое – «чистая форма» – проявляет себя спонтанно, в моменты рутинной работы сознания, а последнее возникает в моменты, когда сознание работает с наивысшей интенсивностью: Набоков поясняет, что «чистое воображение» приходит в действие, когда индивид пытается осознать явления, образующие космическую синхронизацию, ибо физически невозможно «воспроизвести эти явления оптически в границах одного экрана». И лишь в том случае, если удалось воссоздать их одновременность, космическая синхронизация пришла бы в согласие с «реальностью».{69} В контексте иных рассуждений Набокова налаженная связь между космической синхронизацией и воображением с неизбежностью перебрасывает мостик от последнего к потусторонности. Формулируя свои взгляды с предельной прямотой, Набоков склонен отдавать воображению приоритет перед миром «реальных» явлений: «Обыкновенная действительность начинает подгнивать и подванивать, лишь только энергия индивидуального созидания перестает питать объективно осознанную материю».{70} В другом месте он поясняет, что «Ткань этого мира может быть вполне реальной (если уж речь идет о реальности), но она вовсе не существует в виде принимаемой автором цельности: это хаос, и ему автор говорит: „вперед!“, позволяя миру мерцать и плавиться. И тогда мир по-новому перемешивается вплоть до самых атомов – и не только в своих видимых внешних проявлениях. Писатель первым наносит этот мир на карту и дает имена присущим ему предметам» (70).{71} Не менее радикально судит Набоков о возможностях проникновения в душу другого человеческого существа. В юбилейной лекции о Пушкине он утверждает, что вряд ли возможно правдиво отразить жизнь другого, ибо мысль не может не искажать то, что она пытается собою охватить. И тем не менее прозрения и видения романизированной биографии, пробуждаемые любовью к своему предмету, порождают «правдоподобие», которое неким таинственным образом ведет если не к самому поэту, «то к его творчеству» (CI, 544). Хотя в данном случае Набоков говорит о жизни другого скорее как о недостижимом объекте, нежели таком явлении, которое не существует за пределами сознания, он по-прежнему полагает воображение силой, делающей онтологическую весомость чем-то таким, что способно, пусть на ощупь, затронуть суть явления, которое в противном случае осталось бы совершенно непознаваемым.
Весь этот комплекс набоковских убеждений весьма тесно соотнесен с его художественной прозой. Не будет преувеличением сказать, что подвижная граница между «воображением» и «фактом», как он толковал эти понятия, – это, собственно, центральный вопрос едва ли ни всего его творчества. Разными гранями эта проблема раскрывается в «Защите Лужина», «Приглашении на казнь» и «Даре», где персонажи силятся проникнуть в тайну узоров потусторонности собственной жизни, в «Подлинной жизни Себастьяна Найта», «Лолите» и «Бледном огне», где солипсизм и проницание внеличного опыта приходят в относительное равновесие, в «Защите Лужина», «Приглашении на казнь», «Даре», «Пнине» и «Просвечивающих предметах», где «призрачность» вещества контрастно оттеняется существованием высшей реальности. Важно при этом отдавать себе отчет, что хотя в известном смысле взаимоотношения «факта» и «воображения» есть постоянный предмет заботы всякого художника (в том числе и романиста, начиная с Сервантеса), и потому обсуждение его неизбежно смещается в зону любой экзегетики, было бы неверно рассматривать данную проблематику поверх тщательно разработанной эстетической, метафизической и этической системы Набокова, в рамках которой предметы получают весьма специфическое наполнение.
Хотя понятно, что метафизические убеждения Набокова находят частичные соответствия в многообразных религиозных опытах и философских системах, в главном они, что называется, существуют sui generis. В связи с этим встает важный терминологический вопрос. Набоков часто повторял, что его не интересует «религия». Точнее, говорил он, религия утрачивает для меня смысл «за пределами литературной стилизации». Однажды Набоков с некоторой гордостью припомнил, как шокировал он одного русского критика-эмигранта утверждением своего «совершенного равнодушия к организованному мистицизму, религии, церкви – любой церкви» (CIII, 582).{72} Чтобы понять смысл замечаний в этом роде, следует отдать себе отчет в том, что Набоков всегда противился, когда произведения его рассматривались в свете идей или систем, не принадлежащих ему лично и потому бессильных в должной мере оценить силу его собственных прозрений и догадок. Именно это, а вовсе не отрицание любой веры в существование иного мира, объясняет смысл вышеприведенных реплик, равно как и признания, сделанного в мемуарах: «…в метафизических вопросах я враг всяческих объединений и не желаю участвовать в организованных экскурсиях по антропоморфическим парадизам» (IV, 295).
Продолжая эту мысль, Набоков говорит, что, напротив, единственным источником его мировоззрения был собственный опыт и опыт семьи. Этот предмет есть лишь часть гораздо более обширной и чрезвычайно важной темы – темы сложившихся психологических стереотипов и судьбы, которая управляла жизнью Набоковых на протяжении многих поколений. Нередко Набоков привлекает читательское вниманием повторам в жизни предков и собственной жизни, но случается, и тоже довольно часто, что эти параллели остаются в подтексте, и читателя, таким образом, приглашают самого распознать их. Вот только один, хотя достаточно красноречивый пример. Набоков говорит о материнской вере, и звучат его слова во многом так, как если бы он писал о себе самом: во всяком случае скрытно эта мысль проходит красной нитью через его произведения: «Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственно доступное земной душе, это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди, дневное мышление которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне, где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений, – стройную действительность прошедшей и предстоящей яви» (IV, 150).
Скрытое унижение сна в этом фрагменте заставляет вспомнить явно выраженное к нему отвращение – из-за несоразмерности с высшими состояниями сознания, которыми Набоков так дорожил. По существу оставшиеся в подтексте аналогии между сном и земной жизнью, с одной стороны, и бодрствованием и миром трансценденции, с другой, – это гностический топос, который можно обнаружить в целом ряде набоковских произведений, включая «Защиту Лужина», «Приглашение на казнь», «Дар», «Совершенство», «Ultima Thule», «Под знаком незаконнорожденных» и «Просвечивающие предметы».
В духовной жизни матери и сына есть и такие переклички, которые заставляют думать, что в потусторонность он входит через двери, приоткрытые ею. Набоков вспоминает, что стоило ему в детстве поделиться «тем или другим необычайным чувством», как сразу она «с жутковатой простотой» (IV, 150) заговаривала о собственных снах и оккультном опыте.{73} Тут же Набоков дает понять, что сходные нити связывают его с собственным сыном, намекая таким образом, что ощущение потусторонности передается по наследству. Когда сын был младенцем, отец замечал в его глазах что-то вроде сохраненных воспоминаний об Эдеме, где «зародился человеческий разум» (IV, 295), а говоря о связи между глазом и предметом, Набоков указывает в ней начало «первого путешествия младенца в следующее измерение» (IV, 295). Из контекста становится понятно, что это не просто метафорическое описание чудес человеческого сознания. Автор сразу же отвергает идеи психологов-бихевиористов, утверждая в противоположность им, что «ближайшее подобие зарождения разума… можно найти в том дивном толчке, когда, глядя на путаницу сучков и листьев, вдруг понимаешь, что дотоле принимаемое тобой за часть этой ряби есть на самом деле птица или насекомое» (IV, 295). Возможно, это покажется надуманным и своевольным, но, на мой взгляд, в иерархии ценностей, которую Набоков выстраивает в мемуарах, мимикрия природы, маски, которые она на себя надевает, есть фундаментальное свидетельство существования потустороннего мира. Таким образом, параллель, которую он проводит между развитием познавательных способностей ребенка и проникновением в область миметических явлений, предполагает наличие трансценденции в основе детского, а стало быть, и вообще человеческого сознания. Далее, стремительный, скачкообразный рост сознания, который подразумевается перемещением в «следующее измерение», соответствует работе того же сознания, расширяющегося в процессе космической синхронизации, и, следовательно, тоже указывает на присутствие трансцендентного. И наконец, рассказ о сыне бросает обратный свет на первые страницы мемуаров, где говорится о юноше-«хронофобе», который не понимал, что мог в самых разнообразных формах существовать еще до момента своего рождения.
В свете того необыкновенно высокого значения, которое Набоков придавал работе сознания, как и ввиду того, что сознание он полагал зависимым от визуального обнаружения связи между явлениями, неудивительно, что такую способность он хотел развить в сыне. В автобиографии приводится один яркий пример того, как Набоков этого добивался, и он представляет особенный интерес, ибо подсказывает, между прочим, почему писатель строил повествовательную структуру так, чтобы связи между чрезвычайно существенными деталями не выступали наружу, но оставались скрытыми, и читатель сам проделывал необходимую работу. В любом тексте есть приемы, роль которых состоит в том, чтобы приобщить читателя к процессу смыслообразования, ведь без этого от чтения нет никакого удовольствия. Однако помимо обнаружения таких приемов, было бы весьма небесполезно понять, по возможности, к каким именно пластам текста Набоков хотел бы привлечь особенное внимание читателя. Из последних строк мемуаров становится понятно, что за цель он преследовал. Автор рассказывал, как вместе с женой и сыном подходит к гавани, откуда семья должна была отплыть в Соединенные Штаты. Родители первыми увидели корабль сквозь ряд домов, между которыми были протянуты веревки с бельем («камуфляж», как характерным для себя образом выразился Набоков), но специально решили ничего не говорить сыну, «не желая испортить ему изумленной радости самому открыть…» – что? – «огромный прототип всех пароходиков, которые он, бывало, подталкивал, сидя в ванне» (IV, 301). Набоков уподобляет это открытие рисованной игре «Найдите, что спрятал матрос» (IV, 302). Поскольку в таком же, по сути, положении оказывается читатель мемуаров, можно заключить, что важная и весьма специфическая функция загадки в повествовательной технике Набокова состоит, в общем, в том, чтобы подготовить читателя к интеллектуальному и познавательному скачку, который можно уподобить внезапной вспышке сознания. А поскольку Набоков так высоко ставит эту способность, всякий, кто ее лишен, естественно и автоматически переводится в ряд слепцов. И хотя эта тема в мемуарах не развита сколь-нибудь подробно, она глубоко пронизывает буквально всю набоковскую прозу.
О том, что Набоков хотел, чтобы его читатели прямо, без всякого посредничества переживали плодотворный жизненный опыт, лежащий в основе его произведений, свидетельствует, между прочим, и ответ интервьюеру, который спросил писателя о радостях сочинительства: «блаженство, упоение фразой» разделяется «писателем и читателем: обрадованным писателем и благодарным читателем, или – что одно и то же – художником, благодарным неведомой силе в его сознании, внушившей ему сочетание образов, и творческим читателем, которого это сочетание радует» (CIII, 584). Мысль, совершенно очевидно, состоит в том, что идеальные взаимоотношения между читателем и произведением подобны взаимоотношениям между автором и потусторонностью, каковая «таинственной» силой памяти проницает сознание художника.{74} В одной лекции Набоков говорил об акте чтения как о процессе, позволяющем полностью схватить оригинальный смысл текста: в этом случае «вы оцените по достоинству его редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови».{75} А в книге о Гоголе Набоков утверждает, что эта особенная коммуникация между писателем и читателем есть не случайность, но манифестация художественного мастерства: «Даже в худших своих произведениях Гоголь отлично создавал своего читателя, а это дано лишь великим писателям» (CI, 433).
Шахматы, а в особенности шахматные задачи – четвертый предмет, о котором Набоков с величайшим энтузиазмом пишет в мемуарах, – обнаруживают сходный параллелизм.{76} Когда разгадчик шахматной задачи находит, наконец, «простой ключ», он испытывает «художественное удовольствие» (IV, 292).{77} Особенно любопытно то, что, говоря о шахматных задачах, Набоков подчеркивает ценность ложных ходов, отвечающую общему критерию художественности, что совершенно очевидным образом соотносится с «задачным» измерением его литературных произведений. «Меня лично пленяли в задачах миражи и обманы, доведенные до дьявольской тонкости…» (IV, 290). Параллели между шахматами и искусством, пронизывающие все творчество Набокова, наиболее отчетливо проводятся в шахматном романе «Защита Лужина» и сборнике «Стихи и шахматные задачи». Последний пример особенно выразителен, ибо тут Набоков откровенно ставит рядом литературу и шахматы; как говорится в авторском предисловии, «шахматные задачи требуют от их сочинителя тех же достоинств, которыми характеризуется всякое подлинное искусство: оригинальности, изобретательности, лаконизма, гармонии, сложности и прекрасной неискренности».{78}
Как мы видели, моменты космической синхронизации дают Набокову возможность вырваться из плена времени. Но надо еще выяснить, какой именно смысл имела в его глазах вневременность и как она воплощалась в его произведениях.
В мемуарах Набоков описывает вневременность не просто как забвение времени, но и как нечто неотделимое от перехода из того, что зовется обычно «прошлым», во вневременное «настоящее», и наоборот. Например, вспоминая близкое к «трансу» состояние, в котором он заканчивал первое свое стихотворение, Набоков говорит, что ничуть не был удивлен, видя себя «…на диване, в каком-то рептильном оцепенении, одна рука свисала <…> в следующий раз… моя рука по-прежнему свисала, но теперь я был распростерт на старых мостках… а когда снова всплывал, поддержкой моему вытянутому телу становилась низкая скамья в парке, и живые тени, в которые была погружена моя рука, теперь двигались по земле…» В таком состоянии, заключает автор, «так мало <…> значили обыденные формы существования, что я не был бы удивлен, выйдя из этого туннеля в парке Версаля или в Тиргартене, или в Национальном лесу секвой».{79} В топонимике тут, конечно, содержится намек на продолжительные эмигрантские странствования Набокова, сначала по Европе, потом по Америке. Но сопрягая их в своем описании со вспышкой поэтического вдохновения, пережитого в России десятки лет назад, Набоков обесценивает онтологическую роль передвижений в пространстве – сравнительно с внезапным творческим порывом. И теперь, в момент рассказа, стоит лишь автору испытать вдохновительный подъем, как время вновь исчезает, и вновь возникают неизбежные провалы в пространстве. «И наоборот, когда былой транс приключается сейчас, я вполне готов оказаться, когда очнусь, высоко на дереве, над пятнистой скамейкой моего детства, живот прижат к толстой удобной ветке, одна рука свисает между листьев, по которым проходят тени от других листьев».{80} В данном случае кажущееся движение происходит в обратном направлении – от настоящего времени повествователя к тому, что привычно можно было бы назвать прошлым; но для того, кто переживает творческий порыв, значения это не имеет – время исчезло.
Непосредственность и чувственная реальность этого переживания передается с особенной красотой, когда Набоков перемещается из прошлого, с покрытой снегом русской равнины, в Америку 50-х годов, где он пребывает в данный момент: «Все тихо, все околдовано светлым диском над русской пустыней моего прошлого. Снег – настоящий на ощупь; и когда наклоняюсь, чтобы набрать его в горсть, полвека жизни рассыпается морозной пылью у меня промеж пальцев» (IV, 187). Таким образом, сила памяти, которая в глазах Набокова есть важная грань художественного дара, уничтожает специфику, соответственно, Новой Англии и России как пространственно-временных данностей, ибо с исчезновением времени положение в пространстве становится лишь функцией возвышенного сознания. Следовательно, пространство России даже и после долгих лет эмиграции осталось неутраченным, пусть попасть туда можно только в особенные моменты, когда возвышаешься над повседневностью.
Некоторые исследователи так и не оценили должным образом эту концепцию времени и сознания. А один критик прямо-таки переворачивает смысл сказанного, истолковывая метафору «морозной пыли» в том смысле, что «прошлое (как якобы считает Набоков. – В. А.) никогда не следует смешивать с настоящим, художнически окрашенное воспоминание о событии – с самим событием». Эта мысль, при всей своей ложности, однако же, вполне укладывается в общую концепцию того же автора; он полагает, что Набоков усматривал в смерти явление, которое «в конечном итоге немыслимо превозмочь».{81}
Те части мемуаров, где говорится о передвижениях в пространстве в моменты выпадения из времени, бросают также дополнительный свет на феномен творческого сознания. Епифании не только стирают время, но и расцвечивают жизнь повторяющимися узорами – поскольку события прошлого воскрешаются в памяти благодаря сходным событиям настоящего. А когда миг возвышенных переживаний остается позади, жизнь возвращается в привычное русло, – но узоры не исчезают.
Отсюда возникает вопрос, как именно повторы соотносятся со временем и как «формируется» само время. Ответ Набокова: образ его жизни – «цветная спираль в стеклянном шарике» (IV, 283). «Спираль, – по его словам, – одухотворение круга. В ней, разомкнувшись и высвободившись из плоскости, круг перестает быть порочным… гегелевская триада… выражает лишь природную спиральность вещей в отношении ко времени» (IV, 283). Таким образом, спираль – это форма, которая примиряет во времени повторы и изменения: повторы вытекают из того факта, что загибы, даже и образуя новые арки, следуют друг за другом, а время символизируется воображаемой осью, на которую «нанизаны» дуги.{82}
Набоковский образ стеклянного шарика с цветной спиралью внутри пришел, разумеется, из детской игры. Но он также вызывает в памяти (обманчивую) идею времени как темницы сферической формы – образ, который возникает в самом начале мемуаров. Имея в виду, что Набоков нашел способ вырваться из времени, соблазнительно было бы умозаключить, что образ детской игры воплощает только одну дугу жизни, которая на самом деле – в какой-то одухотворенной форме – вырывается за пределы ограничивающей ее временной сферы. Набоков и сам касается этого на последующих страницах мемуаров, размышляя о «спиральном размыкании вещей» в целом: «Если… пространство искривляется, превращаясь в нечто подобное времени, а время, в свою очередь, тоже искривляется, превращаясь в нечто подобное мысли, тогда, разумеется, возникает еще одно измерение – возможно, особое Пространство, иное, отличное, хотелось бы верить, от прежнего, если только спираль вновь не превратится в порочный круг».{83}
Помимо дискурсивных и аналитических примеров вневременности, Набоков насыщает текст мемуаров фрагментами, которые служат конкретным, хотя и не выделенным специально, воплощением этих моментов прорыва за границу времени. Иные из них ослепительно обманчивы, что лишний раз подчеркивает некоторые фундаментальные особенности повествовательной техники Набокова. Помимо того они заставляют вчитываться в текст с той мерой пристальности, какую Набоков полагал необходимой, чтобы подняться на уровень сознания, соответствующий вневременности. В круг воспоминаний о детстве вписывается рассказ о ловле бабочек на болоте неподалеку от родительского имения. Рассказав о добыче, Набоков продолжает: «Наконец я добрался до конца болота. Подъем за ним весь пламенел местными цветами – лупином, аквилией, пенстемоном; лилия-марипоза сияла под пондерозовой сосной…» (IV, 212). Так, безо всякой паузы, не подавая никакого знака, Набоков в конце второго предложения покидает флору своего дореволюционного детства на севере России и оказывается среди растительности американского Запада, где ловил бабочек после 1940 года, когда перебрался из Европы в Америку. Последнее предложение абзаца лишний раз подчеркивает, что мы переместились в США: «…вдали и в вышине, над границей древесной растительности, округлые тени летних облаков бежали по тускло-зеленым горным лугам, а за ними вздымался скалисто-серый, в пятнах снега, Longs Peak» (IV, 212). (Можно привести и иные примеры в этом роде). Поскольку автор никак не комментирует подобные скачки во времени и пространстве, читателю приходится трудиться самому. Помимо неизбежно возникающей вспышки прозрения, на переходе от одного предложения к другому происходит обвал времени, пережитого автором, и это дает читателю такое ощущение бытийности, какое не дал бы самый тонкий анализ.
Эту стилистическую и синтаксическую игру Набоков объясняет своим пристрастием «этот волшебный ковер… так складывать, чтобы один узор приходился на другой». А «споткнется или нет дорогой посетитель, – бодро заключает он, – это его дело» (IV, 213).{84} Но если узор, о котором говорилось применительно к стихотворению (повторяющаяся лежачая позиция со свешенной рукой), был достаточно очевиден, то в данном случае дело обстоит совсем не так просто. Из иных замечаний Набокова можно понять, что имеется в виду не просто узор, складывающийся из упоминания о двух энтомологических вылазках: суть в том, что бабочки, попавшиеся ему на американском Западе, напоминают или каким-то образом связаны с теми, за которыми он гонялся на севере России.{85} Отсюда следует, что метафора «складывающегося волшебного ковра» может воплощать идею творчества, каковым, собственно, и является обнаружение тех или иных узоров в жизни человека, а также прорыв в состояние вневременности. Иными словами, пробуждение воспоминаний о давней вылазке во время более поздней, благодаря сходству видов, за которыми шла охота, есть процесс творческий. Метафора также бросает некоторый свет на особенности стилистики мемуаров, где тема вневременности отражается в необозначенных связях между соположенными фразами, воплощающими опыт жизни на разных континентах. Такая интерпретация метафоры из мемуаров находит опору и в «Парижской поэме», написанной Набоковым в 1943 году по-русски:
В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, —
но, с далеким найдя соответствие,
очутиться в начале пути,
наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
Таким образом, метафора свернутого ковра наталкивает на вывод, что с точки зрения формы набоковское творчество основано, хотя бы отчасти, на том, как писатель воспринимает, вспоминает, организует и выстраивает иерархически мир природных явлений. То есть это тот же самый вывод, который подсказывают параллели между набоковскими характеристиками «космической синхронизации» и структурой его произведений. Некоторые дополнительные аргументы в пользу того же вывода можно найти в лекции Набокова об эпопее Пруста «В поисках утраченного времени», где он присоединяется к Марселю, когда тот обнаруживает, что утраченное время можно восстановить, пронизав нынешние ощущения воспоминаниями о «чувственном прошлом»; «прозрение… достигает своего пика, – заключает Набоков, – когда повествователь осознает, что произведение искусства – это единственный имеющийся у нас в распоряжении способ восстановления прошлого». Набоков также сочувственно говорит еще об одном открытии Марселя: восстановление былых впечатлений силою памяти – проникновение на «самую их глубину» и превращение их в «интеллектуальные эквиваленты» – это, как говорится в лекции, одна из «предпосылок, а может быть, и сама суть произведения искусства, как я его понимаю».{86}
Быть может, наиболее яркой манифестацией потусторонности были в глазах Набокова узоры, из которых складываются жизнь, природа и искусство. В жизни самого Набокова узоры принимают форму судьбы, и отсюда вырастает сложный вопрос взаимоотношений между детерминизмом и свободной волей в мировоззрении писателя. Однажды он признался, что судьба, возможно, это и есть его «муза», добавив к этому, что, как и Пушкина, его захватывают «пророческие даты» (CIII, 602).{87} С другой стороны, по целому ряду поводов Набоков говорил, что верит в свободу воли. Вот, например: «Высшие достижения в поэзии, прозе, живописи, исполнительском искусстве характеризуются иррациональностью и алогичностью, таким духом свободной воля, который щелкает своими радужными пальцами прямо перед лицом самодовольной причинности»; или: «Сомневаюсь, чтобы можно было провести четкое разграничение между трагическим и бурлескным, фатальным и случайным, причинной зависимостью и капризом свободной воли». По контрасту, говоря о литературе для театра, Набоков занимал позицию срединную: гениальный художник способен воплотить определенные закономерности жизни, даже и уходя от всего, что напоминает железные законы трагической предопределенности.{88}