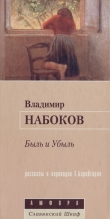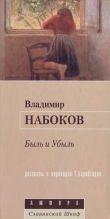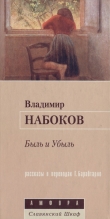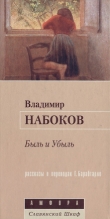Текст книги "Набоков и потусторонность"
Автор книги: В. Александров
Жанры:
Критика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 26 страниц)
Глава 5
«Подлинная жизнь Себастьяна Найта»
«Подлинная жизнь Себастьяна Найта» (1941) – первый роман Набокова на английском. Сюжет его таков: некий русский эмигрант, фигурирующий под инициалом В., пытается раскрыть загадку судьбы своего сводного брата, знаменитого писателя Себастьяна Найта, и написать его биографию. Что примечательно, предприятие, задуманное В., включает в себя не только терпеливые поиски фактов – это понятно, – но и неожиданные открытия, случайные находки, странные совпадения. В. вообще весьма полагается на догадки и предчувствия, не согласующиеся со стандартами «здравомыслия», «реализма» и повествовательной достоверности. При этом странные порой действия героя-повествователя не подрывают доверия к самому повествованию: наряду с другими свидетельствами, рассыпанными по тексту романа, они заставляют думать, что ведет В. в его поисках не что иное, как дух покойного брата.{164}
Некоторый свет на странные и сомнительные способы, которые использует В., чтобы добыть сведения о Себастьяне, проливает примечательная лекция, прочитанная Набоковым на французском в 1937 году, – «Пушкин, или Правда и правдоподобие». Она вообще крайне необходима для понимания и этого, и целого ряда иных поздних произведений Набокова. Рассуждая о жанре «романизированных биографий», Набоков задается вопросом, имеющим прямое отношение к поискам, затеянным В.: «Разве можно совершенно реально представить себе жизнь другого, воскресить ее в своем воображении в неприкосновенном виде, безупречно отразить на бумаге?» Вот ответ: «Сомневаюсь в этом; думается, уже сама мысль, направляя свой луч на историю жизни человека, неизбежно ее искажает. Все это будет лишь правдоподобие, а не правда, которую мы чувствуем» (CI, 542). Подобного рода применение Гейзенбергова принципа неопределенности к биографии, похоже, изначально обессмысливает труд биографа. Однако Набоков приходит к иному выводу: «В сущности, не имеет значения, если то, что мы представляем в своем воображении, всего лишь большой обман. Предположим, окажись у нас возможность вернуться назад и пробраться в эпоху Пушкина, мы бы его не узнали. Ну и что! Это удовольствие даже самый строгий критик, так же как и я, дающий волю своему воображению, мне не может испортить» (CI, 543). Хотя эти суждения могут показаться примером гедонистического солипсизма, на самом деле Набоков хочет сказать, что интуиция, гипотезы, экстраполяции, столь обогащающие жанр художественной биографии, несут оправдание в самих себе: «…если я вложил в них (то есть в видения жизни Пушкина, которые могут оказаться неправдой. – В. А.) хоть немного той любви, которую испытываю к его стихам, то не напоминает ли эта воображаемая жизнь если не самого поэта, то его творчество?» (CI, 544). С точки зрения Набокова, надежность таким прозрениям придает, разумеется, связь воображения художника с потусторонним. Особенно подробно об этом говорится в лекции «Искусство литературы и здравый смысл», но представляется очевидным, что некоторые положения ее были предвосхищены в пушкинской речи. Набоков утверждает здесь, что «по-прежнему остаются в почете добро и красота» и что если «жизнь иногда и кажется мрачной, то только от близорукости» (CI, 549). Набоков говорит также о целой цепочке «открытий» и радостей повседневной жизни, которые укрепляют его оптимизм, а это, в свою очередь, порождает вопрос: «…какой художник, проходя мимоходом, вдруг превращает жизнь в маленький шедевр?» (CI, 549). Сама формулировка этого вопроса, а равно театральная образность, которую обнаруживает автор в живой действительности, знакомы по другим сочинениям Набокова – как намек на красноречивую искусственность в природе и человеческом бытии, ответственность за которую несет потусторонний творец.
Художественные возможности и способы их осуществления, о которых говорится в пушкинской лекции, Набоков воплотил во многих в разное время написанных произведениях, включая биографию Чернышевского в «Даре» и более академические исследования, посвященные Гоголю и Абраму Ганнибалу (последнее – в приложении к набоковскому переводу «Евгения Онегина»; а в комментариях к нему повсеместно рассеяны эпизоды пушкинской жизни, воссозданные в соответствии с теми же принципами).{165} Биографический метод Набокова, конечно, далек от канона. В конце концов, принимать или отвергать его – дело второстепенное сравнительно с пониманием его истинного характера и целевых установок в художественном творчестве, прежде всего в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» и, позднее, в «Бледном огне».
Разумеется, английский язык романа знаменует крупный перелом в набоковском творчестве. Но этого нельзя сказать о темах, ценностях, приемах. Ведь Себастьян воплощает типично набоковские устремления и его представления о таланте. Он может отличаться от Федора по темпераменту, возрасту, мере общественного признания, но концепция искусства и художника превращает его (а стало быть, и самого Набокова) в двоюродного брата героя «Дара».{166}
О том, что набоковская эстетика вполне сохраняет свою природу и в первом англоязычном романе автора, свидетельствует уже характер Себастьяна, наиболее яркой особенностью которого является сама форма сознания: с одной стороны, разновидность соприродной Цинциннату Ц. способности «объединять» чувственные впечатления, а с другой стороны, разновидность «многопланного» мышления Федора, – короче говоря, вариант космической синхронизации Владимира Набокова. По словам В., Себастьян еще до начала литературной карьеры принялся «пестовать свою обособленность, словно она была редким даром или страстью» (CI, 59). Конечно, здесь есть ирония по отношению к самому В., ибо Набоков как раз полагал, что максимальный уровень сознания и есть талант и страсть. У Себастьяна дар оборачивается пониманием того, что «ритм его внутреннего бытия намного богаче, чем ритм всякой иной души… он сознавал, что малейшая его мысль или ощущение содержат на одно измерение больше, чем мысль или ощущение ближнего» (CI, 78). В. опирается на произведения своего брата, а приводимый им пример иллюстрирует столь характерную для космической синхронизации связь между чувственными восприятиями и далеко простирающимися мнемоническими ассоциациями: «Люди в большинстве своем проживают день с какой-то частью рассудка, погруженной в блаженную спячку… в моем случае все веки, дверки и створки сознания открывались сразу и во всякое время суток… Когда однажды утром я пришел к редактору журнала, способному, как я полагал, напечатать некоторые из моих кембриджских стихотворений, то свойственное ему особое заикание, мешаясь с некоторым сочетанием углов в рисунке дымоходов и крыш, чуть перекошенных изъяном оконного стекла, – это и странный, затхловатый запах в комнате (роз, догнивающих в мусорной корзинке?) отправили мои мысли по такому дальнему и кружному пути, что я, вместо того, о чем намеревался говорить, начал вдруг рассказывать этому человеку, которого и видел-то впервые, о литературных планах нашего общего знакомца, просившего меня – я слишком поздно вспомнил об этом – сохранить их в тайне…» (CI, 79).
Очевидные параллели между этим пассажем и космической синхронизацией Набокова помогают также понять, отчего Себастьян представлен в романе в облике Нарцисса, и лишний раз напоминают, сколь важен контекст для верного понимания индивидуальной набоковской образности и словаря. Человек, вглядывающийся в свое отражение в воде, – выразительная метафора возвышенного сознания, подразумеваемого монистической эпистемологией Набокова, согласно которой все воспринимаемое личностью неизбежно окрашивается ее собственным сознанием. Таким образом, в набоковском представлении самосознание Нарцисса из силы ограничительной, солипсистского, например, свойства, превращается в вектор, указывающий направление за пределы «я»{167} (косвенным показателем высокого статуса Себастьяна в глазах Набокова является то, что подруге его Клэр Бишоп дарованы те же познавательные способности. Она, таким образом, оказывается в одной компании с невестой Лужина и Зиной Мерц).
То отсутствие сосредоточенности, о котором рассказывает Себастьян Найт, бросает дополнительный свет на его статус набоковского «героя». Образ его как будто снижается кажущейся холодностью или рассеянностью в общении с людьми. Не парадокс ли? – ведь этот человек считает себя исключительно отзывчивым на все окружающее. Однако же объяснение этому парадоксу следует искать не в эгоизме и, следовательно, моральной ущербности героя: поведение Себастьяна есть способ осуществления предназначенной связи с высшим планом бытия, что выражается в его обостренном сознании и преданности идеалу искусства. По сути дела, все положительные герои Набокова в той или иной степени одиночки и ведут себя так, что порой это может выглядеть как жестокость. Например, отец Федора, отправляясь в экспедиции, надолго оставляет семью и бесцеремонно обрывает близких при любых попытках ограничить его свободу. Но это нисколько не разрушает ту ауру, которой Федор окружает отца (столь же трепетно относился к отцу и сам Набоков, а к нему, в свою очередь, Вера Евсеевна и Дмитрий). Дело, быть может, в том, что в иные моменты отец ведет себя совсем иначе, а главное, конечно, – это его творческий дар: он с лихвой компенсирует недостатки. Полностью реабилитирует Годунова-Чердынцева-старшего также и то, что он связан с какой-то мощной потусторонней силой, что снимает, хотя бы отчасти, бремя ответственности с него лично. То же самое можно сказать об отношении Себастьяна к В., а также к своей возлюбленной Клэр. Он не хорош с обоими – брата всю жизнь держит на расстоянии, любовницу бросает. Правда, когда Себастьян оказывается при смерти, он обращается к В., в глазах которого это выглядит как некоторая компенсация и даже щедрость. Многое также свидетельствует о том, что увлечение таинственной незнакомкой, ради которой Себастьян оставляет Клэр, скорее узор на ковре роковых отношений между поколениями, нежели бесцеремонный эгоизм. Неверно, следовательно, было бы усматривать в поведении Себастьяна беспричинную жестокость. Его моральные изъяны – только видимость.
Связь между обостренной чувствительностью и епифаниями, когда творца озаряет видение будущих произведений, в «Подлинной жизни Себастьяна Найта» (как и в «Приглашении на казнь») не выявлена, но подспудно она существует. В последней книге Найта «Неясный асфодель» есть важный фрагмент, где, помимо всего, звучит как бы кредо героя – вера в символическое познание. Себастьян пишет, что умирающему смысл жизни и окружающий мир являются как некий оккультный текст: «…все равно как если бы путешественник понял, что дикая местность, которую он озирает, есть не случайное скопище природных явлений, а страница книги, на которой расположение гор, и лесов, и полей, и рек образует связное предложение; гласный звук озера сливается с согласным шелестящего склона; изгибы дороги пишут свое сообщение округлым почерком…» (CI, 170). Параллель между восприятием и чтением, о чем, по сути, толкует Себастьян, намекает на взаимосвязь между этими процессами. Далее он говорит о простом «умственном рывке», порождаемом актом чтения – он, рывок этот, высвобождает энергию индивидуального сознания и дарует миг «великого понимания», когда рассыпанные в беспорядке знаки внезапно обнаруживают смысл. В результате все явления сливаются в своем значении, словно стали равноудалены от наблюдателя, либо он равномерно растворился в них. Точно так же вступают в союз различные сферы человеческой деятельности: «…наука, искусство, религия – выпали из привычной схемы классификации и, взявшись за руки, смешались в радостном равенстве» (CI, 170) (здесь вспоминается сам Набоков, который говорил о «гребне», где встречаются наука и искусство, а также отмечал значение наблюдательности в искусстве и воображения в науке). Можно заключить, таким образом, что прозрения, о которых идет речь, как раз и порождают тексты, подобные «Неясному асфоделю».
Себастьян сам уподобляет единство космоса высшей истине: «Все вещи принадлежат к одному порядку вещей, – пишет он в одной из своих книг, – ибо таково единство человеческого восприятия, единство личности, единство материи, чем бы она ни была, материя. Единственное действительное число – единица, прочие суть простые повторы» (CI, 109). Сходные мотивы звучат в мемуарах, где Набоков уравнивает любовь и космическую синхронизацию – то и другое дает чувство трансцендентального единства личности и мира. По сути дела, Себастьян предвосхищает мысль об этом особенном союзе в одной книге, куда включено письмо, имеющее, по мысли В., глубоко автобиографический характер. «Есть лишь одно действительное число: единица. И любовь, как видно, – наилучший из показателей этой единственности» (CI, 115). В финале романа В. дано испытать чувство такого единства самому; он столь тесно объединяет себя с покойным братом, что в собственном ощущении Себастьяном и становится. Больше того, впечатление это заставляет его гипостазировать нечто вроде метафизического абсолюта, согласно которому «…душа – это лишь форма бытия, а не устойчивое состояние, что любая душа может стать твоей, если ты уловишь ее извивы и последуешь им. И может быть, потусторонность и состоит в способности сознательно жить в любой облюбованной тобою душе – в любом количестве душ, – и ни одна из них не сознает своего переменяемого бремени» (CI, 191).{168}
Можно предположить также, что подобно самому Набокову, Себастьян разделяет то, что можно было бы назвать платоновской концепцией искусства. В. описывает борьбу Себастьяна со словом как «сводящее с ума ощущение, что правильные, единственные слова ждут тебя на другом берегу» (CI, 91), а уравновешивается это ощущение «дрожью еще не одетой мысли, выкликающей их с этого края пропасти» (CI, 91–92). Смысл тут, разумеется, в том, что «правильные слова» и, стало быть, построенные из них произведения предсуществуют, ожидая, пока писатель воплотит их на бумаге. «Сводящее с ума ощущение», о котором говорит В., находит сочувственный отклик в рассуждениях самого Себастьяна; так, в «Неясном асфоделе» он пишет о невозможности постижения чего бы то ни было за чертой смерти: «…только о половине понятия смерти можно сказать, – она существует реально: эта сторона, – рывок, разлука, причал жизни тихо уплывает, трепеща носовыми платками…» (CI, 168) (то же самое имеет в виду цитируемый Федором Годуновым-Чердынцевым Делаланд, уподобляя жизнь дому, а смерть – расстилающемуся вокруг ландшафту). Подразумеваемое путешествие по воде воссоздает мифологическую образность перехода к жизни после смерти; и хоть никто не знает, что это за жизнь, нечто, кажется, есть – подобно тому, как есть слова, существующие до появления автора.
Уподобление природных феноменов оккультному тексту важно и потому, что ведет к центральной набоковской теме узоров в естественном мире и человеческой жизни. Себастьян утверждает, что последняя «оборачивается монограммой, теперь совершенно понятной для внутреннего ока, распутавшего переплетенные буквы» (CI, 170) (курсив мой. – В. А.). Тут, конечно, вспоминаются судьбоносные «водяные знаки», которые Набоков различал в собственной жизни.
Из мемуаров можно понять, что опыт космической синхронизации открывает автору ворота тюрьмы времени. Хотя вневременность с епифаниями Себастьяна прямо не связывается, В. изображает его как человека, живущего так, словно времени не существует. Опровергая ложные суждения Гудмена, автора биографии Себастьяна Найта, будто герой ее испытывал воздействие своего времени, В. заявляет, что «время никогда не являлось для Себастьяна 1914, или 1920, или 1936 годом – это всегда был год 1-й» (CI, 77). Равным образом Себастьян никогда не мог понять, отчего гигантские катастрофы прошлого задевают людей меньше, чем настоящие. Отсюда В. заключает, что «время, пространство для него (для Себастьяна. – В. А.) были мерками одной и той же вечности, так что само представление о нем, реагирующем каким-то особо „современным“ манером на то, что м-р Гудмен именует „атмосферой послевоенной Европы“, просто бред» (CI, 78). Следует отметить, что мысль о личном опыте переживания времени прямо ведет к рассуждениям В. о многомерном сознании, которым наделен его брат, – соотнесение весьма многозначительное. Та же связь угадывается в «Неясном асфоделе», где, предваряя пассаж об умирающем, которому открывается тайна действительности, Себастьян уподобляет время и пространство «детским терминам», которые, собственно, являются загадками, «так и выдуманными человеком как загадки» (CI, 170). А сравнение всей жизни человеческой с детским садом подсказывает, что после смерти человек не только перемещается во «взрослое» состояние бытия – само это состояние упраздняет «детские», то есть земные представления о времени. Таким образом, «вневременное» существование Себастьяна в этом мире предвосхищает некоторым образом жизнь после смерти – точно то соотношение, на которое Набоков указывал в своих критических дискурсах. Отсюда лишний раз следует, что «нечеловеческое» отношение к ближним объясняется прикосновенностью Себастьяна к миру потустороннего.
Далее, Себастьян близок Набокову в том отношении, что этика автоматически входит в его ценностную систему как искусства, так и самой жизни. «В Себастьяне вовсе не было прогрессивного сора, этого „к-чертям-предрассудки“, – пишет В. – Он знал отлично, что показное презрение к установлениям морали есть все та же чопорность с черного хода, перелицованный предрассудок. Обычно он выбирал самый легкий этический путь (точно так же, как выбирал самый трудный – эстетический) просто потому, что так было ближе до выбранной цели…» (CI, 90). Подразумеваемая здесь связь этики и эстетики (и далее – метафизики) укрепляется затем суждением Себастьяна, что литературное клише есть «раздутый, зловонный труп» и что «второсортное», прикидывающееся лучшим, чем оно есть на самом деле, «аморально в художественном смысле» (CI, 98). Отсюда, конечно, не следует, что общественные нравы представляли для Себастьяна сколь-нибудь значительный интерес; как и для Набокова, этика в его глазах – лишь грань общего целого.
Среди малозаметных соответствий между Себастьяном и Набоковым есть одно, имеющее прямое отношение к металитературным темам и устремлениям в творчестве писателя. Рассуждения В. о романе Найта «Призматический фацет» могут быть истолкованы как скрытая полемика с хорошо известными положениями статьи Владислава Ходасевича «О Сирине» (1937). Слова В., что героями произведения являются «приемы сочинительства», напоминают мысль Ходасевича, будто произведения Сирина «населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов… одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы». Однако из продолжения разговора о творчестве Найта вытекает, что В. совсем не склонен сводить его к набору приемов. В. приводит в качестве примера художника, который, судя по всему, хочет показать «не изображение ландшафта, но изображение различных способов изображения некоего ландшафта» (CI, 101). Но тут же следует существенная оговорка: оказывается, это не самоцель, художник хотел бы верить, что «гармоническое слияние» различных способов изображения «откроет в ландшафте то, что мне хотелось вам в нем показать» (CI, 101). Иными словами, за техническим совершенством искусства Найта скрыты глубинные убеждения и определенное видение мира. Таким образом, в рассуждениях В. можно усмотреть полемику с Ходасевичем, который говорил, что тема Сирина ограничена «жизнью художника и жизнью приема в сознании художника».{169}
Если Себастьян воплощает многочисленные черты, близкие его создателю, то есть в романе персонаж, который с особой откровенностью демонстрирует все то, что Набоков презирал. Разумеется, это Гудмен с его слепотой к подробностям и бездумной склонностью к размашистым обобщениям. Откровенно саркастическая оценка его ущербных писаний предвосхищает некоторые положения лекции «Искусство литературы и здравый смысл», в которой Набоков говорит, что справедливое художническое возмездие за «беззаконие» состоит в том, чтобы подчеркнуть его внутреннюю абсурдность (69).{170}
Если посмотреть со стороны, то ведущей темой «Подлинной жизни Себастьяна Найта» является осмысление теоретических и практических возможностей создания биографии, и Набоков осуществляет эту тему в терминах, весьма близких пушкинской лекции. «Помни, все, рассказанное тебе, в действительности трояко: скроено рассказчиком, перекроено слушателем и скрыто от обоих мертвым героем рассказа» (CI, 66). Отсюда с очевидностью следует, что и представления самого Набокова о взаимосвязи между жизнью и биографией отличались изощренной сложностью (помимо того, во фразе скрыт двусмысленный намек на то, что мертвые могут оказывать воздействие на живых). Тем не менее, несмотря на собственные слова, В. с поразительной легкостью обращается к писаниям Себастьяна как основе суждений о жизни автора или способе его мышления. Короче говоря, он исходит из того, что существует основанная на истине связь между жизнью художника и его творчеством; и задача состоит в том, чтобы эту связь обнаружить.
Поиски В. находят явную поддержку в художественной деятельности Себастьяна: имея явные точки соприкосновения с творчеством самого Набокова, они придают особый вес предприятию, затеянному героем-повествователем. После смерти Себастьяна В. просматривает его архив и наталкивается на целую серию фотографий некоего «м-ра X.», запечатленного в разные периоды своей жизни – от «луноликого пострела» до «взрослого» господина. Из газетной вырезки, скрепленной с пачкой фотографий, явствует, что купил их сам Найт, которому они нужны были для «выдуманной биографии» (CI, 56). На первый взгляд может показаться, что это автор из своего укрытия оценивает труды героя-повествователя по созданию биографии брата, и, следовательно, биография эта, хоть и содержатся в ней некоторые объективные сведения, тоже «вымысел». Этому негативному истолкованию, согласно которому «вымысел» по существу уравнивается с «неправдой», противостоит рассказ В. о романе Найта «Успех», где подвергается радикальной переоценке посылка, будто вымысел есть ложь (снова слышны отзвуки пушкинской лекции). В основе сюжета романа – исследование сложных причин, приведших к нечаянной якобы встрече мужчины с женщиной, с которой он будет счастлив отныне и навек. По словам В., это «одно из сложнейших исследований, на какие когда-либо решался писатель» (CI, 101). Замечание, конечно, явно несуразное, ибо В. как бы совершенно игнорирует тот факт, что хотя и повествуется в романе о хитроумных узорах судьбы, действуют в нем вымышленные персонажи, живущие придуманной жизнью; ничто в суждениях В. не указывает на то, что автор списывал их с реальных людей, так что термин «исследование» представляется весьма сомнительным. Настораживает и пространное описание романа. Из слов В. явствует, что это не мастерски сработанное изделие, где автору интересны судьбы персонажей, но демонстрация сноровки и проницательности в разгадывании событий и причин, ведущих к «счастливому концу». Конечно, «Успех» некоторым образом напоминает «Дар» – в том, например, смысле, что и здесь прослеживается тайный умысел судьбы, связующей мужчину и женщину. Очевидное отличие, однако, состоит в том, что роковая встреча Зины и Федора в пределах текста как бы подготовлена внетекстовым опытом героев.
В. никак не дает понять, что «Успех» – это автобиографическое сочинение и, хоть приводит оттуда обширный фрагмент, «так странно связанный с внутренней жизнью Себастьяна в пору завершения последних глав» (CI, 103), сути этой связи не вскрывает; точно так же нет никаких указаний на то, каким образом этот фрагмент соотнесен с авторским «исследованием» предопределенности в жизни персонажей. Но если искать в замечаниях В. по поводу «Успеха» хоть какой-то смысл, следует предположить, что по мысли обоих – и самого В., и его брата – любое исследование, которое следовало должным образом осуществить в действительности, применимо и к вымыслу. Решить это затруднение можно было бы, например, вспомнив, что в соответствии с метафизической эстетикой Набокова произведение искусства частично возникает в потусторонности, выступающей в качестве абсолюта, а частично порождается сознанием читателя, зрителя, слушателя. Таким образом, согласно Набокову, подлинное высокое искусство просто не может быть фальшивым – в том смысле, что оно беспричинно отделено от опыта автора или того мира, в который он погружен, даже если не делает ни малейшей попытки стать правдивым зеркалом «действительности» (что с точки зрения Набокова и бессмысленно, и невозможно). Иначе говоря, воображение, которое, как любил повторять Набоков, опирается, с одной стороны, на память, с другой, на вдохновение, есть не просто фантазия, но путь к истине (или, выражаясь в стиле пушкинской лекции, такая фантазия, которая сродни «правдоподобию»). Это согласуется с опытом космической синхронизации, пережитым Себастьяном, а также с интуитивным познанием, которое дается В. в финале романа, а именно: его воображаемая эмоциональная близость с Себастьяном не менее действительна, чем если бы он и впрямь оказался у смертного одра брата. В свете всего этого истолкование «Успеха», предложенное В., как и суждения, основанные на других произведениях Себастьяна Найта, подсказывают, что в своем творчестве он в общем смысле опирался на платоновские идеи. Это косвенно подтверждается и ненаписанной биографией «г-на Эйча», где фотографии могли служить заменой непосредственных ощущений, становящихся нередко, как явствует из лекции «Искусство литературы и здравый смысл» и книги мемуаров, трамплином для вдохновения. Легализация воображения как источника интуитивно познанной истины (или правдоподобной искусственности) вытекает из самой сути произведений Себастьяна, предвосхищающих разыскания Кинбота и дискурсы Шейда в «Бледном огне», и составляет одну из наиболее ярких и характерных, хоть и нередко ложно толкуемых особенностей творчества и идейного наследия Набокова (при всех его очевидных перекличках с традиционными понятиями романтической и символистской эстетики).
Как мы видели, узоры жизни в набоковских произведениях отражают умыслы судьбы и намекают на потусторонность. Так, подчеркивая неоднократно сходство между собою и братом, В. явно указывает на существование судьбоносной связи, которая к тому же вдохновляет его как сочинителя биографии Найта. Конечно, имеет значение и кровное родство, однако, как показывает духовная близость между Цинциннатом и его матерью, или Федором и отцом, семейные отношения, «гены», «среда» вовсе не вытесняют в набоковском мире иных, потусторонних мотивов. Из рассуждений Набокова – автора книги мемуаров – о собственном характере следует, что в формировании его сыграла роль и потусторонность; свидетельствуют о том же и нарисованные там узоры генеалогического древа. А с другой стороны, история Лужина и его родителей показывает, что не каждая семья в набоковской прозе связана единством характеров и поведения.
В. утверждает, что знает брата «изнутри», что, занимаясь его жизнью, испытывает странное ощущение déjà vu (чего-то уже виденного) и разделяет с ним единый «ритм»: «…представляя его поступки, о которых мне довелось услышать лишь после его кончины, я наверное знал, что в том или ином, случае поступил бы в точности как он» (CI, 50–51) (далее последует сходное признание, а затем еще и обнаружится, что загадочный «общий ритм» объединял также Себастьяна и Клэр Бишоп). Может показаться странным, отчего В., ощущая, как видно, столь тесную близость с Себастьяном, не способен в полной мере оценить смысл им сказанного; однако же в невосприимчивости этой можно без труда уловить мотив драматической иронии, который автор вводит, чтобы облегчить читательскую задачу. В конце концов, герой романа – Себастьян, художник, а В. – всего лишь на службе у его наследия. Адекватность такого романного построения видна, например, из одного высказывания В. по поводу сочинений брата: были они, оказывается, «чередой ослепительных пропусков» (CI, 52), заполнить их должен сам читатель.
Хоть В. нигде и ничем не выдает, что видит связь между основными событиями, случившимися во время предпринятого им расследования, и жизнью и творчеством Себастьяна, какие-то мелкие совпадения он замечает. Обоим, например, кажется, что голуби, срывающиеся с Триумфальной арки, подобны «камню, сливающемуся с крылом» (CI, 84). Оба испытывают отвращение «к почтовым отправлениям» (CI, 122), а также «ко всему, сделанному из стекла или фарфора» (CI, 149) (наблюдение В., что Клэр связана с Себастьяном прочными психологическими нитями, укрепляется сходным восприятием укромного места в лесу как подходящей обители «гномов» и «леших» (CI, 95, 96)). Еще более откровенная параллель возникает, когда В. говорит, что, сталкиваясь с необъяснимыми поступками брата, он нередко обнаруживает их смысл в «подсознательном повороте того или иного из написанных… предложений» (CI, 51). Эта реплика и впрямь красноречива, ибо подразумевает возможность того, что все предприятие В. было спроектировано и отрежиссированно его покойным братом. Нечто в этом роде В. повторяет, раздумывая над тем, что «подсознательная работа разума» должна была подталкивать его «к правильному повороту в его (Себастьяна. – В. А.) личном лабиринте» (CI, 173).
Тема призрачных воплощений подтверждает эту возможность. Впервые она обозначается в романе как цитата из книги Найта «Утерянные вещи»; автор рассказывает о поездке в местечко, где, как он считал, был дом его покойной матери: «Понемногу я довел себя до такого состояния, что на миг розовое и зеленое; (цвета домов и растущего поодаль дерева. – В. А.) замерцало и поплыло, как бы видимое сквозь пелену тумана. Я увидел размытую фигурку матери: маленькая, в большой шляпе, она медленно всходила по ступенькам, тающим, казалось, в воде» (CI, 39). Потом, однако же, выясняется, что «видение» явилось не в том месте, где мать умерла, что немедленно порождает сомнения: может, это был не призрак, а просто игра воображения. Вот пример тщательно продуманной двусмысленности в романе. Поскольку скрытый автор не выказывает прямо никакого отношения к оккультным откровениям Себастьяна – ни положительного, ни отрицательного – читателю предстоит самому выработать то или иное отношение к ним. И все равно какая-то доля сомнения в адекватности собственного истолкования – любого, всякого – останется, даже если поставить его в контекст иных весьма многозначительных деталей текста.