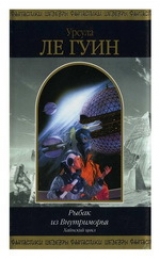
Текст книги "Рыбак из Внутриморья (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 55 страниц)
Уходящие из Омеласа
Уходящие из Омеласа
(вариации на тему из сочинений Уильяма Джемса)
Центральная идея публикуемого ниже психомифа – тема козла отпущения – отсылает нас прямиком к «Братьям Карамазовым» Достоевского, и несколько человек уже спрашивали меня с легким подозрением, как бы ожидая подвоха, почему я одалживаюсь именно у Уильяма Джемса. Ответ весьма банален – с тех самых пор, как мне минуло двадцать пять лет, я была совершенно не в силах перечитывать любимого некогда классика и попросту запамятовала о бесспорном его приоритете. Лишь наткнувшись на подобный же пассаж в «Нравственном философе и нравственной жизни» Джемса, я пережила подлинный шок узнавания. Вот как он звучит:
Если допустить гипотетически, что нам предложено существовать в мире утопий досточтимых Фурье, Беллами и Морриса, где благополучие и счастье миллионов зиждутся единственно на том простейшем условии, что некая пропащая душа где-то на самом краю мироздания должна влачить одинокое существование в ужасных мучениях, о которых, невзирая на их удаленность и уникальность, тут же становится известно каждому, то, хотя от предоставленной нам утопии мы и не в силах отказаться, каким же звериным оскалом оборачивается к нам все наше блаженство, наше осознанное приятие подобной сделки с собственной совестью!
Вряд ли вообще возможно лучше сформулировать дилемму американского самосознания. Достоевский был величайшим из художников и к тому же проповедником самых радикальных взглядов, но его преждевременный социальный порыв обернулся против него же самого, ввергнув в пучину реакционного насилия. Тогда как типичный американский джентльмен Джемс, кажущийся сегодня столь мягким, столь наивно интеллигентным, – взгляните, как часто употребляет он уничижительное местоимение «мы» («нас», «наше»), как бы скромно предполагая несомненное равенство с собой любого из своих читателей, – был, есть и навсегда останется носителем истинного философского радикализма. Сразу же вслед за пассажем о «пропащей душе» Джемс продолжает:
Все высочайшие, все самые пронзительные идеалы – насквозь революционны. Они редко преподносятся нам в одежках из прошлого – куда как чаще под видом якобы убедительных воспоминаний о вероятном будущем, из которых обществу предстоит извлечь лишь очередной урок повиновения...
Связь двух приведенных сентенций с публикуемым здесь рассказом, с фантастикой вообще, со всеми размышлениями о будущем – самая что ни на есть непосредственная. Идеалы как «воспоминания о будущем» – до чего же деликатное и в то же время весьма отрезвляющее замечание!
Естественно, я отнюдь не сидела перед открытым томиком Джемса, когда у меня родилось намерение изложить историю об этой самой «пропащей душе». Прямые замыкания в жизни сочинителя – крайняя редкость. Я уселась писать, потому что сама переживала тогда нечто подобное, не имея в голове ничего, кроме одного лишь слова «Омелас», которое позаимствовала с обычного дорожного указателя «Салем (Орегон)» – справа налево. А вам не доводилось разве читать таким образом дорожные указатели? ПОТС. ОНЖОРОТСО, ИТЕД. ОКСИЦНАРФ-НАС.. Салем это шалом, это солям, это мир. Мелас. Омелас. Омелас. Homme hdlas [1][
[Закрыть]. «Откуда вы черпаете свои сюжеты, миссис Лe Гуин?» Из полузабытого Достоевского да еще из прочитанных задом наперед дорожных указателей, разумеется. Откуда же еще?!
С гулкой перекличкой колоколов, взметнувшей ласточек в поднебесье, в город Омелас, высящий светлые башни свои у самого моря, приходит Праздник Лета. Такелаж бесчисленных судов в гавани радостно расцветает пестрыми гирляндами флагов. По улицам меж бесконечных рядов красных черепичных крыш и выбеленных стен домов, мимо древних, поросших мхом садов, под тенистыми купами могучих дерев, мимо больших парков и гигантских общественных зданий движутся процессии. Одни торжественные – старики в длинных одеяниях из лилового и серого грубого полотна, степенные мастеровые, матроны с младенцами на руках, тихонько сплетничающие между собой на ходу. На иных же улицах музыка звучит быстрее, там сверкают тамбурины и гонги, люди идут вприпляску, само шествие – сплошной беспрерывный танец. Неугомонные детишки шныряют под ногами у взрослых, звонкие их голоса взмывают над ликующей толпой, пересекаясь с молниеносными росчерками обезумевших ласточек. Все процессии движутся к северной окраине, где на большом заливном лугу, именуемом Зеленым долом, тонконогие юноши и девушки, облаченные лишь в просвеченный солнцем воздух, с заляпанными грязью лодыжками, уже разогревают норовистых коней перед скачками. На скакунах, кроме простейшей уздечки без удил, никакой лишней сбруи. Зато пышные гривы изукрашены блестящими лентами всех цветов радуги. Жеребцы раздувают ноздри, фыркают и, бахвалясь друг перед другом, встают на дыбы; они возбуждены, ведь лошадь – единственное домашнее животное, принимающее человеческие празднества за свои собственные. С севера и запада город вместе с уютной бухтой охватывает гигантской подковой горная гряда. Утренний воздух столь прозрачен, что все восемнадцать вершин Великого кряжа слепят своими обледенелыми пиками. Едва ощутимый бриз нежно полощет флаги, которыми размечен большой беговой круг. Тишину просторного луга нарушает лишь музыка, доносящаяся с улиц; она звучит то тише, то громче, но определенно приближается, принося с собой упоительное чувство праздника. Звуки музыки время от времени заглушаются звонкими и радостными переливами благовеста.
И еще какими радостными! Как выразить эту радость словами? Как описать вам жителей Омеласа?
Они отнюдь не простаки, доложу я вам, хоть и счастливы постоянно. Это мы, в отличие от них, разучились выражать свою радость словами и даже искреннюю улыбку тол-
куем порой как нечто сродни атавизму. К описанию, вроде приведенного выше, как бы само собой напрашивается определенное продолжение. Хочется изобразить некую августейшую особу, монарха верхом на благородном скакуне в окружении блистательной свиты или – как вариант – его же в сверкающем чистым золотом паланкине, покоящемся на могучих плечах темнокожих невольников. Но – нет, не будет вам никакого монарха! В Омеласе не ведают рабства, не пользуются мечами. Жители Омеласа отнюдь не варвары. Мне не знаком свод законов их общественного устройства, но мнится – он краток до чрезвычайности. Как обходятся они без монархии и без рабства, так ни к чему им и наши биржи с банками, рекламные агентства, тайная полиция, ядерное оружие. И все же – повторюсь! – они отнюдь не простаки, не сладкогласные аркадские пастушки, не благородные дикари, не кроткие обитатели утопии. Они ничуть не примитивнее нас. Увы, все мы подвержены одной скверной привычке, коей во многом обязаны высоколобым педантам, – привычке считать любое проявление счастья признаком безнадежного кретинизма. Мол, лишь в страдании истинная мудрость, лишь зло и боль интересны. Эдакое чисто эстетское предательство – отказ признать грех банальным, а страдание невыносимо скучным. Мол, не можешь предотвратить страдание – стань сам воплощением этого страдания. Будет больно – повтори еще разок. Но ведь, превознося отчаяние и боль, мы порицаем радость, подставляя щеку насилию, раскрывая ему свои объятия, утрачиваем остальные ценности. И уже практически все растеряли – мы больше не в силах описать даже простое человеческое счастье, не в силах ощутить радость без причины, саму по себе.
Как же рассказать вам все-таки о жителях Омеласа? Они вовсе не дети, наивные и безмятежные, – хотя их чада и в самом деле безмятежно счастливы. Они зрелые, страстные, интеллигентные люди, просто в их жизни нет места унынию. Чудо? Вовсе нет, но где же сыскать верные слова, чтобы убедить вас в этом? Омелас выходит у меня каким-то сусальным, точно пряничный домик из старинной сказки – помните: «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве жили-были...» et cetera. Быть может, чем пытаться угодить на все вкусы, лучше оставить кое-что и на долю вашего собственного воображения? Как, к примеру, об-
стоит в Омеласе дело с техникой? Полагаю, машин на улицах и вертолетов над головой там быть не должно – это проистекает из того непременного условия, что жители Омеласа счастливы. Счастье же всегда основано на умении различать необходимое, не столь уж необходимое (но безвредное) и избыточное (то есть разрушительное). В среднюю категорию – без чего можно обойтись, но что делает жизнь человека значительно комфортнее – мы могли бы включить (для них, жителей Омеласа) центральное отопление, поезда подземки, стиральные машины, а также все те удивительные устройства, чудеса технологии, что пока нам неведомы, вроде свободно парящих над головой светильников, источников энергии, практически не требующих горючего и не загрязняющих среду, лекарств против насморка – и прочее в том же роде. А может, ничего этого у жителей Омеласа нет и в помине – неважно. Как вам больше глянется. Что же до меня, то представляется, будто жители окрестных поселений съезжались на фестиваль в Омеласе заблаговременно на небольших, но весьма быстроходных поездах и двухъярусных трамваях, а здание вокзала – одно из самых великолепных в городе, хотя и поскромнее величественных куполов Центрального рынка. И все же опасаюсь, что нарисованная картинка, несмотря на включение в нее железной дороги, кое-кому из вас пока еще не представляется достоверной. Эдакие розовые сопли – вечные улыбки, малиновый перезвон, парады, гарцующие кони, цветы и прочее в том же духе.
Если вам кажется, что Омеласу недостает оргий – будьте так любезны! Если поможет, то не колеблясь прибавьте сюда оргию. Только, бога ради, попытайтесь обойтись без святилищ, из врат коих высыпают прекрасные обнаженные жрецы и жрицы уже почти в экстазе, готовые разделить свой любовный пыл с первым встречным, знакомым и незнакомым, любым, кто возжаждет слияния с глубинным божеством, обитающим в его жилах, – хотя именно таков был изначальный мой замысел. Так оно лучше – Омелас без храмов или, во всяком случае, без жрецов в этих храмах. Религия – пожалуйста, духовенство же – нет. Пусть бродят себе окрест обнаженные красотки и красавчики, предлагая себя жаждущим неистовства плоти как некое божественное суфле – пусть! Пусть вливаются они в процессии, пусть такт совокуплений во всеуслышание
отбивают тамбурины, а гонги возвещают о триумфе страсти. И пусть те (и это немаловажно!), кто появится на свет как плод этих божественных ритуалов, станут предметом всеобщего обожания и поклонения. Одно я знаю точно: чувство вины жителям Омеласа неведомо. Чего же еще нам недостает? Сперва казалось, что наркотикам вроде бы не место в Омеласе, но это во мне говорил завзятый пурист. Пусть для тех, кому это требуется, улицы города вечно благоухают слабым, но стойким ароматом друйза, зелья, которое сперва вызывает величайшее просветление в голове и необыкновенную легкость в членах, а спустя часы – томление, и сонливость, и удивительные видения, приоткрывающие завесу над сокровенными тайнами мироздания, – подобные тем, что доступны нам в краткий миг апофеоза любви; и пусть не возникает никакой зависимости от употребления друйза. Но в расчете на более изысканный вкус, для гурманов, я предлагаю завести в Омеласе также и обычай варить светлое пиво.
В чем же еще нуждается этот счастливый город, чего еще ему не хватает? Ощущения победы, разумеется, торжества мужества. Но уж если мы сумели обойтись без духовенства, попробуем обойтись и без солдат. Торжество после успешной резни – не то торжество, что нам нужно, оно сюда не подходит, ибо порождает один лишь ужас и слишком тривиально. Беспредельная, но сдержанная удовлетворенность, великодушный триумф, и не над каким-то там внешним противником, но через единение с наипрекраснейшим в людских душах, через приобщение к благодати летней природы – вот что переполняет сердца обитателей Омеласа, и виктория, которую они празднуют, суть торжество самой жизни. Не думаю, что многим из них всерьез надобен друйз.
Почти все процессии тем временем уже достигли Зеленого дола. Из-под алых и голубых навесов пекарей струятся умопомрачительные ароматы. Рожицы ребятишек уморительно перемазаны кремом; даже в пушистой седой бороде старца можно заметить крошки пирожного. Юноши и девушки, осадив своих взбудораженных коней неподалеку от стартовой линии, оглаживают им холки. Какая-то бойкая старушенция, жирная и коротконогая, заливаясь визгливым смехом, раздает всем вокруг охапки цветов из огромной корзины, и высокие юноши тут же венчают ими
свои роскошные волосы. Чуть в стороне от толпы устроился на травке мальчуган лет десяти с мечтательными темными глазами и наигрывает себе на флейте. Слушая, люди просветленно улыбаются, но не заговаривают с юным дарованием – все равно он, околдованный сладостной магией мелодии, ничего не услышит.
Вот он кончил играть, и руки, нежно сжимающие флейту, расслабленно опускаются.
И тут, словно наступившая вдруг тишина послужила своеобразным сигналом, из павильона у стартовой черты долетает пение трубы – звук властный, но вместе с тем пронзительный и щемящий. Кони взвиваются на дыбы и откликаются на призыв беспокойным ржанием. Юные всадники с разом посерьезневшими лицами похлопывают, поглаживают лошадей, приговаривая: «Ну-ну, тише, мой милый, тише, радость моя, моя надежда...» – и начинают выстраиваться на старте в шеренгу. Толпа вдоль всей линии забега теперь точно тростник на ветру. Праздник Лета начался.
Вы поверили? Убедило вас описание празднества, города, радости? Нет? Тогда позвольте мне прибавить еще кое-что.
В глубоком подвале какого-то из величественных общественных зданий Омеласа или, возможно, в погребе одного из просторных частных особняков находится каморка. Она без окон, а дверь всегда заперта на прочный засов. Тусклый свет едва пробивается сюда через щели в толстенных досках – не прямо снаружи, а просочившись сперва сквозь затянутое паутиной пыльное окошко где-то в самом дальнем конце погреба. В одном углу каморки стоят в ржавом ведре две ветхие швабры с вонючим окаменелым тряпьем на них. Пол сырой и грязный, как в обычном подвале. Вся каморка три шага в длину и два в ширину – типичный чулан для швабр или железного хлама.
И в ней, в свободном углу, ребенок – неважно, мальчик то или девочка. На вид лет шести, на самом же деле – около десяти. Он слабоумный. Возможно, таким уродился, а может, свихнулся позже от страха, голода, одиночества. Ребенок то ковыряет в носу, то теребит себе пальцы ног, то почесывает гениталии. Сидит он, съежившись, как можно дальше от ведра с вонючими швабрами. Он панически боится их. Он видит в этих швабрах неких жутких страшилищ. Он изо всей мочи зажмуривается, слабо надеясь, что жуткие швабры исчезнут, но они всегда здесь, а дверь закрыта, и никто не придет. Дверь всегда на запоре, и никто никогда не приходит к нему, разве что изредка – а ребенок не имеет совершенно никакого представления о времени,– изредка дверь, ужасающе скрежеща, распахивается, и на пороге оказывается человек или несколько. Обычно один из посетителей входит и, ни слова не говоря, грубым пинком поднимает ребенка на ноги, остальные смотрят из-за двери, и лица их искажены отвращением и страхом. Вошедший торопливо наполняет миску кашей, а кувшин водой, дверь захлопывается снова, и испуганные глаза исчезают. Люди эти не произносят ни слова, но ребенок не всегда жил здесь, в этом чулане, он помнит еще свет солнца и ласковые руки матери и порой пытается заговорить с ними сам. «Я больше не буду, – хнычет он. – Выпустите меня отсюда, ну пожалуйста! Я буду очень хорошим!» Но никто ему никогда не отвечает. Прежде ребенок подолгу кричал ночами, зовя кого-нибудь на помощь, захлебывался рыданиями, но теперь только скулит себе потихоньку и все реже и реже заговаривает с людьми. Он крайне изможден, ноги точно былинки, животик неимоверно вздут; кормят его раз в день, дают полмиски кукурузной каши, чуть приправленной тухловатым салом. Одежды он не знает; ножки сплошь в гнойниках и язвах от постоянного сидения в собственных экскрементах.
Все они, все до единого жители Омеласа, знают об этом ребенке. Но далеко не всякий приходит посмотреть на него, иным вполне достаточно знать, что он есть. Однако каждому известно, что так и должно быть, таков неизменный порядок вещей. Некоторые понимают, почему это так, другие – нет, но все как один знают, что общее их счастье, благополучие целого города, прочность дружбы и семейных уз, здоровье собственных детей, мудрость учителей, искусство мастеровых, даже урожайность полей и благосклонность небес – все, буквально все целиком и полностью зависит от нескончаемых страданий этого единственного ребенка.
Только малышня ничего не ведает о несчастном – детям рассказывают об этом, только когда они немного подрастут и рассудок их окажется в состоянии воспринять такое, в возрасте примерно от восьми до двенадцати, и большинство приходящих, чтобы взглянуть на него, именно молодые люди, но не только: достаточно часто появляются в подвале и взрослые, причем иные далеко не впервой. И независимо от того, как тщательно готовили юных зрителей к предстоящему зрелищу, они всегда испытывают настоящее потрясение. Они чувствуют отвращение, какого еще никогда не испытывали. Испытывают, несмотря на длительную подготовку, боль, ярость, бессилие. Им так хочется хоть что-нибудь сделать для бедолаги. Но ничего сделать нельзя. Нельзя вывести ребенка из грязной дыры на свет божий, нельзя отмыть и накормить, нельзя приласкать. Все это было бы замечательно, но если сделать так, в тот же день и час рухнет благополучие Омеласа, исчезнут бесследно блеск, процветание, счастье всех его обитателей. Таково непременное условие. Променять счастье всех и каждого в городе на единственное крохотное улучшение в жизни отверженного, разрушить благополучие тысяч и тысяч ради сомнительного шанса принести благо одному-единственному – вот когда в стенах Омеласа воистину воцарилось бы чувство вины.
Условия же просты и непререкаемы – ребенку нельзя сказать даже одного ласкового слова.
Зачастую, увидев ребенка и осознав жуткий парадокс, подростки возвращаются домой в слезах и бессильной ярости. Нередко страшное зрелище не стирается из памяти, стоит перед их мысленным взором недели, месяцы, а то и долгие годы. Но со временем они все же свыкаются с неизбежным, осознают, что, если даже ребенка освободить, большого блага тому это уже не принесет. Какое-то смутное удовольствие от тепла и перемены пищи он, возможно, еще испытает, но и только. Слишком уж слабоумен он, чтобы познать подлинную радость. Слишком долго коснел в страхе, чтобы разом от него освободиться. Слишком неотесан и туп, чтобы правильно реагировать на гуманное к себе отношение. Пожалуй, теперь, после столь долгого затворничества, он уже не сможет жить вне своих тесных стен, без тьмы, без смрада экскрементов под собой. Слезы, вызванные вопиющей бесчеловечностью, высыхают сами собой, когда подростки постигают, что такова суровая справедливость жизни, такова грубая реальность, и они приемлют ее, пусть даже и вопреки чувству. И пожалуй, именно эти слезы, именно эти попытки проявить великодушие и последующее осознание собственного бессилия – именно это, как ничто иное, обогащает юные души. Их счастье более уже не назовешь безмятежным. Они понимают, что несвободны, что сами в чем-то подобны этому существу из подвала. Они изведали, что такое подлинное сопереживание.
И поняли, что именно благодаря несчастью этого заморыша и знанию о его существовании так величественна архитектура Омеласа, так мятежна и нежна музыка его композиторов, так основательна наука. Именно поэтому в будущем они столь ласковы и заботливы с собственными чадами. Они знают: если бы не бедолага, жалобно скулящий в потемках подвала, то тот другой, что так виртуозно играет на флейте, не мог бы услаждать их слух музыкой, пока юные всадники во всей своей красе выстраиваются в стартовый порядок в первый солнечный день Праздника Лета.
Ну а теперь-то – поверили вы в них, в жителей Омеласа? Разве теперь они не кажутся вам более правдоподобными? Однако осталось поведать вам кое о чем еще, совсем уж невероятном.
Время от времени случается так, что кто-то из этих юношей или девушек, лицезревших ребенка, не идет домой, чтобы выплакать свою бессильную ярость, вообще не возвращается под отчий кров. Изредка и иной взрослый впадает в странную задумчивость на день-другой, а затем вдруг покидает родные пенаты. Эти люди тихо бредут себе по улицам города в полном одиночестве. Они идут все прямо и прямо и выходят из ворот Омеласа, за пределы его величественных стен. Затем бредут мимо богатых предместий, вдоль колосящихся нив. И каждый из них уходит в одиночку. Наступает ночь, а они все бредут – мимо деревень, мимо светящихся окон, в бесконечную череду полей. По одному уходят они на запад или на север, куда-то в горы. Они уходят. Они покидают Омелас, идут все дальше и дальше, они уходят во тьму и никогда более не возвращаются. Представить себе цель, к которой они стремятся, вообразить место, куда все они направляются, потруднее, пожалуй, чем город счастья Омелас. Мне такое определенно не по плечу. Возможно, что и вовсе не существует его, такого странного места. Но, похоже, они все-таки знают, куда идти, – эти люди, уходящие из Омеласа.








