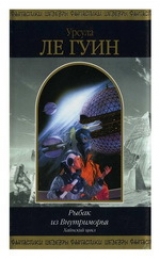
Текст книги "Рыбак из Внутриморья (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 55 страниц)
– Видите ли, – сказал он, – мы хотели всего лишь напомнить самим себе, что прибыли на Анаррес не во имя собственной безопасности, но во имя Свободы. Если мы готовы всего лишь работать вместе, не обращая внимания на то, что вокруг, то мы ничем не лучше какой-нибудь машины. Мы просто ее винтики. Если человек не может работать вместе со своими братьями, его долг – работать в одиночку. Да, его долг, но и его право. Мы же всегда отрицали это право. Мы всегда твердили: ты должен работать со всеми вместе, ты должен принять правило большинства. Но любое нерушимое правило – это уже тирания. Долг индивида заключается в том, чтобы не бояться нарушать правила, быть инициатором собственных действий и поступков и быть ответственным за них перед обществом. Только в этом случае наше общество будет способно изменяться к лучшему, а не просто выживать в заданных условиях. Мы не являемся подданными государства, основанного на непреложном законе; мы члены общества, сформированного благодаря революции. Революция – вот наше обязательство перед самими собой, в ней наша надежда на собственную эволюцию. «Революция – в душе индивида или же нигде. Она – для всех, или же она – ничто. Если воспринимать ее, как нечто, имеющее конец, то у нее никогда по-настоящему не будет и начала». Мы не можем остановиться в данной точке. Мы всегда должны идти вперед. Мы должны рисковать.
Рулаг в наступившей тишине ответила ему негромко, но ледяным тоном:
– Ты не имеешь права навязывать всем тот риск, который хочешь взять на себя по личным мотивам.
– Ни один из тех, кто не намерен пойти так же далеко, как я, не имеет права остановить меня, – спокойно ответил Шевек. На мгновение глаза их встретились, и оба потупили взор.
– Рискует только тот, кто намерен лететь на Уррас, и больше никто, – сказал Бедап. – И одна такая поездка ничего не меняет в Условиях Заселения, не противоречит им и, видимо, никак не скажется на наших отношениях с Уррасом. За исключением, впрочем, некоторых моральных перемен – причем в нашу пользу. Я пока что снимаю этот вопрос с повестки дня, если это устраивает собрание.
Всех это устраивало, и они с Шевеком поспешили уйти.
– Мне еще нужно зайти в Институт, – сказал Шевек, когда они вышли на улицу. – Сабул мне записку прислал – на чем только он их пишет, черт побери! Интересно, что у него на уме?
– А мне интересно, что на уме у этой Рулаг? У нее что, какая-то личная неприязнь к тебе? Завидует, наверно. Мы вас больше не станем сажать друг напротив друга, иначе этим спорам конца не будет. Хотя этот юнец из Северного Поселения – тоже явление малоприятное. Итак, правит большинство и сила всегда права? Ничего себе! Ну так как мы поступим, Шев?
– Возможно, нам и в самом деле следует послать кого-нибудь на Уррас, чтобы доказать свое право поступками, раз словами его не докажешь.
– Возможно. Но пока этот грядущий посланник – не я! Я до хрипоты готов спорить о нашем праве покинуть Анаррес, но если мне придется это сделать самому, то я, черт меня побери, скорее горло себе перережу...
Шевек засмеялся.
– Ладно, мне пора. Домой я вернусь что-нибудь через час. Поешь с нами сегодня? А потом поговорим, хорошо?
– Ладно, я тебя у вас дома подожду.
Шевек широким шагом двинулся по улице, а Бедап еще немного постоял, глядя ему вслед, перед зданием Координационного Совета. Был холодный весенний день, светило солнце, дул сильный ветер. Улицы Аббеная казались очень чистыми, будто вымытыми, полными солнечного света и людей. Бедап ощущал одновременно приятное весеннее возбуждение и странную подавленность. Он решил сразу пойти в общежитие Пекеш, где теперь жили Шевек и Таквер, надеясь, что Таквер с малышкой уже дома.
Появлению на свет Пилюн у Таквер предшествовали два выкидыша, и они с Шевеком уже не ждали ребенка, когда у них родилась вторая дочка. Это был поздний ребенок, слабый и маленький, но родители страшно радовались и очень ее любили. Пилюн и теперь еще, когда ей шел второй год, была просто крошкой, хрупкой, с тоненькими ручками и ножками. Беря ее на руки, Бедап всегда испытывал легкий страх – ему казалось, что он может сломать малышку, если чуть крепче сожмет ладони. Он очень любил Пилюн и приходил в восхищение от ее огромных, с поволокой серых глаз; и девочка была к нему нежно привязана и абсолютно ему доверяла, но, касаясь этого хрупкого тельца, он, как никогда раньше, отчетливо понимал, в чем привлекательность жестокости и почему сильные так любят мучить слабых. И от этого испытывал еще больший страх за Пилюн и нежность: он, казалось, впервые начинал понимать то, что и сам, пожалуй, пока не мог выразить словами: родительские чувства. Он был прямо-таки на верху блаженства, когда Пилюн называла его «тадде».
Комната у Шевека и Таквер была вполне просторная, с двумя кроватями. На полу лежала циновка; никакой другой мебели в комнате не было – ни стульев, ни столов, только небольшой передвижной «манеж» для малышки да ширма, которой загораживали ее кроватку вечером. Таквер, выдвинув из-под одной из кроватей огромный ящик с бумагами, перебирала их – явно что-то искала.
– Ох, Дап, дорогой! – улыбнулась она. – Ты не посидишь немного с Пилюн? – Девочка уже устремилась к нему навстречу, и он уселся с нею на вторую кровать, у окна. – Она мне уже раз десять все перепутать успела! Я минут через десять закончу, хорошо?
– Не торопись. Я с удовольствием просто посижу спокойно. Мы тут с Пилюн поговорим... ах ты, моя хорошая! Ну что скажешь своему тадде Дапу?
Пилюн, уютно устроившаяся у него на коленях, принялась изучать его ладонь и широкие грубоватые пальцы. Бедапу всегда бывало стыдно, что у него такие уродливые ногти. Он, правда, больше не грыз их, оставил эту дурацкую детскую привычку, однако ногти так и остались деформированными. Пилюн разгладила ему ладошку и каждый палец в отдельности.
– Какая все-таки приятная у вас комната, – сказал он. – Окно на север выходит... И здесь всегда так спокойно.
– Да, да... Ш-ш-ш, погоди... Я тут считаю...
Через некоторое время Таквер закончила свои подсчеты, убрала бумаги в ящик и снова засунула его под кровать.
– Ну вот и все! Извини, пожалуйста. Я обещала Шеву, что пронумерую для него страницы рукописи... Пить хочешь?
На многие продукты все еще соблюдались ограничения, хотя уже и не такие строгие, как пять лет назад. Фруктовые сады Северного Поселения не так сильно пострадали от засухи, и в прошлом году сушеные фрукты и фруктовые соки имелись уже в достатке. На подоконнике стояла большая бутылка с соком, и Таквер налила каждому по полной чашке; чашки были довольно грубые – оказалось, их сделала Садик на уроках гончарного мастерства. Таквер села напротив Бедапа и, улыбаясь, посмотрела на него.
– Ну как там дела в Координационном Совете?
– Все то же самое. А как дела у вас в лаборатории?
Таквер опустила глаза в чашку, чуть покачивая ею.
– Не знаю. Я подумываю уйти оттуда, – сказала она, помолчав.
– Но почему, Таквер?
– Лучше уйти самой, чем дожидаться, чтобы тебе сказали... Беда в том, что я люблю эту работу. И она у меня действительно спорится. И в Аббенае есть только одно место, где я могла бы заниматься своим делом. Но если все остальные члены твоей исследовательской группы решили, что ты к данной работе никакого отношения не имеешь...
– На тебя еще больше давят?
– Все и постоянно, – сказала она и быстро глянула в сторону двери, словно боялась, что Шевек уже пришел и случайно ее услышит. – Некоторые ведут себя просто неслыханно! Да что там говорить, ты и сам знаешь...
– В том-то и дело, что я ничего толком не знаю, и очень рад, что застал тебя одну. Мы – Шев, я, Скован, Ге-жач – большую часть времени проводим либо в типографии, либо на радиостанции; у нас нет постоянных мест работы, и мы не так часто общаемся с другими людьми, не считая членов нашего Синдиката. Я, правда, регулярно бываю в Координационном Совете, но это дело особое. Там я главным образом борюсь с оппонентами, которых сам себе создаю. Ну а ты-то здесь при чем? Что они против тебя имеют?
– Они меня ненавидят, – сказала Таквер тихо и глухо. – Это настоящая ненависть, Дап. Руководитель моего проекта вообще не желает со мной разговаривать. Ну ладно, это не такая уж большая потеря – он все-таки сущий чурбан. Но некоторые другие прямо говорят мне... Там есть, например, одна женщина... И здесь, в общежитии тоже... Я член санитарной комиссии нашего блока, и однажды мне пришлось зайти к одной из моих соседок, так она мне буквально слова сказать не дала, орала: «Даже не пытайся ко мне в дом влезть! Знаю я вас, предателей проклятых! Подумаешь, инделлектуалы! Все вы законченные эгоисты!» и так далее... А потом она захлопнула дверь у меня перед носом. Цирк да и только. – Таквер невесело улыбнулась. Пилюн, увидев ее улыбку, тоже заулыбалась, поудобнее прислонилась к плечу Бедапа и зевнула. – Но, понимаешь, меня все это пугает. Я вообще трусиха, Дап, если честно. Я не терплю никакого насилия. Мне даже неодобрительное отношение выдержать трудно!
– Еще бы! Единственная гарантия нашей безопасности – это одобрение наших драгоценных соседей. При наличии государственной власти можно нарушить закон и надеяться все же избежать наказания, но у нас очень трудно, невозможно нарушить привычку, традицию, она обрамляет всю нашу жизнь, держит ее в жестких рамках не хуже закона... Мы еще только начинаем чувствовать, что это такое – пребывать в состоянии перманентной революции. Как раз об этом говорил сегодня на собрании Шев. На самом деле это вовсе не так уж приятно и удобно для нормального человека.
– Некоторые это все же понимают! – сказала Таквер с уверенностью и неожиданным оптимизмом. – Знаешь, какая-то женщина в трамвае вчера – не помню, где я ее встречала раньше? Может, во время дежурства по дому?.. Так вот, она мне вдруг и говорит: «Должно быть, замечательно жить вместе с великим ученым! Это ведь так интересно!» И я ответила: «Да уж, не соскучишься; по крайней мере всегда найдется, о чем поговорить...» Пилюн, не засыпай, детка! Шевек скоро придет, и мы все вместе пойдем в столовую. Потормоши ее, Дап. Ладно, по крайней мере, как видишь, эта женщина, хоть и знает прекрасно, кто такой Шев, не испытывает к нему ни ненависти, ни неодобрения. И вообще она очень милая...
– Ну хорошо, но разве большинство понимают, что Шевек – гениальный ученый? – сказал Бедап. – Забавно, ведь и я тоже не могу понять его книг! Сам он считает, что на Анарресе несколько сотен людей все же способны в них разобраться. Например, эти студенты-этузиасты, которые все пытаются организовать курс лекций по теории Одновременности. Но, по-моему, он преувеличивает: понимают его теорию максимум несколько десятков человек – и это еще очень неплохо! Но ты права: люди о нем знают, они чувствуют, что этим человеком стоит гордиться. Мне кажется, это заслуга нашего Синдиката. Хотя бы отчасти. Мы напечатали труды Шевека. Возможно, это единственная стоящая вещь, которую мы сделали, но, по моим оценкам, и это уже очень неплохо.
– Конечно! Что-то ты тоже невеселый, Дап. День был тяжелый? Заседание Совета плохо прошло?
– Плохо. Очень плохо! Мне бы очень хотелось хоть немного развеселить тебя, Таквер, да что-то не получается. Синдикат стремится взорвать то основное чувство, которое связывает все наше общество: страх перед чужими, перед «внешним врагом». Сегодня, например, один юнец открыто угрожал нам насильственными мерами, чуть ли не казнями и арестами. Что ж, мысли-то у него убогие, но ведь найдутся и другие, которые его идеи подхватят... И еще эта Рулаг, черт бы ее побрал! Впрочем, она потрясающий оппонент!
– А ты знаешь, кто она такая, Дап?
– А что?
– Неужели Шев никогда тебе не говорил? Хотя он о ней старается не вспоминать... Рулаг – мать Шевека.
– Мать?
Таквер кивнула:
– Она уехала в Аббенай, когда ему еще двух не было. Бросила, по сути дела. С ним остался отец. Ничего необычного, конечно... Вот только Шев... Понимаешь, у него на всю жизнь осталось такое ощущение, будто он потерял что-то самое важное. И по-моему, его отец тоже очень страдал. Шев, конечно, никаких глобальных выводов из этого не делает – ну там, что своих детей всегда следует воспитывать самим и тому подобное, – но то, что для него верность – самое важное качество, это несомненно. И по-моему, коренится все в его прошлом.
– Но вот ведь что странно! – воскликнул Бедап, совершенно забыв о крепко спящей у него на коленях Пилюн. – Что она-то от Шева хочет? Почему она так злобно ведет себя по отношению к нему? Она ведь явно ждала сегодня, что он придет на это собрание, прекрасно зная, какие важные для него будут обсуждаться вопросы, и прекрасно понимая, что он душа нашей группы. Да и весь наш Синдикат она ненавидит из-за него. Почему? Неужели это чувство вины, вывернутое наизнанку? Неужели одонийское общество настолько прогнило, что даже вроде бы «разумные» поступки мотивируются подобными чувствами – смесью вины и ненависти?.. А знаешь, Таквер, теперь, когда ты мне об этом сказала, я думаю: они ведь действительно похожи! Только в Рулаг все как бы затвердело, стало каменным... умерло...
Он не успел договорить: дверь открылась, и вошли Шевек и Садик. Садик исполнилось десять, она была довольно высокая для своего возраста и очень худая – одни ноги. И целое облако густых темных волос на голове. Бедап видел теперь Шевека в новом свете – его неожиданно близкого родства с Рулаг – и точно открывал своего старого друга заново. Он только сейчас обратил внимание, какое измученное у Шевека лицо, прекрасное, полное жизни, но совершенно измученное, даже истощенное. И очень, очень необычное; они с Рулаг были, безусловно, очень похожи, но все же в его чертах было сходство и со многими другими анаррести – особенно с теми, кто, обладая высочайшим интеллектом и очень определенными взглядами на проблему свободы, сумел все же приспособиться к изоляции в их обделенном природой мире, мире больших расстояний между редкими поселениями людей, мире молчания и умалчивания, мире братства и разобщенности.
В комнате с приходом Шевека и Садик воцарилась между тем живая, радостная атмосфера: этим людям приятно было быть вместе. Пилюн передавали с рук на руки, еще довольно сонную, наливали друг другу сок из большой бутылки, задавали массу вопросов и охотно отвечали... Сперва в центре внимания оказалась Садик, потому что в кругу семьи она теперь бывала относительно редко. Потом разговор переключился на Шевека.
– Чего понадобилось этой старой Грязной Бороде?
– Так ты в Институте был? У Сабула? – удивилась Таквер и внимательно посмотрела на Шевека. Он сел с ней рядом и сообщил:
– Да, Сабул оставил мне сегодня записку. В Синдикахе. – Шевек залпом допил сок, и вокруг губ у него остался смешной полукруг, как у маленького ребенка. – Он сказал, что в Федерации Физиков имеется свободное место. Это работа постоянная и совершенно, как он утверждает, автономная.
– И он предлагает ее тебе? В Институте?
Шевек кивнул.
– Это он пытается внести тебя в общий список, – сказал Бедап.
– Да, я тоже так думаю. Если не можешь искоренить сорняк, сделай его себе полезным – так мы обычно говорили в Северном Поселении. – Шевек вдруг громко расхохотался. – Но ведь смешно, правда? – спросил он.
– Нет, – сказала Таквер. – Совсем не смешно. Просто отвратительно! Как ты вообще мог с ним разговаривать? После всей той грязи, которую он на тебя вылил! После всех тех гнусных и лживых утверждений, что ты якобы украл у него «Принципы» и даже не сообщил, что уррасти дали тебе премию Сео Оен! Ты что, забыл, как в прошлом году он заставил этих ребятишек, которые так хотели заниматься с тобой, прекратить посещать твои лекции, потому что ты якобы оказываешь на них тлетворное «крип-то-авторитарное» (это же надо выдумать такое!) влияние! Это ты-то сторонник авторитаризма! Нет, это не смешно, его действия просто тошнотворны. Такое нельзя прощать, Шев. Нельзя по-человечески общаться с таким мерзавцем.
– Ну ты же знаешь, виноватт не один Сабул. Он только служил рупором...
– Я понимаю, но эта роль ему нравится. И он слишком давно опустился, стал таким противным, грязным, жадным... Ладно. Ну и что же ты ему в итоге ответил?
– Я старался выиграть время. – Шевек снова засмеялся. Таквер снова глянула на него, уже обеспокоенно: она поняла, что, несмотря на умение держать себя в руках и всю эту веселость, Шевек напряжен до крайности.
– Значит, ты не стал сразу класть его на лопатки?
– Я сказал, что несколько лет назад решил больше не принимать никаких постоянных назначений – пока не завершу работу над Теорией. Ну а он ответил, что мне будет предоставлена полная свобода заниматься тем, чем я хочу, и продолжать свои исследования, потому что основной целью назначения меня на этот пост было – погодите, как же это он выразился? – «желание Совета облегчить мне доступ к лабораторному оборудованию и регулярным каналам информации, а также – облегчить мне возможность публикации своих идей».
– Вот как? Но в таком случае ты можешь считать, что одержал победу, – сказала Таквер, глядя на него с каким-то странным выражением. – Ты их переупрямил. Теперь они будут публиковать все, что ты напишешь. Ведь именно этого ты добивался, когда мы вернулись сюда пять лет назад, верно? Что ж, теперь все стены рухнули.
– Но за ними выросли другие стены, – заметил Бедап.
– Такую победу я одержу только в том случае, если приму это назначение. Сабул предлагает... УЗАКОНИТЬ меня. Сделать официальным лицом. И тем самым отделить меня от Синдиката Инициативных Людей. Правильно, Дап?
– Естественно! – Бедап помрачнел. – Разделяй и властвуй, как говорится.
– Но если Шевека снова возьмут в Институт и станут публиковать все его работы в издательстве Координационного Совета... Не означает ли это косвенного признания всего Синдиката в целом? – спросила Таквер.
– Да, так, возможно, подумает большинство, – кивнул Шевек.
– Не подумает, – возразил Бедап. – Людям объяснят примерно так: великий физик был введен в заблуждение группой отщепенцев – но, к счастью, ненадолго. Этих вы-соколобых интеллектуалов, скажут им, вообще легко запутать: они ведь ничего не смыслят в реальной жизни, они думают только о высоких материях, вроде времени и пространства. Но их добрые братья – истинные одонийцы! – мягко указали гениальному физику на его ошибки, и он вернулся на твердую тропу «социально-органической» истины. Вот так. Синдикат Инициативных Людей будет подвергнут полному остракизму со стороны общества и, возможно, лишен связи не только с ученым миром Урраса, но и своей родной планеты.
– Но я вовсе не намерен выходить из Синдиката, Дап!
Бедап поднял голову, удивленно посмотрел на него, помолчал с минуту и сказал:
– Еще бы. Это-то я знаю!
– Вот и ладно. Тогда давайте пообедаем, а? У меня в животе уже урчит от голода. Вот послушай-ка, Пилюн, слышишь? Р-р-р, р-р-р!
– Тать (встать)! – велела всем Пилюн. Шевек подхватил ее и забросил на плечо. Над их головами покачивался и посверкивал последний из созданных Таквер мобилей. Он был довольно большой и так хитро сделанный, что под определенным углом все образующие его проволочные кольца как бы исчезали, потом превращались в овалы, на мгновение, чуть блеснув, показывались целиком и снова исчезали, и вместе с ними то показывались, то исчезали две малюсенькие лампочки, прикрепленные к проволочным кольцам, которые, двигаясь по сложным, взаимно переплетенным эллипсоидным орбитам вокруг общего центра, никогда по-настоящему не встречались и никогда по-настоящему не расставались. Таквер назвала свое творение «Обитель Времени».
В столовой пришлось подождать, пока на табло у дверей не появится сигнал, что свободен большой стол и что Бедап может поесть вместе с ними как гость (разумеется, компьютер автоматически «вычеркивал» его на сегодня из списков той столовой, где он обычно ел). Это была одна из систем автоматического регулирования «гомеостатичес-ких процессов», на которые столь большие надежды возлагали Первые Поселенцы. Такая система учета сохранилась только в Аббенае, и, подобно всем прочим, даже менее сложным «гомеостатическим» системам, она никогда на самом деле своих функций как следует не выполняла: вечно возникали недостачи или излишки, а порой и разочарования, но все это были беды не слишком серьезные. В столовой Пекеш редко бывало, чтобы кто-нибудь из приглашенных не получил обеда; кухня этого общежития была лучшей в Аббенае и славилась своими замечательными поварами. Наконец один из больших столов освободился, и они вошли. Поскольку за столом было еще место, к ним присоединились двое молодых людей, соседи Шевека и Таквер, которых Бедап тоже немного знал. Их, конечно, могли бы оставить и только в своей компании – если бы они выразили такое желание, – но им, похоже, было все равно. Они отлично пообедали и очень мило провели время за дружеской беседой. Во всяком случае, со стороны это выглядело именно так, однако Бедап постоянно ощущал, как вокруг семьи его друга смыкаются прочные стены непонимания и молчания.
– Просто не знаю, что отвечать этим уррасти в следующий раз! – сказал Бедап непринужденно, однако невольно– к собственному раздражению! – все же понизив голос. – Они просили пустить их сюда, но сюда их не пустят. Кроме того, они просили Шева прилететь к ним, и этот вопрос тоже остался открытым. Интересно, как они отреагируют на все это?
– А я и не знала, что они просили Шева прибыть к ним в гости, – сказала Таквер, чуть нахмурившись.
– Нет, знала! – возразил Шевек. – Когда они сообщили мне, что я получил эту премию – ну, Сео Оен, помнишь? – то сразу спросили, когда я смогу прилететь и получить деньги, которые полагаются лауреату. – Шевек улыбнулся. Если вокруг него и существовал «заговор молчания», то его это совершенно не касалось и не особенно беспокоило: он всегда был один.
– Да, верно. Я просто забыла. Вернее, не воспринимала как реальную возможность. Ты давно уже говоришь, что хотел бы предложить Координационному Совету послать кого-нибудь на Уррас. Просто чтобы посмотреть, что из этого предложения получится.
– Вот именно. И мы наконец сегодня это проделали! Дап неожиданно предоставил мне слово, и пришлось высказать эту идею вслух.
– И они были шокированы?
– Не то слово!
Таквер засмеялась. Пилюн сидела рядом с Шевеком на высоком стульчике и пробовала свои новые, только что выросшие зубки на корке хлеба, напевая что-то вроде: «О мамочка, папочка, тапочка, тап!» Шевек, большой любитель сам сочинять подобные стишки, тут же ответил ей примерно в том же духе, одновременно продолжая серьезный разговор со взрослыми – не очень, правда, оживленный, с долгими паузами. Бедап относился к этому спокойно – он давно привык, что Шевека нужно воспринимать таким, какой он есть, или не воспринимать вовсе. Самой молчаливой в их компании сегодня была Садик.
Бедап посидел с ними еще около часа в уютной, просторной общей гостиной, потом встал и предложил Садик проводить ее до интерната, поскольку ему это было попути. И тут вышла заминка, причем смысл ее уловили только родители Садик, а Бедап понял одно: вместе с ними пойдет и Шевек, а Таквер не пойдет, потому что ей пора кормить и укладывать спать Пилюн, которая уже начинала похныкивать. Таквер поцеловала Бедапа на прощание, и они ушли. Провожая Садик, мужчины настолько увлеклись разговором, что прошли мимо учебного центра и повернули обратно. Перед входом в спальный корпус Садик остановилась. Она стояла неподвижно, совершенно прямая, тоненькая, с каким-то застывшим лицом. И молчала. Шевек сперва тоже как бы застыл, потом встревожился:
– В чем дело, Садик?
– Шевек, можно я останусь сегодня ночевать дома? – спросила она.
– Конечно. Но что случилось?
Тонкое продолговатое лицо Садик задрожало так, что, казалось, вот-вот рассыплется на куски.
– Они меня не любят! Они не хотят, чтобы я спала в их спальне! – Голосок ее звенел от сдерживаемого напряжения, хотя говорила она очень тихо.
– Не любят тебя? Но почему ты так решила? В чем дело, Садик?
Они даже не коснулись друг друга. Девочка отвечала отцу с мужеством крайнего отчаяния.
– Потому что они не любят... ненавидят ваш Синдикат, и Бедапа, и... и тебя! Они называют... Старшая сестра в нашей спальне... она сказала, что ты... что все мы пре... Она сказала, что мы ПРЕДАТЕЛИ! – И, выговорив это слово, Садик вздрогнула так, словно в нее выстрелили. Шевек тут же схватил ее, прижал к себе, и она прильнула к нему, обхватив его за шею и рыдая взахлеб. Она была уже слишком большой девочкой, чтобы ее можно было взять на руки, и они просто стояли, обнявшись, и Шевек гладил дочку по голове, потом посмотрел на Бедапа глазами, полными слез, и сказал:
– Ничего, Дап. Ты иди, иди...
Бедапу ничего другого не оставалось, он не мог разделить с ними это горе, эти глубинные и чрезвычайно сложные отношения родственной близости. Он чувствовал себя совершенно бесполезным и совершенно лишним, хотя от всей души сочувствовал обоим. «Я прожил тридцать девять лет, – думал он, направляясь к своему общежитию, где в комнате их было пятеро, чужих друг другу и совершенно не зависящих друг от друга людей. – Через месяц мне стукнет сорок. А что я сделал за свою жизнь? Чем занимался столько времени? Ничем в общем-то особенным. Часто совался не в свое дело. Вмешивался в чужую жизнь – потому что своей собственной у меня нет... И почему-то у меня никогда не хватало времени... Хотя его запас вот-вот истощится – во всяком случае, то время, которое было выделено на меня. Скорее всего это случится внезапно, и я так никогда и не обрету... ничего подобного ЭТОМУ». Он оглянулся, надеясь снова увидеть их, отца и дочь. Но перед ним расстилалась только пустынная тихая улица, где у фонарей стояли неяркие лужицы света. Он либо отошел уже слишком далеко, либо они сами успели уйти. А что именно он имел в виду под ЭТИМ, он и сам не смог бы, наверное, сказать. Но понимал, что вся его надежда заключена в ЭТОМ, что если он хочет спасти, как следует прожить остаток своей жизни, то должен полностью переменить ее.
Когда Садик достаточно успокоилась, Шевек усадил ее на ступеньку крыльца, а сам пошел сообщить дежурной сестре, что девочка останется ночевать с родителями. Та разговаривала с ним холодно. Взрослые, работавшие в детских интернатах, обычно не одобряли, когда дети оставались с родителями целые сутки, считая, что это развращает. И Шевек уверял себя, что недружелюбный тон дежурной вызван именно этим, а не чем-то другим. Окна учебного центра ярко светились, в ушах звенело от детских голосов, кто-то разучивал музыкальную пьесу... Все это было хорошо и давно ему знакомо – звуки, запахи, тени. Эхо его детства. Его Шевек хорошо помнил. Хорошо помнил он также и свои тогдашние страхи и сомнения. Хотя детские страхи обычно быстро забываются...
Потом они с Садик пошли домой, и он все время обнимал девочку за плечи. Она долго молчала, все еще борясь со слезами, потом, почти у входа в общежитие, сказала резко:
– Я понимаю, что буду мешать вам с Таквер. Я знаю, я уже большая, чтобы ночевать с вами в одной комнате.
– И давно ты так решила? – растерялся Шевек.
– Да. Взрослым нужно бывать наедине.
– Но Пилюн же ночует с нами, – возразил он.
– Пилюн не считается!
– Ну и ты пока что не считаешься!
Она презрительно, но с облегчением фыркнула и даже попыталась улыбнуться.
Когда они вошли в ярко освещенную комнату и Таквер увидела бледное, покрытое красными пятнами лицо дочери, она страшно встревожилась.
– Что еще случилось?!
И Пилюн, которую оторвали от груди и которая уже начинала засыпать, тут же заныла, и Садик, разумеется, тут же снова разревелась, вторя сестренке, и некоторое время казалось, что в комнате плачут все и все друг друга утешают и одновременно не хотят, чтобы их утешали. Потом вдруг все как-то разом смолкли. Пилюн сидела у матери на коленях, Садик – у отца.
Потом младшую из сестер переодели и уложили спать, и Таквер спросила у старшей тихо, но взволнованно:
– Ну? Так что же все-таки произошло?
Садик и сама уже почти заснула на груди у Шевека, но он почувствовал, как при этом вопросе она вздрогнула и вся сжалась, готовясь отвечать. Он погладил девочку по голове и ответил вместо нее:
– Кое-кому в учебном центре мы очень не нравимся.
– Но, черт возьми, какое они имеют право проявлять это открыто? Да еще при детях!
– Ш-ш-ш. Из-за Синдиката.
– О черт! – сказала Таквер с каким-то странным горловым смешком и принялась застегивать кофту, но нечаянно оторвала пуговицу – прямо «с мясом» – и долго удивленно на нее смотрела. Потом подняла глаза на Шевека и прижавшуюся к нему Садик.
– И давно это продолжается?
– Давно, – буркнула Садик.
– Несколько дней? Декад? Всю четверть?
– Ой, куда дольше, мам! Но теперь они стали... Они просто ужасно ведут себя! В спальне, ночью. А Терзол их даже не останавливает. – Садик говорила, словно во сне – каким-то ровным, безжизненным тоном.
– И что же они делают? – с легкой угрозой спросила Таквер, хотя Шевек упорно пытался остановить ее взглядом.
– Ну они... Они все просто противные! Они не принимают меня играть. Ни во что. Помнишь Тип? Она ведь была моей лучшей подругой, мы с ней всегда подолгу разговаривали, когда в спальнях гасили свет... Так вот теперь Тип ко мне даже подходить перестала. А старшей сестрой у нас в'спальне стала Терзол, и она... она говорит, что Шевек... Шевек...
Он все-таки вмешался, чувствуя, что Садик снова вот-вот сломается, такое напряжение и без того оказалось ей не по силам.
– Эта Терзол, – спокойно сказал он, – заявляет, что Шевек – предатель, а Садик – эгоистка... Ну ты же знаешь, что она может говорить, Таквер! – Глаза его сверкнули. Таквер ласково погладила дочь по щеке, коротко и довольно застенчиво, и сказала тихонько:
– Да, это я знаю. – И отошла, и села на другую кровать, и стала молча глядеть на них.
Малышка крепко спала за ширмой в своей кроватке и даже чуть похрапывала. Соседи возвращались к себе, кто-то крикнул, прощаясь: «Спокойной ночи!», и кто-то крикнул то же в ответ из открытого окна общежития. Огромное здание – две сотни комнат – было полно жизни и движения; будучи отделенными от этого мирка, они все равно оставались его частью. Садик сползла с отцовских колен и села на кровать рядом с ним и как можно ближе. Ее темные волосы растрепались и свисали длинными прядями вдоль лица.
– Я не хотела говорить вам, потому что... – Ее голосок казался очень тоненьким и совсем детским. – Но только становится все хуже. Они друг друга подначивают.
– В таком случае ты туда не вернешься, – сказал Шевек и обнял дочь за плечи, но она стряхнула его руку и гордо выпрямилась.








