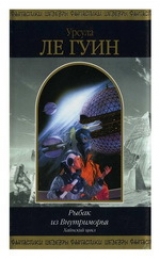
Текст книги "Рыбак из Внутриморья (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 55 страниц)
Тот поезд, на котором ехал Шевек, продвигался вдоль побережья крайне медленно – с долгими остановками и короткими пробегами, – поскольку все поезда, доставлявшие продукты питания, имели преимущества в графике движения. Потом их поезд вообще застрял на двадцать часов: от переутомления или просто по незнанию новоиспеченный диспетчер совершил ошибку, и на линии произошла авария.
В том маленьком городке, где поезд простоял почти сутки, не имелось никаких запасов ни в столовых, ни на складах, тем более для такого количества пассажиров. Это была даже не сельскохозяйственная коммуна, а заводской поселок, где изготавливались строительные плиты из бетона и «пенного камня». Поселок построили здесь из-за удачного сочетания богатых залежей известняка и вполне судоходной реки. Помимо завода, здесь было огромное автохозяйство, однако жители целиком зависели от поставок провизии из других районов. Если бы четыреста пятьдесят пассажиров застрявшего поезда хотя бы позавтракали сто шестьдесят местных жителей остались бы голодными на весь день. В идеале, разумеется, жители Анарреса всегда должны были делиться друг с другом – все поесть понемножку или, точнее, остаться практически голодными. Если бы на поезде было пятьдесят или хотя бы сто человек, коммуна, возможно, так и поступила бы, выделив пассажирам хотя бы немного хлеба. Но четыреста пятьдесят?.. И еще неизвестно, когда придет следующий поезд с продуктами?.. И сколько зерна он доставит?.. Они не дали пассажирам поезда ничего.
Путешественники, ничего не получившие в тот, самый первый день проголодали в итоге шестьдесят часов. Поезд продолжал стоять, пока не расчистили пути, а потом им пришлось проехать еще миль сто пятьдесят до той станции, где в столовой имелся некоторый запас провизии для пассажиров.
Шевек впервые испытал настоящий голод. Иногда он сознательно голодал целыми днями – когда особенно увлеченно работал и не желал прерывать работу для похода в столовую. Однако он ЗНАЛ, что всегда может поесть два раза в день; это было столь же незыблемым правилом, как восход и заход солнца. Он никогда даже не задумывался, как это бывает, когда есть не дают совсем. Никто в обществе одонийцев никогда не оставался голодным.
Час за часом голод становился все сильнее, а поезд по-прежнему стоял между щербатым пыльным перроном запасного пути и наглухо закрытыми воротами фабрики. Шевек мрачно размышлял о реальности голода на планете и о том, что их замечательное общество все же, видимо, неадекватно в том смысле, что вполне может утратить свою хваленую солидарность, если столкнется с такой серьезной трудностью, как всеобщий голод. Было легко делиться тем, чего достаточно, пусть даже не совсем достаточно, но все же хватает, чтобы как-то продержаться. А когда хватать перестанет? Тогда вступит в действие сила, уверенность в том, что ты, возможно, прав, раз ты сильнее других, и воцарится непременная составляющая власти – насилие, и расцветет самый верный союзник власти – умение отводить глаза при виде чужого горя...
Презрение пассажиров к жителям городка становилось все сильнее, однако даже их нескрываемое возмущение казалось менее угрожающим, чем поведение самих горожан: было страшно видеть, как они прячутся за «своими» закрытыми окнами и запертыми дверьми со «своей» жалкой собственностью и стараются не обращать внимания на поезд, даже не смотрят в его сторону. Не один Шевек был настроен столь мрачно, бесконечные разговоры о разложении общества то вспыхивали, то снова затихали; люди то стояли у вагонов, то снова забирались внутрь, спорили и соглашались друг с другом – и все на одну и ту же тему, к которой были обращены и его мысли. Кое-кто вполне серьезно, хотя и с горечью, предлагал совершить налет на местную автобазу, и возможность такого налета горячо обсуждалась, и, вполне возможно, налет был бы совершен, если бы в конце концов не дали сигнал и поезд снова не тронулся в путь.
Но когда наконец поезд подполз к той станции, где их накормили – по полбуханки хлеба из семян холума и по миске супа, – мрачное настроение сменилось приподнятым. Когда ты добираешься до дна тарелки, сознавая, что суп был несколько жидковат, но все же вкус самой первой его ложки был поистине изумителен, то кажется, что именно ради этого мгновения и стоило поголодать. С этим были согласны все. В поезд пассажиры возвращались, смеясь и шутя, дружными компаниями. Теперь они видели друг друга насквозь.
На следующей узловой станции те, кто ехал в Аббенай, пересели на товарняк и последние пятьсот миль проехали на нем. Они прибыли в город поздней ночью; стояла ранняя осень, дул холодный ветер, улицы были пусты. Ветер мчался по этим улицам, как бешеный горный поток, только странно иссушающий. За неярким светом уличных фонарей угадывался свет звезд в пыльной пелене, висевшей над городом. Мощный суховей и любовь несли Шевека по темным пустынным улицам, точно осенний листок, три мили до северного квартала он буквально пробежал бегом. Одним прыжком он преодолел три ступеньки крыльца, влетел в коридор, бросился к знакомой двери, открыл... В комнате было темно. За окнами светились яркие звезды.
– Таквер! – окликнул он и услышал в ответ тишину.
Еще до того, как он повернулся и включил свет, эта темнота и тишина сказали ему, что такое настоящая разлука.
Все в комнате было по-прежнему. Собственно, меняться было особенно и нечему. Не было только Садик и Таквер. «Незаселенные миры» по-прежнему мягко вращались под потолком, чуть поблескивая на сквозняке, – дверь так и осталась распахнутой.
На столе лежало письмо. Два письма. Письмо от Таквер было коротким: она получила срочное назначение на северо-восток, в Лабораторию Экспериментальных Разработок по выведению съедобных водорослей. На неопределенный срок. Она писала: «Я не могу, честно говоря, сейчас отказаться и не поехать. Я ходила в ЦРТ, прочитала их план работ по улучшению экологии, который они отослали в КСПР. Это правда, я им очень нужна, ведь я работала именно над этим циклом: водоросли– ресничные черви – креветки – кукури. Я попросила в Центре, чтобы тебе подыскали назначение в Ролни, но они, разумеется, и пальцем не пошевелят, пока ты сам их не попросишь. Впрочем, если это будет невозможно из-за работы в Институте, ты и не попросишь. В конце концов, если все слишком затянется, я скажу, чтобы в Ролни подыскивали другого генетика. И вернусь! Садик растет очень хорошо и уже говорит «вет» вместо «свет». Не грусти, разлука не будет долгой. Все. Тв. на всю жизнь. Таквер.
Пожалуйста, приезжай, если сможешь!»
Вторая записка состояла всего из нескольких слов, нацарапанных на крошечном клочке бумаги:
«Шевек, зайди в адм. отд. физ. ф-та, когда вернешься. Сабул».
Шевек послонялся по комнате. Тот сильный ветер, что с невероятной силой гнал его по улицам города к дому, все еще бушевал в его душе. Он просто в очередной раз налетел на стену и пока не мог идти дальше. Но все же нужно было как-то двигаться. Он заглянул в шкаф. Там было почти пусто – только его зимняя куртка и рубашка, которую Таквер, любившая тонкую работу, когда-то вышила специально для него. Ее собственные немногочисленные вещи исчезли. Ширма была сложена, в углу виднелась пустая детская кроватка. Постель была скатана и аккуратно прикрыта оранжевым вязаным одеялом. Шевек снова подошел к столу, еще раз перечитал письмо Таквер. Глаза его наполнились злыми слезами. Ярость, гнев, разочарование, дурные предчувствия терзали его.
И некого было винить – вот что было хуже всего! Таквер была нужна как специалист, чтобы победить надвигающийся голод. Ее и его голод, голод маленькой Садик. Общество не было их врагом. Они сами принадлежали этому обществу, были его частью, оно было за них.
Но он сам добровольно отказался от своей книги, от своей любви, от своего ребенка. Предал их. От чего еще можно просить человека отказаться?
– Черт бы все это побрал! – громко выругался он на йотик. На языке правик даже выругаться как следует было невозможно. Трудно ругаться, когда секс не воспринимается как нечто постыдное, грязное, когда богохульства не существует вовсе. – Все, все к черту! – Он сердито скомкал жалкую записку Сабула, точно это она была во всем виновата, и несколько раз сильно ударил сжатыми кулаками по краю столешницы – ему нужно было почувствовать боль. Но он ее не почувствовал. Нет, сделать ничего нельзя, и некуда деться. В конце концов пришлось развернуть постель и лечь – в одиночестве, и он даже заснул, усталый и безутешный, и снились ему плохие сны.
С утра первой в дверь к нему постучалась Бунаб. Он открыл ей, но в комнату не впускал – стоял на пороге. Бунаб была их соседкой; на вид ей было лет пятьдесят, она работала на заводе воздухоплавательных аппаратов. Таквер всегда страшно забавлялась, беседуя с нею, но Шевек эту тетку терпеть не мог. Во-первых, ее основной мечтой и целью было заполучить их комнату. Она утверждала, что подала на нее заявку задолго до того, как Шевек и Таквер туда переехали, однако комендант нарочно, из нелюбви к ней, комнату эту ей занять помешал. Особенно она завидовала угловому окну – в ее собственной комнате такого не было, хотя она тоже проживала – совершенно одна – в комнате для двоих, что, если иметь в виду постоянную нехватку жилья, было безусловным проявлением эгоизма. Но Шевек никогда не стал бы тратить время не только на эту проблему, но и вообще на Бунаб, если бы она без конца не приставала к нему сама. Она вечно что-то объясняла, втолковывала... У нее, например, якобы был партнер, «на всю жизнь», «в точности как вы» – далее следовала жеманная улыбка. Вот только где он, этот партнер? Почему-то о нем всегда говорилось в прошедшем времени. Между тем комната на двоих вполне оправдывала свое предназначение: через нее проследовала целая череда мужчин – каждую ночь разные, – словно Бунаб была развеселой девицей лет семнадцати. Таквер с восторгом наблюдала за сменой ее кавалеров, а Бунаб приходила к ней и рассказывала ей «все об этих мужчинах» и жаловалась, жаловалась без конца. В число ее многочисленных несчастий входило и то, что она лишена углового окна. Бунаб была не только чрезвычайно завистлива, но по-настоящему хитра и коварна, она умела найти дурное в чем угодно и сразу «начать с этим бороться». Своих коллег она обвиняла во всех смертных грехах: в некомпетентности, в непотизме и даже в нежелании трудиться, чуть ли не в саботаже. Собрания синдиката, с ее точки зрения, являли собой настоящий бардак, причем объектом всеобщей ненависти почему-то всегда была именно она, Бунаб. Все одонийское общество существовало исключительно для того, чтобы подвергать ее разнообразным преследованиям. Таквер в ответ на эти рассказы только смеялась, причем совершенно не скрываясь. «Ох, Бунаб, какая ты смешная!» – задыхаясь от смеха, говорила она, и та, немолодая, уже седеющая женщина с тонкими поджатыми губами и вечно потупленными, но очень зоркими глазками, тоже начинала слабо улыбаться, ничуть на Таквер не обиженная, и продолжала сыпать свои чудовищные обвинения против всего света. Шевек понимал, что Таквер права, что над Бунаб можно только смеяться, но преодолеть своего отвращения не мог.
– Это ужасно! – заявила Бунаб, не обращая на него ни малейшего внимания и решительно протискиваясь в комнату, где сразу же ринулась прямо к столу и впилась глазами в письмо Таквер. Она даже схватила его в руки, но Шевек спокойно и решительно его у нее отнял. К такому спокойному отпору Бунаб готова не была. – Просто ужасно! И хоть бы за несколько дней предупредили – так нет! Поехали, говорят, прямо сейчас! А у нас-то вечно твердят: мы свободные люди! Да это просто злая шутка! Взяли и разбили счастливую семью, разделили любящих людей!
Они ведь именно поэтому так и поступили, неужели ты не понял? Они все там против истинного партнерства, по всему видно. Нарочно партнерам такие назначения дают, чтобы их разделить. Так и с нами было – со мной и с Ла-бексом. В точности так. И мы потом никогда уже не жили вместе. Да разве ж можно с ЦРТ бороться? Ведь там все списки специально так составлены, чтобы против людей! А вот и кроватка Садик – пустая теперь... Бедная малышка! Она в последние четыре декады плакала день и ночь. Я просто уснуть не могла. Конечно, все из-за того, что продовольствия не хватает, и у Таквер молоко пропадать стало. Так они еще и послали кормящую мать на край света, за тысячу миль от дома! Вряд ли тебе удастся туда назначение получить... Куда она хоть уехала-то?
– На северо-восток. Знаешь, Бунаб, я вообще-то завтракать собирался, со вчерашнего дня не ел.
– Но разве это справедливо – то, как они поступили в твое отсутствие?
– А как они поступили в мое отсутствие?
– Нарочно отослали ее, разрушили ваш союз, вот как! Теперь Бунаб читала уже записку Сабула, заботливо ее расправив и разгладив. – Уж они-то знают, когда пора вмешаться! Ну я полагаю, теперь ты из этой комнаты съедешь, верно? Да и вряд ли тебе позволят одному занимать такую большую комнату. Таквер, правда, говорила, что скоро вернется, но я-то видела, что она просто бодрится. Свобода! Мы ведь вроде бы все тут свободные люди, а это с нами просто шутят. Ничего себе шутки! Швыряют куда хотят...
– Черт возьми, Бунаб! Если б Таквер не захотела ехать, она бы отказалась! Ты же знаешь, что планете угрожает страшный голод!
– Да ладно тебе, думай что хочешь. Мне-то давно казалось, что Таквер собирается куда-нибудь переехать... Такое часто случается, стоит появиться ребенку. Я ведь говорила: надо было девочку в ясли отдать. К тому же малышка без конца плакала. Дети всегда разъединяют партнеров, руки им связывают. Естественно, что Таквер это надоело, вот она и стала другое место подыскивать, а как только что-то ей подвернулось, сразу и уехала.
– Все, хватит! Я иду завтракать. – Шевек выбежал из дома, дрожа от бешенства. Бунаб расковыряла самые болезненные старые раны в его душе. Ужаснее всего в этой женщине было то, что она вечно высказывала вслух его собственные затаенные страхи и опасения. Как и только что. А теперь она осталась у них в комнате и, возможно, решает, когда бы ей туда перебраться...
Было уже позднее утро, и он чуть не опоздал: столовую уже собирались закрывать до обеда. Изголодавшись за время путешествия, он взял двойную порцию каши и хлеба. Парнишка за раздаточным столом посмотрел на него и нахмурился. В эти дни никто не брал двойную порцию. Шевек посмотрел на него тоже хмуро, но ничего объяснять не стал. Он восемьдесят часов прожил на двух тарелках жидкого супа и килограмме хлеба и теперь имел полное право хоть немного возместить то, что ему недодали. Но оправдываться, черт возьми, он ни перед кем не станет! Жизнь несет в себе самооправдание, человек имеет право удовлетворить свои насущные потребности. Шевек был истинным одонийцем, и пусть ложное чувство вины испытывают всякие спекулянты и собственники.
Он сел за отдельный столик, однако тут же откуда ни возьмись появился Дезар. Он, улыбаясь, глядел – то ли на Шевека, то ли куда-то еще – своими косыми глазами.
– Давно не видно тебя, – заметил Дезар.
– Срочные сельскохозяйбтвенные работы. Шесть декад. А тут как дела?
– Тухло.
– Будет еще тухлее, – пообещал Шевек, без особой, впрочем, убежденности, потому что наконец ел, насыщался, и каша казалась ему удивительно вкусной. Отчаяние, тревога, угроза голода! Разумом он это понимал, но сиюминутное рассудочное желание набраться сил твердило, ничуть не раскаиваясь: «Ешь, ешь, пока есть еда! Ешь, набирайся сил! Еда вкусна и необходима тебе!»
– Видел Сабула?
– Нет. Я только сегодня ночью приехал. – Он поднял глаза на Дезара и сообщил, стараясь говорить как можно спокойнее: – Таквер получила новое назначение – она будет участвовать в очередном Проекте по борьбе с голодом. Уехала четыре дня назад.
Дезар кивнул, его-то равнодушие было совершенно искренним.
– Слыхал... А ты слышал о реорганизации Института?
– Нет. А в чем дело?
Дезар положил на стол руки с тонкими длинными пальцами и уставился на них. Он всегда разговаривал как бы нехотя, короткими рваными фразами. К тому же он заикался; вот только что было причиной его заикания – физический недуг или моральный, – Шевек так и не решил. Точно так же, как не мог он решить, почему Дезар ему порой нравится, а порой вызывает самое настоящее отвращение, чуть ли не ненависть. Сейчас как раз был один из таких моментов: что-то неприятное, скользкое было в изогнутых губах Дезара, в его потупленных глазах, чем-то он очень напоминал вечно глядевшую в пол Бунаб.
– Разгоняют. Называется «функциональным сокращением штата сотрудников». Шипега выгнали. – Математик Шипег был всем хорошо известен своей глупостью; ему, однако, всегда удавалось «по требованию студентов» (с которыми он беззастенчиво заигрывал) получать каждый семестр курс лекций. – Отослали куда-то. В какой-то региональный институт.
– Он принес бы куда меньше вреда, окучивая деревья на плантации, – заметил Шевек. Теперь (когда он был сыт) ему казалось, что засуха может в итоге даже принести некоторую пользу, оздоровив их общество. Вновь становились ясны и очевидны первоочередные задачи, а также слабые места, недоработки, недостатки, которые необходимо было устранить. Ничего, голод всегда помогает организму восстановить деятельность «уставших» органов, снимает излишек жира, мешающий двигаться вперед...
– Замолвил за тебя словечко. На общеинститутском собрании. – Дезар смотрел вроде бы на него, но не мог встретиться с ним взглядом. И стоило Дезару это сказать – хотя до Шевека даже еще не дошел истинный смысл его слов, – он понял, что Дезар лжет. Шевек знал это совершенно точно. Никакого «словечка за него» он не замолвил, он выступал против него.
Теперь ему стала ясна причина той неприязни, которую он порой испытывал к Дезару: он явственно увидел в его характере некий элемент чистого злодейства, порожденного завистью. То, что Дезар, вроде бы любя его, пытался обрести над ним власть, также стало Шевеку теперь абсолютно понятно. Это казалось ему особенно отвратительным. Окольные пути достижения власти, лабиринты смешанного чувства любви-ненависти ничего для самого Шевека не значили; уверенный в себе, нетерпимый ни к собственным, ни к чужим слабостям, он шел всегда напрямик, сквозь стены. Он ничего не ответил Дезару на это сообщение, но постарался поскорее доесть завтрак и выйти из столовой, на яркий свет холодного осеннего солнца. Затем направился в административный отдел физического факультета и прошел прямо в дальнюю комнату, которую все называли «кабинетом Сабула», – ту самую, где они с Сабулом когда-то встретились впервые и Сабул вручил ему грамматику и словарь языка йотик.
Сабул осторожно глянул на него через письменный стол и снова опустил глаза – он был буквально поглощен работой, этот рассеянный, гениальный, совершенно не замечающий окружающей его действительности ученый! Затем он как бы позволил своему «перегруженному» мозгу воспринять присутствие Шевека и вдруг стал – в разумных пределах, конечно! – вполне оживленным. Сабул похудел, постарел и сутулился больше, чем прежде, вызывая даже некоторое сочувствие.
– Тяжелые времена, верно? – сказал он. – Ох, тяжелые!
– Будет еще тяжелее, – почти весело откликнулся Шевек. – Ну как в Институте дела?
– Плохо, плохо, – Сабул покачал седеющей головой. – А чистой науке, интеллектуалам особенно сложно.
– А что, когда-нибудь было легко?
Сабул как-то неестественно засмеялся и промолчал.
– Что-нибудь интересное для нас с Урраса привозили? Я ведь все лето на юге проработал. – Шевек, как всегда, расчистил себе местечко на скамье, заваленной бумагами, и сел, положив ногу на ногу. Он умудрился загореть почти дочерна, а борода, наоборот, выгорела и стала почти серебристой. Выглядел он хорошо – худой, крепкий, жилистый и в сравнении с Сабулом непростительно молодой. И оба прекрасно это почувствовали.
– Нет, ничего интересного не было.
– И никаких рецензий на «Принципы»?
– Нет. – Тон Сабула стал ворчливым, что было куда более естественно для него.
– Писем тоже не было?
–Нет.
– Странно.
– А что здесь странного? Может, ты ожидал, что тебя пригласят читать лекции в Университете Йе Юн? Или присудят премию Сео Оен?
– Я ожидал исключительно рецензий и откликов. Времени для их написания было достаточно. – Он говорил совершенно спокойно, но Сабул, не дослушав его, поспешил заметить:
– Вряд ли. Рановато еще для рецензий.
Помолчали.
– Ты должен понять, Шевек: твоя убежденность в собственной правоте – еще не оправдание. Ты очень много трудился над этой книгой, я знаю. Я тоже немало потрудился, издавая ее, пытаясь разъяснить, что это не просто безответственная атака на классическую физику, но теория, имеющая свои положительные аспекты. Но если бблыиая часть ученых не видит в твоей работе ничего ценного, то тебе, видимо, придется пересмотреть свои взгляды и убеждения и постараться найти, где же был совершен просчет. Если твоя теория ничего не значит для других, то какой от нее прок? Какова ее функция в обществе?
– Я физик, я не занимаюсь анализом общественных функций, – беззлобно заметил Шевек.
– Каждый одониец должен уметь анализировать функциональность той или иной вещи, теории или явления. Тебе ведь уже тридцать, верно? К этому возрасту человек обязан знать не только свои обязанности по отношению к конкретной семейной ячейке, но и по отношению ко всему обществу, свою оптимальную роль в социальном организме. Хотя ты, ученый-теоретик, возможно, не обязан столь же сильно задумываться над этим, как большая часть людей...
– Нет, должен. С тех пор как мне исполнилось десять, я твердо знаю, какую именно работу я должен делать, какую функцию в обществе выполнять.
– Это в тебе играет детство, Шевек. Мало ли что тебе хотелось бы делать! Это далеко не всегда является тем, что нужно обществу.
– Мне тридцать лет, как вы справедливо заметили. До-вольно-таки много, чтобы детство продолжало «играть во мне».
– Ты рос в неестественно защищенных, тепличных условиях. Сперва с тобой носились в Региональном Институте, потом...
– В пустыне Даст, на работах по озеленению побережья; потом на различных сельскохозяйственных работах, в добровольческих строительных отрядах Аббеная и только что _ на юге, где я несколько месяцев задыхался в пыли. Что ж, это нормально. Кстати, мне физическая работа всегда даже нравилась. Но я, между прочим, еще и неплохой физик. Однако к чему, собственно, все эти речи?
Поскольку Сабул не отвечал, глядя на него из-под своих тяжелых, каких-то маслянистых бровей, Шевек прибавил, помолчав:
– Вы могли бы все сказать мне прямо, все равно воздействие на мое «общественное сознание» в данном случае совершенно бесполезно.
– Ты считаешь работу, которую выполнял здесь, функциональной?
– Да. «Чем более в организме организованности, тем более централизованным он становится: централизован-ность в данном случае подразумевает область высокой функциональности». Это из толкового словаря Томара. Поскольку физика времени стремится организовать и объединить в единую систему все, доступное восприятию человеческого разума, то она по определению представляет собой в высшей степени централизующую функциональную деятельность.
– Но не дает хлеба голодным.
– Я только что шестьдесят дней вполне конкретно, физически, в поте лица работал, чтобы они этот хлеб получили. Когда меня снова призовут на подобную работу, я буду ее выполнять беспрекословно. А между тем стану заниматься своим основным ремеслом. Если в области физики еще остались, как я надеюсь, какие-то нерешенные задачи, то я имею полное право попытаться решить их.
– И все-таки придется тебе посмотреть правде в глаза: в данный момент нет ни малейшей необходимости решать какие бы то ни было нерешенные задачи в области физики. Во всяком случае такие, какие пытаешься решить ты. Мы должны сопрягать свои высокие устремления с практическими нуждами общества. – Сабул поерзал на стуле. Он выглядел сердитым и смущенным. – Мы вынуждены были освободить от работы пять человек, они уже получили другое назначение. Извини, но я вынужден сообщить, что один из них – ты. Вот так обстоят дела.
– Я так и предполагал, – с невозмутимым видом кивнул Шевек, хотя на самом деле он до последнего момента не желал признаваться себе, что Сабул попросту постарался вышвырнуть его из Института пинком под зад. Впрочем, новость эта показалась ему удивительно знакомой. И уж ни в коем случае он не доставил бы Сабулу удовольствия понять, насколько она потрясла его.
– Против тебя сработал целый комплекс причин, – продолжал Сабул. – В частности, недоступная пониманию большинства, совершенно иррелевантная природа тех исследований, которые ты вел в течение последних лет. К тому же многие в Институте, возможно, несправедливо, полагают, что твоя манера преподавания и поведение в целом в определенной степени отражают пренебрежительное отношение к коллегам и студентам, некий комплекс превосходства над остальными, отсутствие альтруизма. Об этом говорили многие из тех, кто выступал на собрании. Я, разумеется, выступил в твою защиту. Но что я мог поделать один?
– С каких это пор альтруизм входит в число одоний-ских добродетелей? – спросил Шевек. – Да ладно, не обращайте внимания. Я все понял. – Он решительно встал (он больше просто не мог сидеть на месте), но полностью держал себя в руках, казался абсолютно спокойным и говорил самым естественным тоном. – И видимо, вы вообще не дали мне рекомендации для занятий преподавательской деятельностью?
– А какая была бы от этой рекомендации польза? – Сабул почти пропел эти слова, он был счастлив снять с себя всякую вину за совершенную подлость. – Все равно нигде преподавателей на работу не берут. Только сокращают. Бывшие преподаватели и студенты трудятся бок о бок, пытаясь предотвратить голод, надвигающийся на нашу планету. Конечно, этот кризис не вечен. Надеюсь, что где-нибудь через год мы будем с гордостью вспоминать те жертвы, которые принесли, и ту адскую работу, которую совершили плечом к плечу, делясь последним куском... Но в настоящий момент...
Шевек стоял в расслабленной позе, внешне спокойный, и равнодушно смотрел в окно на пустое безоблачное небо. Он с огромным трудом подавлял желание послать наконец Сабула ко всем чертям. Однако иные, более сильные чувства заставили его сдержаться и обрели словесную оболочку.
– На самом деле, – сказал Шевек, – я полагаю, что вы, возможно, совершенно правы. – Он вежливо попрощался и вышел.
За дверью показное спокойствие оставило его. Он бросился к остановке трамвая и поехал в центр. Что-то гнало его туда, словно он хотел поскорее пройти этот путь до конца и потом наконец отдохнуть. Сейчас он спешил в Центр по Распределению Труда – просить, чтобы ему дали назначение в ту коммуну, куда уехала Таквер.
Центр со своими огромными компьютерами и множеством сотрудников занимал целый квартал – несколько довольно изящных одноэтажных зданий, расположившихся вокруг небольшой площади. Но изнутри помещение Центрального Архива Шевеку показалось чем-то похожим на склад с очень высоким потолком; здесь было полно народу, царила суета, стены были покрыты объявлениями о назначениях на работу и различными сведениями организационного порядка. Оказавшись в одной из очередей, Шевек прислушивался к разговору стоявших перед ним мальчика лет шестнадцати и весьма уже пожилого мужчины. Мальчик готов был ехать добровольцем на любую работу, лишь бы бороться с надвигающимся голодом. Его переполняли самые благородные чувства и намерения, в нем ощущалась самая искренняя вера во всеобщее братство людей. Детская жажда приключений, надежда на счастье звали его в новую, самостоятельную жизнь, прочь от надоевшего детства. Он очень много говорил, совсем еще как ребенок, да и голос у него еще порой срывался: он еще не привык к пробивающемуся баску. Свобода! Свобода! – это звучало в каждой сказанной им фразе. А голос старого человека, ворчливый и хрипловатый, пробивался сквозь это юношеское ликование, чуть поддразнивая, но не пугая, посмеиваясь, но не предостерегая от опасностей. Свобода, способность куда-то отправиться и что-то сделать на пользу всем – это старик вполне одобрял и поддерживал в своем юном собеседнике, даже когда необидно посмеивался над его излишней уверенностью в себе. Шевек с удовольствием слушал их. Они нарушили наконец ту череду гротескных образов, что с самого утра сегодня преследовали его.
Когда Шевек объяснил сотруднице ЦРТ, куда хотел бы направиться, на лице ее появилось тревожное выражение. Она'сходила за атласом, открыла его и положила между ними на стол.
– Вот, посмотрите сами, – сказала она. Шевеку она показалась безобразной: какая-то карлица с широкими, как у кролика, передними зубами. Кожа у нее на руках, лежавших на цветной странице атласа, была дряблой и морщинистой. – Вот Ролни, видите? Так называется полуостров в северной части Тименского моря, но на самом деле это просто огромная песчаная яма. На этом полуострове ничего нет, кроме лабораторий океанологов, которые расположены на дальнем конце полуострова. Нашли? Все восточное побережье представляет собой засоленные болота; они тянутся почти до Гармонии – на тысячу километров. А вся территория к западу занята так называемыми Прибрежными Пустошами. Они практически безлюдны. Ближайший к Ролни город расположен вот в этих горах. Но оттуда не поступало ни одного запроса на срочные работы. Им вполне хватает своих людей. Нет, вы, разумеется, все равно можете туда отправиться, – спохватилась она.
– От Ролни это, пожалуй, слишком далеко, – сказал Шевек, задумчиво глядя на карту; это был тот самый городок, где выросла Таквер: Круглая Долина. – Неужели в этих лабораториях не нужен, например, уборщик? Статистик? Кто-нибудь по уходу за рыбами?
– Я проверю.
Созданная людьми и компьютерами система ЦРТ работала потрясающе эффективно. Служащей не понадобилось и пяти минут, чтобы выудить всю требуемую информацию из этого моря постоянно обновляемых данных по поводу каждого рабочего места, каждой наличной или требуемой рабочей единицы.
– Вот, только что было занято одно такое место... А, это как раз и есть ваш партнер, верно? Да, сейчас у них штат полностью укомплектован: они взяли на работу еще четырех техников и целую опытную команду сейнера.
Шевек оперся локтями о стол и уронил голову на руки, потирая виски, что у него всегда было свидетельством полной растерянности.
– Так, – сказал он, – просто не знаю, что мне теперь делать!
– Послушай, брат, а ее надолго туда отправили? – неожиданно ласково спросила служащая.








