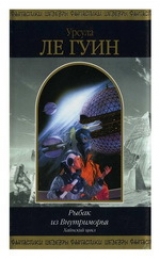
Текст книги "Рыбак из Внутриморья (сборник)"
Автор книги: Урсула Кребер Ле Гуин
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 55 страниц)
Переезд много усилий не потребовал. Шевек за один раз перетащил в новое жилище ящик с бумагами, зимние ботинки и оранжевое одеяло. Таквер пришлось сходить за вещами три раза. Потом они сходили еще в местный распределительный центр, чтобы получить по новому комплекту одежды и постельного белья – этот акт, как смутно предполагала Таквер, был, с ее точки зрения, совершенно необходим для начала совместной жизни. Потом они вместе с Шевеком еще раз сходили в ее прежнее общежитие, чтобы принести некоторое количество довольно забавных вещей: сложных концентрической формы предметов, сделанных из проволоки, которые, будучи подвешенными к потолку, двигались и меняли свои очертания, но очень медленно, как бы исподволь. Таквер сама сделала эти штуки в мастерской и назвала их «Занятие Незаселенных Пространств». Одно из двух кресел в комнате оказалось безнадежно сломанным, так что они отнесли его в мастерскую, где подобрали для себя другое, целое. После чего с вопросом меблировки было покончено. В новой комнате были высокие потолки и много воздуха, а также – места для «Незаселенных Пространств». Общежитие стояло на невысоком холме, каких было много на окраинах Аббеная, а в их комнате было угловое окно, куда всю вторую половину дня светило солнце и откуда открывался замечательный вид на город – видны были его улицы, площади, крыши домов, зелень парков и долины за ним.
Интимные отношения после столь долгого воздержания оказались для обоих не только радостью, но и серьезным испытанием. В первые несколько декад оба чувствовали себя совершенно выбитыми из колеи. Шевек то и дело испытывал какие-то дикие всплески возбуждения и беспокойства, Таквер тоже порой срывалась. Оба были сверхчувствительны и неопытны. Но напряжение постепенно начало спадать, когда они чуть лучше изучили друг друга. Их сексуальный голод изливался в страстное наслаждение, их желание быть вместе каждый день обновлялось и каждый день бывало удовлетворено.
Шевеку теперь стало ясно, и он ни секунды не сомневался в справедливости того, что все те годы в этом городе, которые он считал «пропащими», были частью, преддверием его теперешнего великого счастья. Таквер, правда, не видела столь сложных причинных связей в сложившихся между ними отношениях, но она ведь не занималась физикой времени! Она представляла себе Время наивно – как расстилающуюся перед ней дорогу. Идешь, идешь вперед и куда-нибудь приходишь. Если повезет, приходишь туда, куда стоило прийти.
Но когда Шевек попытался переложить эту ее метафору в термины своей науки, объясняя, что если прошлое и будущее остаются частью настоящего (благодаря памяти и намерениям), не существует и никакой «дороги» – идти попросту некуда, то она закивала и прервала его на середине лекции.
– Вот именно! – сказала она. – Именно некуда. И я никуда и не шла – целых четыре года. В жизни ведь не всегда выпадает удача. Жизнь только отчасти счастливая.
Ей было двадцать три, на полгода меньше, чем Шевеку. Она выросла в Круглой Долине, земледельческой коммуне на северо-востоке. Это были дикие места, и до того, как Таквер поступила в Институт Северного Поселения, ей пришлось выполнять куда более тяжелую работу, чем большинству ее сверстников. В Круглой Долине всегда не хватало рабочих рук, хотя работы было полно, однако вклад этой небольшой коммуны в общую экономику планеты был невелик, и работа в этих местах никаким спросом не пользовалась. Им приходилось самим заботиться о себе, не надеясь на ЦРТ. Таквер с восьми лет каждый день по три часа выбирала солому и камешки из зерен дерева-холум на фабрике после занятий в школе. Мало что из той тяжелой и нужной работы, которой она занималась в детстве, как-то обогатило ее личность: просто нужно было помочь коммуне выжить. Во время сборки урожая и во время сева все обитатели Круглой Долины от десяти до шестидесяти целыми днями работали в поле. В пятнадцать лет Таквер уже отвечала за составление графиков работы на четырех сотнях различных полей, а также помогала диетологу в городской столовой планировать меню и расход продуктов. Во всем этом для жителей Круглой Долины не было ничего необычного, и Таквер особенно не задумывалась о необходимости трудиться с раннего детства, однако подобные условия, разумеется, наложили свой отпечаток на ее характер и взгляды. Шевек, например, был очень рад, что не раз участвовал в различных срочных работах и не гнушался физического труда, ибо Таквер откровенно презирала тех, кто избегал «грязной работы».
– Ты бы послушал, как ноет этот Тинан, – говорила она, например, – потому что его, видите ли, на четыре декады – какой ужас! – отправляют убирать урожай земляного холума, а он у нас нежный, как рыбья икринка! Он что, земли в жизни не нюхал? – В таких случаях Таквер абсолютно не была склонна к альтруизму, да и темперамент у нее был ого-го.
В Региональном Институте она изучала биологию и получила несколько наград за студенческие работы, так что решила продолжить свое образование в Аббенае. Проучившись год в Центральном Институте, она попросила перевести ее в другой синдикат, который создавал новую лабораторию по изучению технологии разведения и улучшения питательных свойств рыбы и съедобных морских организмов, водившихся в трех океанах Анарреса. Когда Таквер спрашивали, чем она занимается, она отвечала: «Рыбьей генетикой». Ей нравилась эта работа, в ней сочетались две вещи, которые она особенно ценила: конкретность и реалистичность цели и точность исследований; занимаясь экспериментами, не направленными на улучшение жизни людей, она не получала бы удовлетворения. Правда, бблыиая часть тех идей, что приходили Таквер в голову, имела крайне малое отношение к «рыбьей генетике».
Ее заботливое отношение к природе и живым существам было сродни страсти. Столь пристрастное отношение ко всему живому, весьма приблизительно называемое «любовью к природе», Шевек считал куда более всеобъемлющим, чем любовь к «рыбам и растениям». Есть такие души, думал он, которые навсегда срослись пуповиной с природой, и пуповина эта так и не была отсечена. Такие люди не воспринимают собственную смерть как врага; они смотрят в будущее, видя, как превращаются в перегной, очень полезный злакам... Было всегда странно видеть, как Таквер берет в руки листок или просто камешек и становится как бы его продолжением, или этот предмет становится продолжением Таквер...
Она показала Шевеку огромные аквариумы с морской водой в своей лаборатории, где было больше полусотни различных видов рыб, – большие и маленькие, бесцветные и чрезвычайно яркие, элегантные и уродливые. Он был очарован и ошеломлен.
Три океана Анарреса буквально кишели живыми существами, тогда как суша планеты была практически их лишена. Эти океаны или моря не имели сообщения друг с другом уже несколько миллионов лет, и формы жизни в них развивались по совершенно различным путям. Разнообразие морских тварей было просто потрясающим. Шевеку даже в голову никогда не приходило, что жизнь может иметь столько самых разнообразных проявлений и что в конце концов именно это разнообразие, вероятно, и есть основное свойство жизни.
На суше имелись, правда, растения – обычно растущие довольно далеко друг от друга и невысокие, – которые развивались довольно успешно, однако животные, когда-то попробовавшие дышать воздухом Анарреса, быстро бросили эту пагубную затею, поскольку климат планеты век от века становился все более засушливым, и на Анарресе наступила «эра пыли». Выжили некоторые виды бактерий – многие из них были литофагами, а также несколько сотен разновидностей червей и ракообразных.
Человеку приходилось осторожно приспосабливаться, с риском для жизни искать себе местечко в крайне узкой нише этой хрупкой экологической системы. Если ловить рыбу (но без излишней алчности) и добросовестно возделывать те небольшие участки земли, которые могли давать урожай, используя в качестве удобрений как можно больше различных органических отходов, то приспособиться было можно. Однако более никаких животных человек допустить в свою нишу не мог. Для травоядных здесь не было травы. А для хищников – не было травоядных. Здесь не было цветущих растений и не было насекомых, которые могли бы цветущие растения опылять (все импортные фруктовые деревья опылялись искусственно). И удобрялись вручную. С Урраса сюда никогда не завозили никаких животных, это было строго запрещено: животные могли создать смертельную угрозу хрупкому равновесию здешней природы. Сюда прибыли только сами переселенцы, и они были настолько хорошо «очищены» как внутренне, так и внешне, что даже на себе и в себе привезли минимум фауны и флоры. На Анаррес не удалось попасть даже блохе.
– Мне нравится заниматься биологией моря, – говорила Таквер, стоя перед аквариумом. – Только в здешних морях существует настоящая, сложная жизнь, целая паутина хитросплетений. Эта рыбка ест вон ту, а та ест всякую мелочь, которая, в свою очередь, питается ресничными инфузориями, а те поглощают всякие бактерии и так далее. На суше у нас существует только три вида животных, все беспозвоночные – если не считать человека. Ужасно любопытная ситуация с биологической точки зрения! Мы, жители Анарреса, неестественным образом изолированы от природы своей планеты. В Старом Мире имеется восемнадцать видов наземных животных; там есть классы, например, класс насекомых, который включает в себя прямо-таки бесчисленное множество подвидов, а некоторые из этих подвидов насчитывают миллиарды особей. Подумай только: куда ни глянь, всюду живые существа, с которыми ты разделяешь землю и воздух! Там, наверное, действительно легче ощутить себя частью чего-то большего... – Она проследила взглядом за изящными движениями маленькой голубой рыбки в полутьме аквариума. Шевек, слушая ее рассуждения, тоже невольно стал следить за рыбкой. Когда она ушла по делам, он еще довольно долго бродил среди огромных стеклянных резервуаров, а потом часто приходил к Таквер в лабораторию и, склоняя свою высоколобую голову физика-теоретика, любовался и восхищался крошечными странными существами, для которых настоящее вечно, которые не пытаются объяснить свои мысли и побуждения и даже не испытывают ни малейшей потребности оправдывать как-либо форму своего существования – тем более перед человеком.
На Анарресе обычно работали от пяти до семи часов в день, имея от двух до четырех выходных дней в декаду. Детали – то есть регулярность посещения, продолжительность рабочего дня, график выходных и так далее – обсуждались каждым со своей командой, синдикатом или федерацией отдельно, в зависимости от оптимального уровня кооперации и эффективности. Таквер вела самостоятельные исследования по собственному проекту, и в данном случае сам проект и, главное, живые рыбы предъявляли к ней свои особые требования; случалось, она каждый день проводила в лаборатории от двух до десяти часов и подолгу никаких выходных не имела. Шевек теперь преподавал даже в двух местах – вел «продвинутый» курс математики в учебном центре и читал курс лекций в Институте. Все эти занятия приходились на утренние часы, и к полудню он уже возвращался домой. Таквер обычно еще не было. Во всем здании царила тишина. Солнечный свет только во второй половине дня добирался до их углового окна, из которого открывался такой замечательный вид на город и долины за ним, и пока что в комнате было темновато и холодно. Изящные концентрические «мобили», висевшие под потолком на различных уровнях, двигались с какой-то внутренней сосредоточенностью и определенностью, молча, загадочно – в точности так работают внутренние органы человека или его мозг. Шевек обычно садился за стол у окна и начинал работать – читал, делал записи, что-то подсчитывал... Постепенно солнце добиралось до их окна, заглядывало в комнату, проплывало по бумагам на столе, по его рукам и наконец наполняло все вокруг него своим сиянием и теплом. И он еще глубже погружался в работу. Фальстарты и напрасно потраченное время прошлых лет (как ему казалось) на самом деле оказались отличной предварительной подготовкой, основой, фундаментом, заложенным, правда, почти вслепую, но все же не таким уж плохим. И на этой основе методично и осторожно, однако с должным умением и уверенностью, которые давали ему опыт и знания, он строил прекрасную прочную структуру: теорию Одновременности.
Таквер, как и любому другому человеку, которому приходится жить вместе с «творческой личностью», приходилось порой нелегко. Она, безусловно, была Шевеку необходима, однако ее присутствие рядом часто становилось «отвлекающим моментом», поэтому она старалась не приходить домой слишком рано. Шевек тут же бросал работу, стоило ей войти, и она чувствовала, что это неправильно. Позднее, когда они оба значительно повзрослели и привыкли друг к другу, он мог и не заметить ее возвращения, но в двадцать четыре года для него это было абсолютно невозможно. А потому она распределяла свои дела в лаборатории так, чтобы приходить домой только к вечеру. Это было не очень удобно, ведь, с другой стороны, Шевек нуждался в постоянной заботе не меньше, чем мальки ее драгоценных рыб. В те дни, когда у него не было занятий, она, придя домой, часто убеждалась, что он просидел за столом часов восемь подряд и, разумеется, ничего не ел, а когда вставал, то его шатало от усталости и руки у него дрожали. Он даже с трудом соображал, что говорит ей. «Творческие личности», пришла к выводу Таквер, способны настолько жестоко эксплуатировать подручные средства, то есть свой собственный организм, что доводят себя до полного истощения, выжимая буквально последние соки, так что потом такую «творческую личность» остается только выкинуть на свалку. Сообщив все это Шевеку, Таквер взялась за дело. Для нее вопроса о «замене» одной «творческой личности» на другую не существовало, так что протест ее против жестокого обращения Шевека с самим собой был активным. Она бы, пожалуй, с удовольствием закричала на него, подобно мужу Одо, Асьео, который однажды возмутился: «Господи, женщина, да неужели ты не можешь служить Истине каждый день, но понемножку?!» Вот только Таквер сама была женщиной, с богом знакомства не водила, а потому действовала иначе.
Они сперва немного разговаривали, потом шли прогуляться или в купальню, потом обедали в институтской столовой. После обеда обычно бывали собрания или концерты. Иногда они ходили в гости к своим друзьям – Бедапу, Саласу и прочим членам их кружка, или к Дезару и другим сотрудникам Института, или к коллегам и друзьям Таквер. Однако и собрания, и общение с друзьями имели для них второстепенное значение. У них не было потребности ни в общественной деятельности, ни в шумных компаниях. Им хватало друг друга, и они не могли и не очень пытались скрыть это. Похоже, остальных это не обижало. Как раз наоборот. Бедап, Салас, Дезар и многие другие приходили к ним, как изнывающий от жажды человек – к источнику воды. Сами они не очень тянулись к другим, но для этих других были как бы неким центром, притягивавшим людей к себе. Они ничего особенного для этого не делали; они были не более благожелательны, чем иные люди, и не такие уж интересные собеседники; и все же друзья их любили, не скрывали своей зависимости от них и вечно старались принести им что-нибудь в подарок – незначительные вещицы, которые на Анарресе часто дарили друг другу те, кто ничего не имел, но владел всем: шарф ручной вязки, кусочек гранита с вкраплениями алых гранатов, вазу, сделанную собственными руками, стихотворение о любви, набор резных деревянных пуговиц, спиралевидную раковину с берегов Соррубского океана. Отдавая свой подарок Таквер, они говорили: «Вот, может, Шеву понравится – будет чем бумаги прижимать». Или совали что-то Шевеку, убеждая его взглянуть и удостовериться: «Посмотри-ка, похоже, Таквер эти цвета к лицу?» Им словно хотелось с помощью подарков хотя бы отчасти разделить то, что возникло между Шевеком и Таквер, и поблагодарить их за это возникшее между ними чудо.
Стояло долгое лето, теплое и ясное лето 160-го года. Благодаря обильным весенним дождям зазеленели равнины близ Аббеная, пыль больше не висела в воздухе, и он казался необычайно прозрачным; днем солнце приятно грело, а по ночам небо было потрясающе звездным. Когда всходила луна, можно было отчетливо увидеть на ней границы континентов, порой скрывавшиеся под плотной массой облаков, которых всегда было немало над Уррасом.
– Почему она так прекрасна? – спрашивала Таквер, лежа рядом с Шевеком под оранжевым одеялом в темной комнате. Над ними в неясной мгле покачивались «Незаселенные Пространства», за окном сияла полная луна. – Ведь мы же знаем, что это обыкновенная планета, такая же, как наша, только климат на ней лучше, а люди хуже... потому что все они собственники, ведут войны, устанавливают разные законы, и одни едят досыта, а другие голодают. Но только ведь и они там стареют, и у них бывают неудачи, им тоже ревматизм скрючивает пальцы и заставляет хрустеть колени... Ведь мы все это знаем, так почему же их планета выглядит такой счастливой – словно жизнь там прямо-таки райская? Я, например, не могу смотреть на это волшебное сияние и представлять себе, что там, в вышине, живет какой-то отвратительный коротышка с засаленными рукавами и атрофировавшимся умом, вроде Сабула, нет, я просто не могу...
Их обнаженные руки и плечи были залиты лунным светом. Лицо Таквер в ореоле темных волос и окружавших постель теней тоже как бы светилось. Шевек коснулся ее посеребренного луной плеча своей серебряной рукой, восхищаясь неожиданным теплом этого прикосновения.
– Если ты способна видеть вещь как нечто целое, – сказал он, – она всегда кажется прекрасной. Планета, человек, любое проявление жизни... Но если приглядеться, рассмотреть детали, то любая планета может показаться просто грудой камней и грязи. И будничная жизнь тоже покажется малопривлекательной – тяжкий труд, усталость, растерянность, непонимание цели... Нужно расстояние, промежуток времени, простор – чтобы увидеть, как прекрасна та или иная планета, твоя собственная каменистая земля... Чтобы увидеть ее как луну! А чтобы увидеть, как прекрасна жизнь, нужно оказаться в самой выгодной для этого точке: на пороге смерти.
– Прекрасно! Нет уж, пусть Уррас остается себе в небесах и будет нашей луной – мне он не нужен! И я вовсе не хочу взбираться на собственное надгробие и оттуда оглядываться на прожитую жизнь, говоря: «О, как она была прекрасна!» Я хочу видеть, как она хороша, прямо сейчас, здесь, посреди отведенного мне пути! Мне совершенно ни к чему вечность.
– Это не имеет никакого отношения к вечности, – сказал Шевек, улыбаясь и нагибаясь к ней – худой, лохматый, сотканный из серебра и теней. – Чтобы увидеть жизнь как целое, тебе нужно лишь осознать, что она конечна, а ты смертна. Я умру, ты умрешь... иначе мы не могли бы любить друг друга. Солнце в небе когда-нибудь догорит дотла, иначе почему же оно старается так сиять?
– Ах, вечно эти твои разговоры! Твоя проклятая философия!
– Разговоры? Это не просто разговоры, Так. Я же ничего не доказываю. Это не просто аргументы. Это реальные факты. Все это совсем близко, можно коснуться рукой. Смотри, я касаюсь Целостности. Держу ее в руках. Скажи, где здесь лунный свет, а где Таквер? Чего же мне бояться смерти, если я держу в руках вечность, если я держу в руках свет?..
– Не будь собственником, – буркнула Таквер.
– Милая, не плачь.
– А я и не плачу. Это ты плачешь. Это же твои слезы.
– Я просто замерз. Этот лунный свет ужасно холодный.
– Ляг.
Он весь дрожал, когда она обняла его.
– Мне страшно, Таквер, – прошептал он.
– Тихо, милый мой, родной мой, тихо...
И в ту ночь, как и во многие другие, они уснули, крепко обняв друг друга.
Глава 7
УРРАС
Шевек нашел письмо в кармане своей новой, подбитой овечьей шерстью куртки, которую заказал на зиму на той кошмарной улице. Он понятия не имел, как письмо попало к нему в карман. Оно, безусловно, не было послано по почте – почту приносили три раза в день, и она состояла в основном из рукописей и перепечаток научных работ, которые присылали ему физики со всех концов Урраса, а также из приглашений на приемы и бесхитростных посланий школьников. Записка представляла собой листок тонкой бумаги, свернутый несколько раз, конверта не было; разумеется, не было также ни марки, ни почтового штемпеля.
Шевек развернул листок, смутно подозревая, что там будет написано, и прочел: «Если вы действительно анархист, то почему считаете возможным сотрудничать с государством, предавшим народ Анарреса и надежды всех одонийцев? А может, вы прибыли сюда, чтобы возродить в нас эту надежду? Страдая от многих несправедливостей, подвергаясь репрессиям, мы взираем на вашу планету, нашу сестру, и она представляется нам маяком свободы во мраке ночи. Присоединяйтесь же к нам, вашим братьям!» Подписи не было, адреса тоже.
Шевек был потрясен до глубины души; письмо озадачило его; его не покидали мысли о здешних одонийцах; он думал о них не с удивлением, а с какой-то панической растерянностью. Он знал, что они здесь есть, – но где их искать? Он до сих пор не встречал ни одного; он вообще ни разу не сумел встретиться ни с кем из «простых» людей, ни с кем из «бедняков»... Он сам позволил, чтобы вокруг него возвели эти золоченые стены; он, собственно, даже этого не заметил. Он принял предложенные ему выгодные условия и это убежище в Университете, как самый настоящий собственник! Его действительно «кооптировали» – в точности, как говорил Чифойлиск.
Но он не знал, как теперь разрушить эти стены. А если бы знал, то куда б пошел? Паника охватила его. К кому обратиться за помощью? Со всех сторон улыбки богачей!
– Я бы хотел поговорить с вами, Эфор.
– Хорошо, господин Шевек. Извините, господин Шевек, я только поставлю это вот сюда и подам вам завтрак.
Он ловко поставил тяжелый поднос, быстро снял крышки с блюд, налил в чашку горячий шоколад – пышная пена поднялась до самого края, однако ни капли не пролилось на скатерть. Опытный слуга, Эфор явно наслаждался этим утренним ритуалом – подношением завтрака—и собственным умением и ловкостью; ему явно не хотелось, чтобы какими-то непредвиденными действиями привычный ритуал нарушали. Обычно Эфор говорил очень грамотно и чисто, но стоило Шевеку выразить желание с ним побеседовать, и слуга тут же перешел на скачущий и невнятный столичный диалект. Шевек уже немного научился понимать его; проглоченные гласные, искаженные слова – во всем этом нетрудно было уловить вполне определенную закономерность, но при этом быстрая речь апокопа, то есть отпадение в словах последнего звука или даже нескольких звуков, все еще ставила его в тупик. Из-за нее он порой не понимал и половины сказанного. Точно закодированное послание или шифр, думал он, вроде того «шифра ньоти», который они выдумали в детстве, не желая, чтобы их понимали остальные.
Слуга почтительно ждал. Он знал, он хорошо запомнил все, чего Шевек терпеть не мог, еще в первую неделю – особенно, чтобы ему подавали стул и стояли рядом, ожидая, пока он поест. Напряженная прямая фигура Эфора уже сама по себе свидетельствовала о том, что никакой надежды на неформальную беседу и быть не может.
– Может быть, вы присядете, Эфор?
– Как вам будет угодно, господин Шевек, – вежливо ответил слуга, подвинул к себе на полдюйма стул, однако так и не сел.
– Я вот о чем хотел поговорить с вами. Вы знаете, что я не люблю отдавать распоряжения...
– Я стараюсь все делать так, как вам нравится, господин Шевек. И не беспокоить вас по поводу дополнительных указаний.
– Да, это правда... но я совсем не это имел в виду. Вы знаете, в моей стране никто никому никаких приказов не отдает.
– И я так слышал, господин Шевек.
– Ну так вот: я хотел узнать вас получше как человека, равного мне, как моего брата. Вы, Эфор, единственный здесь, кто, насколько я знаю, не богат. То есть вы не из хозяев. Я очень хотел бы поговорить с вами по душам, узнать о вашей жизни...
Он в отчаянии умолк: на морщинистом лице Эфора отчетливо отразилось презрение. Да, он совершил все ошибки, какие только возможно! Эфор воспринимает его теперь как жалостливого любопытного дурака.
Шевек уронил руки на стол – с полнейшей безнадежностью! – и сказал:
– О черт побери! Простите, Эфор! Я просто не сумел выразить свое желание словами. Пожалуйста, не обращайте внимания.
– Как скажете, господин Шевек. – И Эфор удалился.
Ну вот и все. «Класс несобственников» остался столь же далеким и неведомым, как прежде, когда он пытался что-то обнаружить о нем в учебнике истории в Северном Поселении.
Близились каникулы между зимним и весенним семестрами. Шевек давно пообещал Ойи провести недельку в его семье.
За это время Ойи несколько раз приглашал его к себе в гости – всегда несколько неуклюже, словно выполняя некий долг гостеприимства или, возможно, приказ правительства. Однако дома он совершенно преображался, хотя все же вел себя с Шевеком чуть настороженно. Вся его семья проявляла к гостю искреннее дружелюбие, и уже на второй раз оба сына Ойи решили, что Шевек – старый и надежный друг. Их доверчивость и уверенность в том, что и Шевек платит им той же монетой, явно озадачивала Ойи. Ему было даже как-то не по себе; он не мог по-настояще-му одобрять подобные отношения, однако не мог не признать, что Шевек действительно относится к мальчикам, как старинный друг семьи или как старший брат. Они его обожали, а младший, Ини, прямо-таки страстно в него влюбился. Шевек был с ними добр, серьезен, честен и рассказывал им множество интересных историй о луне. Но было и еще нечто, куда более существенное, что действовало на Ини совершенно неотразимо, хотя мальчик не в силах был описать, что именно его так восхищает в Шеве-ке. Даже значительно позже, став старше и сознавая, сколь сильное, хотя и непонятное воздействие оказало на всю его жизнь детское увлечение Шевеком, Ини не находил слов, чтобы описать свои чувства; у него прорывались только отдельные слова, в которых как бы слышалось эхо тех переживаний: «странник», «ссылка», «одиночество».
Всю неделю шел снег; это был единственный за всю зиму по-настоящему сильный снегопад. Шевек никогда не видел, чтобы снег ложился на землю слоем больше двух сантиметров. Необычность, щедрость, мощь этой снеговой бури приводили его в восторг. Он упивался обилием снега. Все было таким восхитительно белым и холодным, таким молчаливым и равнодушным, что невозможно было назвать это изобилие «экскрементальным». Даже самый отъявленный одониец не решился бы это сделать. Воспринимать эту красоту иначе, как чудо, было бы проявлением душевной бедности. Как только небо чуть посветлело, Шевек вместе с мальчишками поспешил на улицу. Сыновья Ойи оценили снегопад столь же восторженно, как и он. Втроем они носились по просторному саду за домом, играли в снежки, строили в снегу туннели, замки и крепости.
Сева Ойи вместе со своей золовкой стояла у окна, наблюдая, как носятся ее дети и этот взрослый человек вместе с молодой выдрой по снежным сугробам. Выдра нашла себе замечательное развлечение – скатывалась на брюхе с одной из стен снежной крепости, как с горки, и это занятие ей явно не надоедало. Щеки мальчишек пылали. А мужчина стянув шнурком на затылке длинные, уже отмеченные ранней сединой волосы, с покрасневшими от холода ушами, энергично руководил строительством очередного туннеля:
– Нет, не здесь! Вон там ройте!
– Где же лопата?
– Ой, у меня лед в кармане!
Голоса детей звенели, не умолкая.
– Ну как тебе наш инопланетянин? – улыбнулась Сева.
– Величайший из ныне живущих физиков! – хмыкнула ее золовка Веа. – Какой смешной!
Когда Шевек вернулся в дом, отдуваясь и стряхивая снег, излучая запах морозца и ту веселую энергию, которая исходит от людей, только что возившихся в снегу, Ойи представил ему свою сестру. Шевек протянул молодой женщине свою большую, твердую, холодную руку и дружелюбно посмотрел на нее сверху вниз.
– Так вы сестра Димере? – сказал он. – Да, конечно, вы с ним похожи. – И это замечание, которое в устах любого другого человека Веа сочла бы совершенно пресным, банальным, показалось ей необычайно приятным. «Он настоящий мужчина, – думала она потом весь день, – это в нем сразу чувствуется. А почему, интересно знать?»
Веа Доем Ойи – таково было ее полное имя. Ее муж Доем возглавлял крупный промышленный комбинат, ему приходилось много ездить, и он по полгода жил за границей в качестве делового представителя своего правительства. Пока все это разъясняли Шевеку, он молча рассматривал Веа. Они действительно были очень похожи с Димере, однако то, что портило его, делая излишне слабым, женственным – маленький рост, хрупкость, бледность, томный взгляд миндалевидных черных глаз, ее превращало в настоящую красавицу. Грудь и плечи Веа были округлыми, нежными и очень белыми. Во время обеда Шевек сидел рядом с нею за столом и просто глаз не мог отвести от обнаженных грудей, приподнятых жестким корсажем. Сам по себе обычай ходить полуголыми при такой холодной, морозной погоде казался ему весьма экстравагантным, но эти маленькие груди дышали такой же невинностью и чистотой, как снег за окном. Изгиб ее гордой шеи изящно и плавно переходил в выпуклость затылка; наголо обритая головка была чрезвычайно изящна.
Да, это чертовски привлекательная женщина, решил Шевек. Что-то в ней есть от этих здешних кроватей: так же мягко льнет. Хотя, пожалуй, держится чересчур жеманно. Интересно, зачем она так сюсюкает?
Он старательно искал в ней недостатки, цеплялся буквально за каждую мелочь – слишком тонкий голос, привычно жеманную манеру хорошенькой миниатюрной женщины, – цеплялся как за соломинку, сам не замечая, что тонет. После обеда Веа должна была возвращаться в Нио Эссейю; она просто заехала повидаться с семьей брата. Шевеку стало страшно, что он никогда больше ее не увидит.
Но у Ойи разыгрался насморк, Сева не могла оставить детей.
– Шевек, вы не могли бы проводить Веа до станции?
– Господи, Димере! Пожалуйста, не заставляй своего бедного гостя сопровождать меня! Ведь не думаешь же ты, что на меня по дороге нападут волки? Или дикари-мин-грады совершат на город налет и утащат меня в свои гаремы? Или я замерзну в пути, и меня найдут завтра утром у дверей смотрителя станции, и в уголке мертвого глаза у меня будет поблескивать прощальная слезинка, а негнущиеся пальчики будут по-прежнему сжимать букетик увядших цветов? А что, это было бы даже забавно! – И Веа звонко рассмеялась; ее смех был похож на теплую, темную, ласковую волну, что с силой набегает на песок и все уносит в море, оставляя лишь влажный след. Она не хихикала – нет, она смеялась весело, искренне, как бы стирая жеманную скороговорку своих слов.








