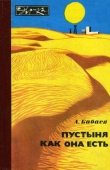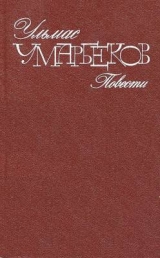
Текст книги "Пустыня"
Автор книги: Ульмас Умарбеков
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 5 страниц)
Ульмас Умарбеков
Пустыня
I
Недавно приводил я в порядок старые бумаги и нечаянно наткнулся на забытую фотографию. Увидел стариковское утомленное лицо, худое и в морщинах, отсутствующий взгляд, вгляделся, задумался – и вспомнил этого человека…
Шесть лет назад я возвращался домой из-за границы, побывал как журналист в одной из стран Ближнего Востока. В небольшом портовом городке на берегу Средиземного моря мне пришлось задержаться на сутки: пароход в Одессу уходил лишь на следующий день. Я устроился в гостинице, принял душ, позавтракал, отдохнул – и больше в номере делать было нечего.
Хотя час стоял полуденный и на улице было жарко, я вышел из гостиницы – пройтись по незнакомому городу.
Небо было чистое и блеклое, воздух прозрачен, и полдневная улица казалась если и не вымершей, то погруженной в какой-то колдовской сон. Впрочем, может быть, я и ошибался, – вдруг в этом городке всегда так тихо и сонно, и никакого колдовства нет – а просто городок и его жители чувствовали себя частью этого мира, этого сонного дня, неподвижного солнца, нагоняющего дремоту неба, и жаркого воздуха, пустого и неподвижного… Может быть…
У дверей гостиницы сонно склонил голову чистильщик сапог, и усы его обвисли от жары…
На мостовой тележка – род такси: крохотный черный ослик запряжен, деревянный кузов украшен резьбой, на козлах тощий старик в залатанном халате машинально перебирает четки, но и в малом этом движении нет течения времени, а лишь неподвижность и сон…
Направо от гостиницы – низенький плоский домик, сладко похрапывает на полу веранды волосатый толстяк. Здесь же, у веранды, стоически ждет покупателей мальчуган в длинной, по колено, рубашке и, видать, без штанов – в руках у него, нанизанные на бечеву, отливают красным рыбешки…
Тихо…
Но тут с моря потянуло вдруг ветерком, до меня долетел пряный запах какой-то снеди – и разбудил меня. Наверное, несколько минут я достойно дополнял мирную картину сонной улочки…
Я отправился побродить, посмотреть порт и город.
Тихим и малолюдным показался мне этот городок, и все в нем противоречило шумному понятию «порт» и привычной для нас переменчивости: прибытие – убытие, прилив – отлив толпы, гомон, свистки…
Пустынные улочки тихо убаюкивали извивами и меж тем ползли в гору – я и не заметил, как поднялся довольно высоко над морем и портом – здесь кончался город. Еще несколько шагов – и я понял, что нахожусь у цели своего путешествия: ведь, наверное, не просто так ноги принесли меня сюда: неуклюжая каменная глыба вздымалась над землей, издали – лишь слегка наклонившаяся, поближе – нависшая, а вблизи – уже и угрожающая, будто тигр, который вот-вот бросится на вас, но пока лишь рычит, показывая страшные клыки.
Два туриста, как будто немцы, светловолосые, с кирпично-загорелыми лицами, в шортах, фотографировали каменную глыбу. С площадки открывался вид на город и море, я опустился на скамеечку и закурил.
Безмятежная водная гладь сливалась где-то у горизонта с голубым небом и нет-нет сверкала золотом под набежавшим ветерком. Я не помню, сколько времени я просидел здесь, любуясь простором воды и неба, живой игрой солнечных бликов и ощущая себя причастным к этому сверкающему дню, счастливым и вольным… Как вдруг моего слуха коснулся тонкий и протяжный звук, будто прилетевший из голубого с золотом царства, дремлющего передо мной… Еще, еще – но это же най, камышовая свирель, совсем как у нас в Узбекистане! Я прислушивался, я ждал со счастливой уверенностью: вот, вот опять сейчас заиграют… И правда – невидимый най зазвучал опять, и голос его теперь слышался близко. Мелодия вначале была грустной, даже печальной, потом оживилась и вдруг рассыпалась радостными трелями, зазвенела, как весенний ручей.
И я увидел цветущие долины родного Узбекистана, увидел пушистых ягнят в ароматных травах – радостно звенели их колокольчики, увидел горные кряжи, и пропасти, и вершины в вечном снегу, и наконец мне открылась прекрасная картина южной ночи – бездонное черное небо с золотой россыпью звезд…
Я побывал в разных странах и не однажды восхищался их музыкой, но подобной игры мне слышать не приходилось – да и кто не у нас, не дома, мог с таким искусством владеть наем?
И оборвалась радостная, сверкающая мелодия, полилась тихая, грустная – точно горькая жалоба, точно прощанье с людьми и с жизнью, – безутешно плакала тростниковая дудочка… И опять запел най, взяв тоном выше, – дрожь прошла у меня по спине…
– Хорошо играет, да? – это у меня вдруг спросили на родном моем языке, на узбекском.
Я обернулся – увидел седого незнакомого старика, чуть косо поставленные глаза разглядел, щеки смуглые, широкие брови, слитые над переносицей и, как и волосы, седеть начавшие. «Вы узбек?» – бился во мне вопрос, но прямо спросить незнакомца показалось мне неприличным, и я поднялся со скамьи и ответил только:
– Хорошо…
Мы поздоровались.
– Да, а я вот каждый день сюда прихожу, игру ее послушать… – Старик жестом пригласил меня сесть.
– «Ее»? Это женщина играет?..
– Да… одна женщина несчастная… – старик вздохнул и опустил голову. – В молодые годы была красавица… Ну, а теперь состарилась, живет в бедности, чуть ли не нищая и никому не нужная…
– Вы… с ней знакомы?
– Как же, конечно, – она ведь тоже узбечка, из Самарканда… Бог знает когда, в юности, бежала за границу с каким-то байским сыном, тот, года не прошло, умер, вот из нее чужбина-то жилы и повытянула… Ни здоровья, ни красоты… а когда ослепла… это при мне уже было, недавно, так еще будто и рассудком помутилась, говорят…
– Но как же она играет… А нельзя ли ее повидать?
– Отчего же… Пойдемте.
Старуху мы нашли на соседней улочке – они сидела, скрестив ноги, на убогой веранде с покривившимися столбами. Лоб и глаза закрыты ветхим кисейным платком, на плечах обтрепанная рубаха… Легонько раскачиваясь, старуха что-то шептала. Най лежал рядом…
Мой новый знакомый наклонился к ее уху:
– Да умножится ваше потомство! – громко поздоровался он. – Пришли проведать вас…
Старуха покачала головой, погладила металлическое блюдце у себя на коленях и ничего не сказала.
– Плохо слышит… – объяснил мой знакомый.
Я достал из кармана несколько монет и положил на блюдце.
Старуха протянула к блюдцу руки, на ощупь сосчитала монеты, продолжая что-то шептать, потом коричневые морщинистые щеки ее дрогнули и губы растянулись в улыбке.
– Салам алейкум, бабушка! – поздоровался я.
– Ва алейкум ассалам! – ответила наконец старуха, спрятала монеты где-то на поясе, погладила блюдце и обратила лицо ко мне: – Кто ты, сынок?
– Я проезжий, возвращаюсь на родину…
– Да-да, тут много проезжих, много вас, странников. На этом свете все мы странники, и Мухаммед, пророк аллаха нашего всемогущего, странствовал, все мы в руке господней, все странники. – Она пробормотала еще что-то, потом, тихонько раскачиваясь, затянула вполголоса песню-плач, запричитала слезливо и жалко…
Старик тронул меня за руку, я обернулся и увидел слезы у него на глазах. Мы тихонько ушли. Звук свирели, тонкий и жалобный, долго провожал нас.
На берегу моря мы остановились. Старик взглянул мне в лицо и вдруг сказал:
– Простите, я вижу, что огорчил вас.
– Не каждый день приходится встречать… вот так… земляка…
– Если вы не против, давайте выпьем по чашечке кофе, здесь в гостинице умеют приготовить…
Я согласился в надежде, что разговор со стариком поможет стряхнуть подобравшуюся тоску, однако мне суждено было сегодня услышать рассказ еще более грустный…
Мы добрались до гостиницы, устроились за столиком, выпили по чашечке чудесного кофе – и на душе у меня стало поспокойнее. Старик тоже как будто повеселел.
– Откуда вы, из каких мест родом? – спросил он приветливо.
Я назвал родной кишлак.
– Слышал, как же, да побывать не пришлось… Я, как видите, тоже узбек… Только вот уже сорок лет почти не видел родины… И не судьба уж, наверное…
Старик опустил голову, задумался, я не хотел мешать ему… Чем-то он был похож сейчас на давешнюю старуху, что-то близкое в выражении лица почудилось мне…
Я попросил принести еще кофе. Старик поднял голову:
– Хотите послушать мою историю?
– Хочу, – сказал я.
II
– Родился я в кишлаке Чалыш. Это под Хорезмом, на берегу Амударьи. Может быть, приходилось бывать в тех местах?.. Ну вот, а когда мне минуло четырнадцать лет, мы всей семьей переселились в Новый Ургенч.
Отец мой считался по тем временам человеком ученым, занимался же торговлей и еще умел лечить. Во дворе у нас вечно сидели несчастные в язвах, струпьях, с нечистыми повязками… Я смотрел на них с отвращением, отец заметил это и сказал так:
– У русских есть пословица: от тюрьмы да от сумы не зарекайся. Не считай себя, сын мой, выше этих больных людей, ибо страдания их – от бедности, от нищеты. Многие болезни может побороть знание, но нет лекарства от бедности. Берегись ее…
Моя мать, любившая отца и всегда помогавшая ему, согласно кивала головой, слушая его наставления. Мама была молодой, моложе отца на двадцать лет: отец – я видел – баловал ее. Она могла не заниматься обычной женской работой, на то были служанки, а мама много читала, знала наизусть древних поэтов – иногда вечерами она, чуть нараспев, читала отцу вслух, и я тоже слушал, и мог слушать ее без конца. Счастливое было время… И еще помню, мама сама пробовала складывать газели, отец в минуту отдыха весело просил ее почитать свое… Семья наша была дружной, и сам я был всему причиной: отец долго хотел иметь сына, но женился поздно, уже под пятьдесят, – мол, только шайтану не на что надеяться! И вскоре родился я, единственное и ненаглядное дитя, и рос, видя в родителях внимание, заботу и любовь…
Но светлое мое детство неожиданно оборвалось. Я запомнил эти дни, ибо переменилось многое: в Хиве свершилась революция, прогнали Джунаид-хана, и провозглашена была Хорезмская народная республика…
Отца я теперь часто видел озабоченным и встревоженным. Мама тоже была невесела и даже сильно похудела – она вообще была некрепкая здоровьем, наша мама… А рассказывал мне о происшедших событиях и толковал их один русский человек, давний друг нашей семьи, инженер, звали его… звали его – да, Константин Степанович Лойко. Он многому научил меня и необыкновенным образом повлиял на мою судьбу – поэтому расскажу о нем немного…
Так вот, был он инженер, сосланный в наши края еще в девятьсот двенадцатом году… Помню – высокий, худой, сильно загоревший под нашим солнцем, и кожа на носу облуплена. С отцом они были приятели, и Константин Степанович частенько наведывался к нам, сперва в Чалыш, а потом и в Ургенч. Помню его рассказ о том, как отец мой вылечил его, спас от смерти, когда он только приехал к месту ссылки… Может, было еще что, не знаю, но помню, что отзывались они с отцом друг о друге с почтением, и, отправляясь в дальние торговые поездки, отец просил Лойко не забывать нас с матерью и помочь и защитить, если потребуется… И я любил Константина Степановича – он свободно владел узбекским и рассказывал мне о России, о Петрограде и Москве, от него я впервые услыхал имена Пушкина и Толстого, узнал о Горьком… Наверное, одним из первых в нашем городе прочитал я с его помощью «Капитанскую дочку» – и до сих пор помню, как хотел быть Гриневым, как мечтал вырвать свою Машу из рук неведомых злодеев… Прочитали мы и «Песню о Буревестнике»… А город Ургенч в это время гудел, как встревоженный улей. Народ, ставший вдруг хозяином земли, хозяином воды, почувствовавший себя хозяином жизни и смерти, – народ толпился на улицах, ибо стены домов не в силах были вместить его радость и гнев… Кого-то проклинали, кого-то славили, благодарили аллаха за избавление от ханской власти, передавали слухи…
В один из этих взбудораженных дней отец вернулся домой сгорбленным и постаревшим, заперся у себя и не выходил до вечера. Вечером приехал Константин Степанович – при новой власти он сделался значительным лицом: они с отцом долго беседовали и, кажется, впервые за все время дружбы поспорили. Я слушал их разговор – так захотел отец.
– Я понимаю, вам нелегко смириться с утратой, – тихо говорил Лойко, глядя в невидящие глаза отца, – но вы – из самых образованных людей города, вы должны понять нас: революция – это равная жизнь для всех…
– Прекрасно, но я-то, я-то при чем? – потрясенно спрашивал отец, и мне было жалко и страшно видеть его слабость. – Вся жизнь… Все, что имею, собрано по копейке, ничего, понимаете, ничего не нажито обманом или чужим трудом… Ведь вы же видели сами, правда?.. Посмотрите на моего сына – для него трудился, собирал, чтобы ему жить по-человечески, чтобы ему не знать бедности! Я – старик, я болен, сколько мне осталось! – но что будет с ним? Я ли не видел нищих, я ли не говорил…
– О Бекджане и о будущем его не беспокойтесь, – утешал Лойко. – Старое богатство ему и не понадобится, он будет учиться – в этом его богатство и счастье… Революция, социализм – это ведь все и для наших детей, для молодых. Скоро вы сами увидите и поймете…
– Не могу, не желаю вас понимать! – крикнул отец и вдруг поднялся, схватившись за сердце, пошатнулся…
Мы с Лойко подхватили его, не дали упасть, усадили в кресло… В лице у отца не было ни кровинки, губы побелели…
– Не желаю… – прохрипел отец и закрыл глаза, будто не хотел видеть Лойко.
Константин Степанович поднялся, виновато попрощался, вид у него был растерянный, а отец не ответил ему.
Провожая гостя, я спросил:
– Что же именно стряслось, я не понял из разговора.
– Маргеланский банк национализирован, перешел в руки государства, – объяснил Лойко.
Я знал, что в этом банке хранились все деньги отца, и понял одно: мы стали нищими…
Лойко увидел, что мне не по себе, и добавил:
– Ты не тревожься о будущем… Поедешь учиться! Твоему отцу трудно понять революцию – он совсем старик уже, и у вас разные пути… Для будущего твоего не богатство важно, а учеба, знания… – Он еще что-то говорил, но я плохо понимал его да и не слушал – все мысли мои в эти минуты были об отце.
Так ничего и не ответив гостю и не попрощавшись с ним, я поспешил к отцу. Он, по-прежнему неподвижный, полулежал в кресле, сжав кулаки и закрыв глаза…
Я подбежал к отцу, взял его за руку – и выронил ее…
– Папа, папочка, папа… – звал я и не дождался ответа.
Отец не перенес потери всего своего состояния, не выдержало сердце…
… Мама слегла от горя. Помочь, утешить и ободрить нас приехали из нашего кишлака родственники и друзья отца, дни проводили у маминой постели. Но удивительно – слова утешений будто давались им с трудом, зато с охотой рассказывали о собственных несчастьях – и было что послушать. Оказывается, несколько дней назад, ночью, на кишлак напали вооруженные всадники, и будто бы видели люди у них на шапках красные звезды. Разграбили эти всадники с десяток дворов, немало забрали разного добра, и угнали с собой коров, и увезли несколько молоденьких девушек. И особенно пострадал близкий наш родственник – мой дядя Алибек, брат отца, с детства немой… Его дом остался стоять пустым… Женщины, приехавшие из кишлака, плакали, рассказывая о беде, и дядя тоже беззвучно раскачивался в плаче, хоть и не мог сказать…
Я знал про него, что еще мальчишкой, чем-то сильно напуганный, он лишился речи: отец мой долго пытался вылечить его и, потерпев неудачу, возил брата к знаменитым у нас врачам. Но немота осталась. Дядя все слышал и понимал, мог читать и писать, но говорить ему не было дано.
Отца похоронили, родственники гостили у нас, оставив собственные несчастья, и старались помочь нашей осиротевшей семье, шли дни, – но правильно говорят: беда одна не приходит…
На сороковой день после смерти отца, когда собрались в нашем доме родственники и друзья помянуть усопшего, мама моя покинула эту жизнь… И я остался один, осиротевший и в осиротевшем доме.
Родственники мои рассудили, как быть со мной, и решили так: ко мне должен был переехать и жить в нашем доме дядя Алибек.
Но как говорить с немым, как выразить, рассказать ему боль души, как получить ответ, в чем найти утешение?..
С дядей мы встречались за едой – он прекрасно умел готовить, а остальное время надо было чем-то занять… Я был так потрясен смертью родителей, что даже в шумной толпе на улице, среди праздника с песнями и музыкой чувствовал себя неприкаянным… Я не знал, куда пойти, тосковал и наконец нашел какое-то прибежище и покой в чтении книг, оставшихся после отца.
Я почти перестал выходить на улицу и, кажется, потерял всякое представление о происходившем в городе, навещал лишь могилы отца и матери. Поднявшись утром и позавтракав с дядей, я забирался в комнату отца и читал, и читал запоем. Дядя Алибек куда-то уходил на весь день, а вечером я читал ему вслух – совсем как недавно мама читала отцу… Дядя слушал и, если нравилось, довольно покряхтывал, если же нет – тихонько валился на бок и мирно засыпал, мой удивительный дядя…
Сколько так времени прошло – не помню, но окончилось это время неожиданно.
Однажды я стоял у могилы отца, и на душе у меня было страшно тоскливо, хоть вой, как бездомная собака. И тут кто-то взял меня за руку. Я обернулся – Лойко! После смерти отца я плохо думал о нем, но сейчас, когда я увидел его доброе худое лицо, жалость к себе сжала мне сердце, и я заплакал, уткнувшись ему в плечо…
В тот же день я уехал с Константином Степановичем в Хиву – он не бросил меня. Подготовившись с его помощью, я сделался учителем – стал работать на курсах ликвидации неграмотности. Хива была тогда столицей молодой советской Хорезмской народной республики. Хива бурлила, увлекала и притягивала, народ начинал строить новую жизнь, что-то разрушалось, что-то воздвигалось, кипели страсти, открывались новые горизонты, и я был захвачен стремительным потоком…
Ах, судьба сыграла со мной злую шутку! Зачем не остался я в тихом Ургенче, вдали от страстей, опасностей и забот? Ведь если б я не уехал с Лойко в Хиву, жизнь, может статься, не послала бы мне тех испытаний, не стал бы я одиноким скитальцем в чужом краю, не измучил бы душу в тоске…
Но не дано нам знать наперед, чем обернется завтрашний день, и двигался я по жизни с закрытыми глазами. О, если б прозреть мне раньше, твердо стать ногами на землю, окрепнуть душой!.. Но нет – жизнь вела, несла меня, и я подчинялся ходу событий. Хотя, конечно, этого я не понимал – я пришел в себя, вернулся наконец к жизни после смерти родителей, будущее манило меня, я строил планы, собирался поехать учиться…
О радужные мечты, необузданные желания молодости, кого не манили вы призраками далеких столиц, и сверканием звездного неба, и пылью дорог, и шумом амударьинской волны на закате, и загадочной улыбкой девушки!..
О радужные мечты молодости, кого не обманывали вы и кто не предавал вас! Человек – раб судьбы своей… Нет! – скажете вы? Но я, я оказался рабом…
Я уже работал в Хиве на курсах ликвидации неграмотности, меня считали способным преподавателем, и когда в городе появились комсомольцы и образовался комитет комсомола, я готов был идти с ними.
Однажды на курсах, где я был учителем, объявилась комиссия из какого-то высокого правительственного учреждения. Комиссия проверяла всю работу курсов, и в том числе интересовалась классовым происхождением преподавателей. На мое счастье, в составе комиссии оказался и Лойко, он, видно, поручился за меня, поэтому мной особенно не интересовались, проверили только, как идет учеба. Когда комиссия закончила работу, председатель пригласил меня к себе. В кабинете находился Лойко. Он заговорщически подмигнул мне.
– Константин Степанович, – начал председатель комиссии, – хорошего мнения о ваших способностях, а мы – хорошего мнения о вашей работе здесь, на курсах. Нам нужна способная молодежь, вы неплохо зарекомендовали себя, и мы хотим предложить вам продолжить образование. Мы отправляем в Москву (сердце мое радостно дрогнуло!) группу молодежи – учиться. Вы можете поехать с этой группой.
От счастья я, как говорится, головой неба коснулся.
– Спасибо, спасибо… – благодарил я, а сердце прыгало в груди, и хотелось обнять их, председателя и Лойко, кричать от радости, бежать, оповестить весь мир о своем счастье – его и хватило бы на весь мир.
– Нам жаль отпускать хорошего преподавателя, но мы понимаем: через несколько лет нам понадобятся тысячи знающих людей, много тысяч, и времени терять нельзя. Не теряйте его и вы – жизнь открывает перед вами дверь в чудесный сад знаний… Дерзайте! Но это в будущем, а завтра приходите в комитет комсомола, мы говорили там о вас…
– Помнишь, – сказал мне Лойко, – помнишь мои слова, что знания – твое богатство? Не деньги, нет, а знания и работа для народа. Республика посылает тебя учиться!
Домой я прилетел как на крыльях, легкий и обновленный радостью. Здесь, в Хиве, я снимал комнату у старушки, сын которой, красноармеец, преследовал сейчас под Ходжейли отряд басмачей. Увидев меня, добрая старушка подумала, видно, что я заболел, – взмок, запыхался – бежал от самых курсов…
– Вай, что с тобой, что стряслось, сынок?
– Все отлично, не бойтесь, просто я еду в Москву! – Я обнял старушку. – В Москву, понимаете?
– Как, как? Москов?!
– Да, да, в Москву, там, в Москве, живет Ленин!
– Вай улай! – Изумленная старушка забыла закрыть рот, я же отправился к себе в комнату и стал перебирать свои вещи, не зная, что укладывать в первую очередь.
И вдруг я сообразил: «Дядя! Нельзя же уехать, не известив его!» Я написал короткое письмо и отправился на базар – там можно было встретить арбу с зерном, отправлявшуюся в Ургенч.
Я заплатил арбакешу, объяснил, кому передать письмо, и вернулся к себе.
Ночь тянулась без сна, счастливые мысли не давали мне заснуть, жизнь в столице представлялась раем. О чем я мечтал в те безмятежные часы? Кажется, я прожил в своем воображении целую счастливую жизнь. Если бы эти мечты сбылись! Но не дано нам знать наперед свою судьбу…