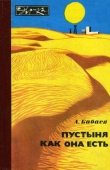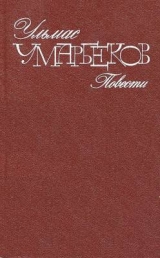
Текст книги "Пустыня"
Автор книги: Ульмас Умарбеков
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 5 страниц)
III
И на следующий день ощущение праздника не оставляло меня – радостные события сменяли одно другое, как в счастливом сне.
В комитете комсомола меня приняли как товарища по общему делу, как своего – да так оно и было в действительности. Я узнал, что в Москву едут учиться еще двенадцать человек и что вся группа отправляется через два дня… Как провести их, как дождаться отъезда? – время, прежде несшееся вскачь, теперь будто застыло.
Простившись с работниками комитета, я брел в задумчивости по улице – и вдруг звонкий девичий голос окликнул меня:
– Бекджан!
Я обернулся и увидел девушку в кожаной куртке, в каких ходили у нас в городе комсомольцы: девушка была очень красива, и почему-то запомнились мне тугие ее косы, черной короной уложенные вокруг тюбетейки. Я смотрел – и узнавал, и не узнавал, и, наверное, глупо таращил глаза, потому что девушка рассмеялась и спросила:
– Не узнаешь?
Но я увидел уже знакомую ямочку на щеке и обрадовался:
– Гавхар!
Мы подали друг другу руки.
– Что, сильно я изменилась?
– Очень! Совсем большая стала, а?
– Ты тоже переменился… Я не сразу поняла, что это ты. Гляжу – и понять не могу, кто ж такой? То ли ты, то ли похожий кто…
Она снова рассмеялась, а я слушал и все не мог отвести от нее взгляд.
Наконец я почувствовал неловкость – нельзя лее любоваться девушкой и ничего не говорить ей. Я смущенно откашлялся и спросил:
– Слушай, а как ты здесь оказалась?
– Да я вот тут работаю, – она кивком указала на комитет комсомола. – А ты?..
– А я уезжаю… через два дня. В Москву, учиться!
– Как, в Москву?! – Гавхар радостно захлопала в ладоши. – Я ведь тоже еду!
– Правда?! – Я схватил ее за руки и счастливо смеялся, а говорить больше ничего и не нужно было уже… – Слушай, что мы тут стоим, идем пройдемся по городу, ведь надолго уедем…
– Идем… Подожди меня здесь, я скажу на работе.
Гавхар побежала к дому комитета комсомола, а я, как во сне, глядел ей вслед…
Гавхар была родом из того же кишлака Чалыш, что и я, и знали мы друг друга с детства. Дом их стоял у самого берега Амударьи, отец ее рыбачил и еще работал в мастерской, где ремонтировали баржи, ходившие по реке до самого Арала, – но все равно семья их жила бедно, гораздо беднее нас. Я любил играть на берегу, у дома Гавхар, и подружился с ней.
Гавхар очень уж сильно отличалась от всех других девочек кишлака и пользовалась неслыханной свободой – как я сейчас понимаю, оттого, что отец ее работал в мастерской вместе с русскими рабочими и дружил с ними. Рабочие любили Гавхар и, когда она приходила к отцу в мастерскую, старались угостить чем-нибудь повкуснее – то пряником, то куском сахара. А вот родственники наши не одобряли ни Гавхар, ни ее отца, – меня даже бранили, если становилось известно, что я был в мастерской… Но мне и горя мало! Гавхар любила принимать участие в наших мальчишеских затеях и играх, но часто мы с ней, оставив приятелей, уходили вдвоем вдоль реки, далеко-предалеко, или смотрели, как работают в мастерской… Когда я выходил из дома, я всегда знал, где найти Гавхар: летом чаще всего мы сидели вдвоем на берегу Амударьи в зарослях джиды, болтали, мечтали, смеялись, выдумывали разные разности, и нам не бывало скучно друг с другом.
А когда наступали сумерки, и воздух наполнялся стрекотом кузнечиков, и начинали свой концерт лягушки, а от кишлака слышалось блеянье ягнят, мы поднимались на холм возле зарослей джиды и слушали в прохладном воздухе нехитрую эту мелодию, и было нам страшно и хорошо в темноте среди звуков ночи, и все это еще больше сближало нас…
Однажды, как раз перед нашим отъездом в Ургенч, Гавхар упала с дерева и вывихнула ногу. Позвали скорей моего отца, и он сердито ворчал – никогда, мол, не видал такой озорницы, безобразие какое!
А мама моя смеялась и сочувствовала. Может, даже завидовала такой свободе, а?
Через несколько дней мы всей семьей уезжали в Ургенч.
Я пошел проведать Гавхар – она лежала на веранде, на тахте, и скучала и маялась без беготни и игр. Увидела меня – обрадовалась, заулыбалась, попробовала подняться. Но разговор вышел грустный.
– Значит, уезжаете?
– Да, завтра…
Она молчала, я тоже, – у меня комок подступил к горлу… Ну зачем, для чего родители переезжают в Ургенч? Чем здесь было плохо? Как я не любил их в эту минуту, как хотел остаться!
– Ау нас корова отелилась! – сказала вдруг Гавхар.
– Когда?
– А ночью… Теленочек красивый такой, я за ним ухаживать буду… А завтра мы молозиво будем варить. Ты любишь?
– Да.
– Я тоже… Я уже ела один раз – ох, до чего сладкое! – она даже зажмурила глаза от удовольствия. А когда открыла их, они снова были грустные. – Значит, мы теперь больше не увидимся?
– Как… не увидимся? – растерялся я.
– А разве… разве вы еще приедете?
– Не знаю…
– Ну, когда вернешься, я уже поправлюсь, вместе пойдем джиду собирать, – в этом году много-много соберем… ее много в этом году… А этот Ургенч, куда вы едете, далеко он от нас?
– Папа говорит, целый день ехать надо.
– А я вот поправлюсь и тоже приеду в Ургенч, мой папа обещал взять меня!
Гавхар улыбнулась, и я успокоился. На прощанье я принес ей подарок – выстрогал деревянный кинжальчик, покрасил грифелем от карандаша, и получилось – будто стальной: я незаметно сунул кинжальчик под подушку Гавхар.
Дома уже сердились, ожидая меня: пора трогаться, куда пропал! Я взобрался на арбу, уселся на вещи и с высоты увидел: у ворот своего дома стоит, опираясь на палку, Гавхар – допрыгала, что ли, на одной ноге? У меня защипало в носу и на глаза навернулись слезы…
Арба тронулась, и Гавхар смотрела нам вслед, а я смотрел на нее, пока туча дорожной пыли, взбитой колесами арбы, не разделила нас.
* * *
С тех пор минуло несколько лет, и я не видел все это время ни Гавхар – так ей и не удалось приехать в Ургенч, – ни ее отца… И вот теперь не сразу узнал ее – тощий черненький чертенок с косичками превратился в красавицу…
Но вот Гавхар вернулась, и мы пошли по улочкам нашего города, сами не зная куда, – девушка впереди, а я, стесняясь и все еще немного робея, чуть сзади… Вышли к ханскому дворцу – горячий воздух, казалось, дрожал у раскаленных иод солнцем глинобитных стен.
Миновали духовное училище – медресе, теперь в этом здании была школа, и оттуда почему-то вкусно пахло жареной рыбой. Я потянул носом и сказал:
– Давай завернем на базар, а?
– Да, – согласилась Гавхар, – я тоже голодная.
Базар напоминал большой муравейник, со своей особо устроенной жизнью, приливами, отливами, течениями и водоворотами. Мы едва не потеряли друг друга. Наконец добрались до цели – и наградой нам были куски только что поджаренного сома на глиняной плошке. Потом мы ели, обрывая по одной, длинные, с мизинец, и прозрачные виноградины, и, кажется, я в жизни не ел ничего слаще. Гавхар не отставала от меня…
– А там… – она помолчала, давая мне время сообразить, где «а там», – … а там есть виноград, как ты думаешь?
– Давай захватим отсюда…
Вдруг базар вокруг нас угрожающе загудел, толпа с криками хлынула к воротам.
Гавхар встревожилась.
– Идем, посмотрим, что случилось.
– Идем.
Вместе с толпой нас вынесло на улицу.
– Что случилось, куда все бегут? – спрашивал я у людей, но они, кажется, и сами не знали, почему опустел базар и что ожидает нас там, куда мы направляемся.
Вот мы поравнялись с караван-сараем, и движение замедлилось. Я почувствовал, что толпа накалена. Прислушался к крикам:
– Выше его подымите, чтоб всем видно было!..
– На арбу его, проклятого богом, поставьте, на арбу!..
Толпа качнулась, подалась назад, отступая от караван-сарая. В образовавшемся круге встал на что-то, поднялся над головами незнакомый мне человек, в халате, пожилой и седоусый. Рядом с ним появилось еще несколько мужчин – и у одного из них руки были связаны за спиной, а черная папаха лихо надвинута на самые глаза. Его сразу признали. Толпа грозно загудела, люди тесно обступили возвышение, где стояли, видные всем, связанный человек и сопровождавшие его, замелькали поднятые кулаки, раскрылись в крике рты, загорелись глаза… Послышались ругательства и проклятия, забилась в истерике женщина…
– Лю-у-уди! Тихо! – закричал с возвышения седоусый, и голос его слышен был в реве и плаче. Он поднял над головой руки. – Лю-у-у-уди!
Толпа поутихла, только всхлипывала поблизости женщина.
– Слушайте, люди! – бросил в толпу седоусый – его, видимо, знали и потому слушали. – Есть здесь кто-нибудь, кто не знает этого человека?
Он показал на связанного в черной папахе.
– Нету, нет! – раздалось несколько голосов у возвышения.
– Кто же перед вами, скажите, люди!
– Палач! – в несколько голосов будто выдохнула толпа.
– Да, это палач! Он перед вами! Палач хана! Он убивал вас, люди, сегодня он в ваших руках! Что делать с ним, какого наказания он достоин?
– Смерть! – снова выдохнула толпа.
– А ты что скажешь? Подойди сюда! Вот он, перед тобой… – и пояснил толпе: —У этой несчастной двух сыновей зарезал, отродье собаки!.. Говори же! Вот он, перед тобой, – убийца твоих сыновей!
Связанный попятился.
Но старуха не поднялась из толпы, я услышал лишь сдавленный голос:
– Пусть ослепнут мои глаза, если еще увижу его!
– Грех говорить так! – прервал ее седоусый. – Пусть он не увидит тебя – правильно я говорю, люди?
Толпа загудела, палач втянул голову в плечи. И вдруг я увидел его глаза – каким огнем, какой злобой горели они!
Говоривший с толпой старик придвинулся к палачу, сорвал с его головы папаху, бросил вниз. Легкое Движение толпы, и клочки папахи пропали под ногами.
Палач нагнул бритую голову и стал похож на быка, готового броситься и растоптать.
Седоусый снова обратился к толпе:
– Аминь! Аллах велик! – Он поднял руки, будто в молитве. – Аминь! Возьмите его!
Сильным пинком он столкнул палача вниз, под ноги ждавших этой крови людей…
– Господи, как же… – я не мог даже договорить.
Гавхар обернулась ко мне, лицо ее побелело.
– Да, его нужно было судить. Но кто из этих людей сейчас поймет…
Толпа с криком боли и торжества сомкнулась и уже не было пустого места у возвышения, а было лишь колышущееся море голов и движение…
Вдруг послышался вопль старухи:
– Мне! Дайте мне!..
Гавхар потянула меня за рукав, и мы стали выбираться из толпы. Молча прошли по улочкам, вышли за городскую стену и, не сговариваясь, направились к небольшому озеру, поблескивавшему невдалеке, и все это время мы не могли говорить друг с другом, чувствуя себя причастными к расправе там, на городской площади…
– Страшно… – первым заговорил я. – Один – и толпа… Этим и страшен самосуд – пощады просить не у кого, на милосердие или жалость надеяться нечего…
– А он… он вспоминал о жалости? – Гавхар приостановилась, лицо ее побледнело от гнева. – Ты думаешь, он считал за людей тех, кого убил, или посчитал бы людьми нас с тобой?.. Такие, как он, – голос ее зазвучал тише, – такие звери убили моего отца… А маму… связали, и руки и ноги скрутили – и в огонь, в горящий дом, – сожгли в собственном доме…
Я слушал тихий рассказ Гавхар и не мог поверить – не ей, а себе, что вижу и слышу ее, что она стоит передо мной и говорит наяву, а не в кошмарном сне… Я же знал их, я же… господи, да как же это может быть!
– Как же это может быть! Когда?.. И кто?
Мы двинулись дальше, к озеру, и Гавхар рассказывала, не глядя на меня.
… Это случилось почти два года назад. На кишлак напали басмачи, неожиданно – кто-то из местных предупредил их, когда соберется и будет заседать кишлачный комитет. Схватили всех и тут же, не рассуждая долго, всех расстреляли, и отца Гавхар тоже, он был председателем комитета… Потом согнали жителей кишлака, и на глазах у них подожгли дом председателя, и связали мать Гавхар, и бросили живую в огонь… «Кто выйдет за большевика – каждую ожидает такая судьба! От нас не спрячешься!»
– Их поймали?..
– Нет. Сумели уйти от погони… А ты говоришь – самосуд, страшно… А я бы – своими руками задушила… За отца, за маму, за всех наших… Совсем одна я теперь осталась, вот… – печально закончила она.
– Прости меня… – Я хотел еще добавить – пусть она не думает, что одинока, я буду охранять и защищать ее, – но не посмел сказать, только подумал и пообещал себе.
Наконец мы подошли к озеру и присели на траву – плакучая ива опустила тонкие ветки к самой воде, было тихо и грустно. Гавхар сняла свою кожаную курточку, она сидела по-восточному, скрестив ноги, и закрыла глаза, то ли прислушиваясь к чему-то, то ли просто отдыхая. Я хотел заговорить с ней, она не ответила, сидела задумавшись. Так мы просидели долго, наверное с час. Но я хорошо знал Гавхар и помнил, что она и в детстве была такая: что-нибудь встревожит ее – притихнет и долго-долго сидит, спрятав лицо в ладонях… Да, но тогда я знал, что взволновало ее, а сейчас я только гадал о том, где ее мысли, – в кишлаке ли, в местах нашего детства, или у пожарища – всего, что осталось от ее дома, или у могилы родителей, или, может быть, она уже в Москве? Как хорошо, что мы едем вместе!
Вечерело. От воды потянуло прохладой, набежал, поиграл прядкой волос Гавхар и улетел куда-то ласковый ветерок. Где-то поблизости заквакали, залились на разные голоса лягушки. Гавхар надела кожанку, взглянула на меня, улыбнулась:
– Помнишь, сколько джиды росло на берегу?
– Гм… ты с какого дерева тогда свалилась?
Гавхар засмеялась:
– Вовсе и не там… Это когда я воровала джиду…
– Господи, зачем же воровать – в каждом дворе полным-полно, везде растет!
– Да, но я охотилась за чилан-джидой, она особенно вкусная, – принялась объяснять Гавхар. – Для мамы… Она не знала, конечно, что без спросу таскаю… Настаивала она эту чилан-джиду и пила… Полезно для здоровья, говорят. Только вот росла эта джида в саду у твоего дяди, больше ни у кого не было. Я сколько раз собирала – понемножку, никто и не замечал… А тут вот спрыгнула неудачно, показалось, дядя твой в сад пришел…
– Что ж меня не попросила, я бы сам для тебя нарвал!
– Постеснялась я… И так твоя мама, я видела, целое сито унесла от дяди в тот день…
Я погладил руку девушки, она печально улыбнулась.
Мы еще долго разговаривали в этот вечер, вспоминали детство, родителей, наш кишлак… За то время, что мы не виделись, и Гавхар и я потеряли родителей, и общее горе сближало нас…
Стемнело, на бархатном небе разгорелись крупные звезды, показался неяркий месяц: вода засеребрилась в лунном свете: протяжная светлая песня послышалась за озером – мы замолчали, прислушиваясь, а потом, не сговариваясь, обошли озеро. В темноте мы разглядели лишь удалявшуюся тень: человек, видно, разобрал запруду в арыке, пустил воду на поле и уходил дальше.
– Красивая песня, – сказала Гавхар, – красивая и счастливая… А ты – счастливый? – вдруг спросила она.
Я улыбнулся.
– А ты?
– Я – да. Я очень счастливая…
– Ия тоже…
Она коснулась моей руки, и сердце мое запрыгало в радостном волнении.
Когда мы вернулись к комитету комсомола, где жила Гавхар, было уже поздно, город казался вымершим, и было трудно представить, что днем эти улицы наполняла бурлящая разгневанная толпа… Все спокойно было и тихо…
– До свиданья!
– Увидимся завтра?
– Нет, завтра я должна съездить в Хазарасп – родители одной из девушек не хотят отпускать ее в Москву… Но послезавтра я буду ждать тебя…
– До свиданья…
Гавхар ушла к себе в дом, я же побрел по сонным улицам, не видя, куда несут меня ноги.
Я чувствовал себя счастливым избранником, баловнем судьбы: я повстречал Гавхар, мы вместе едем в Москву! Позади останется этот, так и не ставший мне родным, город, его пыльные закоулки и глиняные домишки, чахлые, полузасохшие деревья и нескончаемая духота, наполненная страстями и схватками тревожная жизнь – все, все останется позади.
А впереди – учеба, Москва, и Гавхар будет рядом со мной…
Я тихонько брел куда-то, кажется, даже начинал петь, и не видел вокруг развалившихся глиняных стен, – меня окружали пышнолистые деревья и дивной красоты цветники, а среди них поднимались белые дворцы… Так я представлял себе Москву…
Я брел, как во сне, и понимал, что это сон, и не хотел, чтобы он прервался, – никогда в жизни еще не было мне так хорошо.
У бывшего ханского дворца – теперь здесь помещалось правительство республики – меня окликнул грубый голос:
– И не стыдно тебе, парень! В твой-то годы так напиваться! Куда смотрит твой отец!
Я очнулся от грез и увидел перед собой старика с ружьем – сторожа у ворот дворца.
– Да не пил я, отец, не беспокойтесь!
– Гм, вроде на пьяного ты не похож! – удовлетворенно заметил старик и добавил, довольный: – А я вот, правду говоря, не без греха – выпиваю, случается со мной, да… Сейчас-то я, конечно, как стеклышко, – он покачнулся, – на посту я стою, вот! Видишь, – он поднял ружье, – вся власть у меня, вот! В этих трудовых руках! Но когда радость в доме – отчего ж не выпить! Сын у меня уезжает учиться в Москов, не слыхал?..
– В Москву?
– Ну да… Не знаешь его? Сам, наверное, нездешний, да? Его тут все знают, моего сына, – Джуманазар
– зовут, – не слыхал? Так я – его отец! Знай: учиться едет мой сын Джуманазар, послезавтра его провожаю – всего двенадцать их едет, и мой сын там… – Старика так и распирало от гордости, – видно, не будь он на посту, тоже не прочь был бы, как и я, побродить по городу и напевать что-нибудь себе под нос…
– Скажи ты мне, сынок, вот что – какое, по-твоему, по-молодому, самое лучшее ученье? Сам-то чему учен, а? Чему сына научить?
– Не знаю, отец, он сам выберет.
– Да глуп еще он! «Хочу, говорит, при машине быть… На пароходе плавать по Амударье хочу…» Я ему: «Дурень ты, говорю, что ж ради машины в такую даль забираться, в Москов ехать? Нет – ты учись самому лучшему ученью, а самое лучшее ученье – у товарища Ленина! Не сделаешь по-моему – не дам тебе родительского благословения и в Москов не пущу!»
Старик, видно, был очень доволен собой и ждал одобрения своим словам. Когда я, соглашаясь, закивал головой, он внушительно закончил:
– Вот и ты, сынок, с пути не сбивайся! И не пей – ни-ни!.. Погоди-ка! – Он вернулся к своей скамье у ворот, достал из-под нее мешок, добыл оттуда дыню и отрезал мне тяжелый ломоть. – Бери на здоровье!
Домой я вернулся поздно. Моя хозяйка, старая Султан-паша, не ложилась, ожидая меня.
– Слава аллаху! Пришел наконец! – обрадовалась она. – А я уж думала, не уехал ли, часом, и попрощаться не зашел…
– Ну что вы!
Но добрая старушка уже не слушала меня, суетилась у очага и скоро поставила передо мной ужин – яичницу с кислым молоком. Села рядом и ласково, как на сына, смотрела на меня – как я ем. А я был голоден, еда была вкусна, и яичницы вмиг не стало…
Кажется, это было в последний раз – я чувствовал себя дома, будто у родных, и ел пищу, приготовленную для меня заботливыми руками…
IV
Утром я отправился на курсы, где работал, получил расчет и простился с товарищами. Все завидовали мне, моей поездке, и я стал уже считать часы, остававшиеся до отъезда.
Когда я вернулся домой, тетушка Султан паша встретила меня на улице и предупредила, что пришел какой-то человек и ожидает меня.
Смутное беспокойство шевельнулось во мне, когда я увидел чернобородого мужчину в годах, увидел щелочки его глаз. Будто взгляд его кольнул меня…
– Вы Бекджан? Я привез письмо от вашего дяди. Прочтите при мне.
Я удивился, взял письмо. Никогда дядя не писал мне, что-то особенное должно было случиться…
Я встревожился уже не на шутку.
«Бекджан, мальчик мой, – писал дядя, – я получил весточку от тебя и узнал о твоей поездке. Не хочу таить от тебя свои мысли: не по душе мне твое намерение. Ты знаешь о моей любви к тебе, плохого не посоветую, и говорю откровенно и надеюсь, что простишь, не обидишься на меня, не отвернешься…
Я хотел бы приехать к тебе, увидеть и обнять тебя, но человек нынче не хозяин своей судьбы!
Как раз в тот день, когда пришло твое письмо, власти выгнали меня из дома твоего отца, и я должен уйти из Ургенча. Власти описали имущество и тут же увезли) дом, библиотека, все хозяйство разорены… Что я, несчастный, мог сделать? И еще ты не знаешь: за два дня до того приехали люди из нашего родного кишлака и принесли скорбную весть – все мои земли, и дом, и все имущество власти отобрали себе… Теперь мы нищие с тобой, мой Бекджан… Что мне остается, горемыке, – пойду по миру, буду искать себе пристанище. Но я еще вернусь! Еще найду я тех, кто разорил меня, лишил дома и земли!
Власти говорят, что я – бай, что, мол, как паук, сосал кровь дехкан… Ну, обо мне разговор впереди, они меня еще не раз вспомнят, – но в чем провинились твой отец, твоя мать и ты сам? Что плохого твой отец, твоя мать сделали этим голодранцам? Лечили их, призирали, кормили – и те, как бешеные псы, кусают дающую руку! Почему ты, мой племянник, должен быть нищим?
Перед уходом побывал я у могил твоих отца и матери. Кто теперь присмотрит за ними, кто зажжет светильник в изголовье?.. Не пора ли вернуться к могилам родных и защитить их от позора?
Впрочем, ты человек взрослый и, конечно, подумаешь, прежде чем сделать важный шаг. Скажу одно: я на твоем месте не поехал бы в их Москов – не поехал из уважения к памяти отца и матери, к их погубленным жизням. Пусть отправляются туда голодранцы, им нечего оставить здесь.
И еще предупреждаю: ехать опасно, мало ли что может случиться в дороге…
Если захочешь увидеть меня, тебя проводит тот человек, что привез письмо, или можешь спросить обо мне в Ургенче у Берд ара-сапожника…
Меня словно окатили ледяной водой, я смотрел в растерянности на незнакомца, мысли мешались в голове. Наконец я спросил:
– Где сейчас дядя?
– Два дня пути.
Я не знал, что делать.
Приезжий поднялся.
– Если понадоблюсь, найдешь меня на базаре.
Он ушел, а я все не мог сообразить, что же мне делать. Наконец я словно очнулся. Бросился на курсы, – там у нас были на случай хозяйственных надобностей лошадь и арба, а при них арбакеш. Я упросил его дать мне лошадь до завтрашнего утра и, не тратя больше времени на сборы и раздумья, отправился в Ургенч.
К вечеру я добрался до нашего с дядей дома, принадлежавшего раньше моим родителям. Первое, что я увидел, – настежь распахнутые ворота… Из дома, волоча за собой наш самовар – отец привез его из Ташкента, – вышла незнакомая старуха…
– Бабушка, что это вы делаете? – окликнул я ее.
– Ничего, сынок, домой вот иду. – Старуха смотрела удивленно.
. – А это вы зачем взяли?
– Вах, а я и не пойму, о чем ты! – Она сладко заулыбалась. – Да ведь почти ничего и не осталось в доме… Пустой стоит. А я вот – на память об Айпаше взяла, чтоб кому чужому не досталось. А меня она так любила, так любила!.. Да и хозяев-то нет, кому он теперь нужен, – она ласково поглядела на самовар. – Сын хозяйский уехал куда-то, и не слыхать его, немой Али тоже уехал, говорят… Так и стоит дом без призрения… Да сам-то ты кто будешь, сынок?..
– Я Бекджан, племянник немого Али и сын Айпаши…
– Вай улай! – Старуха испуганно прижала самовар к груди, потом, виновато улыбнувшись, повернулась к дому: – Сейчас чай поставлю!
Я вошел в дом. Окна были распахнуты, стекла выбиты, на полу – грязные следы, ошметки глины, – видно, побывало здесь немало людей. Разлетевшиеся листы какой-то книги… В кабинете отца книги грудой лежали на полу, разодранные, без переплетов…
В душе моей не осталось ничего – только горечь и гнев. Я попытался разобрать книги, рукописи – мне попались Фараби, Бируни, Авиценна… Попались сборники газелей, – мама читала из них по вечерам отцу…
Наконец я собрал все, что сохранилось из отцовской библиотеки, перевязал и погрузил на лошадь. Старуха спросила:
– Больше не придешь, сынок?
– Нет, – сказал я. – Не вернусь… А самовар возьмите себе… Здесь он никому не нужен…
– Спасибо, сынок, да будет счастливым твой путь! А чай-то, может, вскипятить, а?
Я вывел лошадь на дорогу и пошел, повел ее в поводу… Пошел, не видя ничего вокруг… Мысленно я был в нашем осиротевшем, разоренном доме… Кто же надругался над нами? Неужели большевики?
Я вспомнил Константина Степановича, вспомнил товарищей по курсам, вспомнил Гавхар… Нет, это сделали не такие люди! А какие?
И я увидел площадь у караван-сарая, себя и Гавхар среди распаленной толпы, ханского палача с окровавленным лицом… Да, эти люди могли разорить наш дом… Я снова вспомнил Лойко – как он стоял перед отцом и как отец, уже чувствуя в себе, наверное, смерть, спрашивал его:
– Чем я-то провинился? В чем моя вина?
Ведь он помогал всей махалле и лечил всех нищих, я же помню! Может, это достойно наказания, да? А отобрать и разорить наш дом – может, это лекарство от бедности? Средство сделать богатой ту старушку?
Я услышал, что разговариваю сам с собой вслух, и очнулся. Оказывается, ноги привели меня к кладбищу.
Начало темнеть. Я привязал лошадь к дереву и вошел за ограду… И сразу меня обступило особое молчание, а воздух стал полон особенных запахов, они что-то мучительно напоминали… и мне вдруг почудилось, что я – в нашем доме, а в соседней комнате – мама… Она каждый вечер сжигала у себя несколько сухих благовонных травинок „исирык“, я хорошо запомнил этот аромат, и сейчас он слышался мне в теплом неподвижном воздухе… Я шел по тропинке, и вишневые деревья вдоль нее низко и печально склонили ветви, а свет луны пробивался сквозь них и серебряными бликами, будто рассыпали целый поднос монет, ложился на песок. Мне показалось, что деревья похожи на могильщиков-стоят, скорбно скрестив на груди руки, и не движутся – боятся потревожить святую тишину…
Я свернул к могиле отца. Терпкий аромат трав смешивался здесь с теплым запахом отдыхающей от жары земли, у меня закружилась голова и запершило, защипало в горле… Я опустился перед могилой на колени и заплакал, горько и безутешно…
Раньше, давным-давно, когда мы жили здесь, я боялся один ходить на кладбище. Но сейчас я не замечал ни жуткой тьмы, окутавшей затаившиеся деревья и кусты, ни мертвящей тишины, ни своего одиночества… Я думал об отце с матерью, вспоминал их, свое счастливое детство и еще и еще раз прощался с ними… Я зажег свечу на могиле отца и на могиле мамы, я очистил обе могилы от колючек, и я долго стоял у святых для меня могил на коленях…
В Хиву я вернулся под утро, напугал своим появлением старую Султанпашу, отдал ей поводья, бросился к себе в комнату и, не раздеваясь, повалился на кошму.
Смерть родного дома была как бы частью смерти родителей, обе потери слились, и я, в мальчишеских горьких мыслях своих, винил во всем Лойко, власти, большевиков, и мне почему-то все вспоминался окровавленный палач там, на площади.