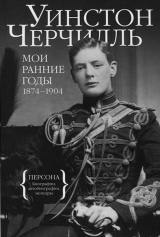
Текст книги "Мои ранние годы. 1874-1904"
Автор книги: Уинстон Спенсер-Черчилль
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
Писать книгу было огромным удовольствием. С книгой живешь. Она делается твоим товарищем, она окружает тебя неосязаемым, прозрачным коконом твоих мыслей и интересов. В каком-то смысле ты чувствуешь себя золотой рыбкой в стеклянном сосуде, особенном тем, что рыбка сама его для себя создала. И этот сосуд везде был со мной. В дороге он не расплескивался, и с ним я ни одной минуты не скучал. То надо было протирать стекло, то добавлять или убавлять содержимое, то укреплять стенки. В жизни я часто подмечал сходство между вещами совершенно разнородными. Сочинительство можно сравнить со строительством дома, или планированием военной операции, или писанием картины. Техника другая, фактура другая, но принцип тот же. Нужно подготовить основу, затем собрать материал, и заключение своей тяжестью не должно раздавить зачин. А напоследок можно заняться и украшательством. Законченность же работе придает ее соответствие замыслу. В сражениях, однако, есть то отличие, что в ход их постоянно вмешивается противник: он вечно срывает все планы, поэтому лучшими генералами становятся те, кто умеет достигать задуманного, действуя по ситуации.
Плывя на пароходе домой, я подружился с блестящим журналистом, лучшим из всех, кого я знал. Мистер Г.-У. Стивенс был «звездным» автором новой газеты мистера Хармсворта «Дейли мейл», только что открытой тогда и побудившей «Дейли телеграф» сделать шаг в направлении викторианской респектабельности. В эти первые, критические для газеты дни мистер Хармсворт всецело полагался на Стивенса и, бесконечно доверяя ему и хорошо относясь ко мне, вскоре поручил ему разрекламировать меня, что тот с блеском и выполнил. «Шуметь так уж шуметь» – таков был тогдашний девиз новорожденной газеты Хармсворта, и для своей кампании они выбрали меня. Однако не надо забегать вперед.
Я работал в кают-компании «Индийца» и как раз дошел до одного волнующего эпизода, когда Нильская колонна форсированным маршем достигла Абу-Хамеда и приготовилась к штурму. Самым цветистым слогом я описывал пейзаж: «Занимался рассвет, и утренние туманы, поднимаясь над рекой, рассеивались в лучах восходящего солнца, обнаруживая очертания города дервишей и полукружье скалистых гор за ним. Внутри этого строгого амфитеатра суждено было развернуться одной из малых драм этой войны». «Ха-ха!» – услышал я. Это Стивенс, подойдя, заглянул мне через плечо.
– В таком случае закончите этот пассаж за меня, – сказал я и, поднявшись, вышел на палубу.
Мне не терпелось посмотреть, как у него это получится, и я надеялся, что творение мое много выиграет. Когда я опять спустился вниз, на чистом листе бумаги, который я ему оставил, его мелким почерком было написано: «Пиф-паф! Пиф-паф! Пиф! Паф!», а внизу красовалось огромное: «БАХ!!!» Легковесность этой шутки меня возмутила. Но, разумеется, Стивенс владел и более изощренными стилевыми приемами и, мастерски оперируя ими, создавал для «Дейли мейл» свои остроумные, свежие, парадоксальные статьи и репортажи. Примерно в это же время в газете был помещен отрывок без подписи и под заголовком «Новый Гиббон». Речь в нем шла о будущности Британской империи. Можно было подумать, что и впрямь нашлись дотоле неизвестные страницы, принадлежащие перу именитого историка Рима. Я был поражен, когда Стивенс признался мне в своем авторстве.
Позднее Стивенс любезно прочитал мои гранки и дал мне полезный совет, который я здесь и воспроизвожу.
Прочтенные мной куски, – писал он, – показались мне ценным дополнением к трудам Г.-У. Стивенса, а в общем – отличная работа. По-моему, книга первоклассная, толковая, хорошо продуманная, хорошо скомпонованная, изобилует выразительными и живописными подробностями. Единственное критическое замечание, которое я считаю своим долгом высказать, – это что философические размышления, в общем вполне внятные, подчас тонкие и остроумные, а иногда даже справедливые, уснащают книгу чертовски густо. На Вашем месте я гнал бы «философа» в шею, к примеру, когда речь идет о январе 1898 года, но, возможно, дал бы ему порезвиться где-нибудь в самом конце. «Философ» только утомит читателей. Те из них, кто имеет вкус к размышлениям, займутся ими самостоятельно, без Вашей помощи.
Веселая ироничность Стивенса, его забавное остроумие, блестки прозорливости делали общение с ним чрезвычайно приятным, и летом 1899 года наше знакомство переросло в настоящую дружбу. Это было последнее для него лето. В феврале он умер от тифа в Ледисмите.
Две недели я провел в Каире, где собирал материал для книги и заручался помощью нескольких важных участников суданской драмы. Я встречался с Жируаром, молодым офицером канадских инженерных войск, строившим железную дорогу через пустыню; со Слатин-Пашой, маленьким австрийским офицером, проведшим десять лет в плену у халифа и написавшим уникальную в своем жанре книгу «Огонь и меч Судана»; с сэром Реджинальдом Уингейтом, начальником разведки, которому я уже был обязан очень важным для меня обедом; с Гарстином, возглавлявшим египетскую ирригационную службу; и многими другими видными фигурами. Все эти талантливые люди сыграли свою роль в осуществлении военных и административных мер, меньше чем за двадцать лет поднявших Египет из болота анархии, банкротства и поражения к высотам процветания. Я уже был знаком с их главой, лордом Кромером. Он пригласил меня к себе в британское представительство и с большой готовностью взял на себя труд ознакомиться с разделами моей книги, где говорилось об освобождении Судана и смерти Гордона. Я послал ему увесистую кипу машинописных листов и был одновременно рад и несколько изумлен, когда буквально через день-другой листы вернулись ко мне, исчерканные синим карандашом так энергично, что это мне напомнило Харроу и мои тетрадки по латыни с пометками преподавателя. Я мог убедиться, что лорд Кромер не пожалел времени на мои писания, и приготовился с должным вниманием отнестись к его замечаниям и критическим суждениям, часто весьма пространным и язвительным. Так, генерала Гордона, поступившего секретарем к лорду Рипону, я назвал «лучистым светилом, которое стало вращаться вокруг свечного огарка». Лорд Кромер прокомментировал это так: «„Лучистое светило“ – похвала, по-моему, чересчур выспренняя, и сравнение вице-короля со „свечным огарком“ не совсем корректно. Сам лорд Рипон, уверен, в обиде не будет, но его друзья могут разгневаться, а большинство попросту Вас обсмеет». В своем ответном послании я обещал пожертвовать моим стилистическим перлом, которым ранее так гордился, и безропотно принял подавляющую часть суровых критических замечаний. Такая моя покорность обезоружила и умиротворила лорда Кромера, продолжившего и затем выказывать пристальный и дружеский интерес к моей работе. Он писал:
Замечания мои жестки, я это сознаю, и весьма благоразумно с Вашей стороны принять их с тем же чувством, с каким они делались, то есть дружески. С Вами я поступил так, как не устаю просить моих друзей поступать со мной. Я всегда и постоянно хочу слышать от друзей моих критику заблаговременно. Насколько же лучше узнать о слабостях того, что ты пишешь или делаешь, из дружеских уст и пока еще не поздно, чем встретить критику недоброжелателей, когда что-либо предпринять и исправить недостатки уже невозможно! Надеюсь, что Ваша книга будет пользоваться успехом. Мало что в жизни еще так радует меня и интересует, как успехи молодежи.
За эти две недели я не раз виделся с лордом Кромером, черпая в беседах с ним знания и мудрость. Он в высшей степени воплотил в себе характерные черты крупных британских чиновников на Востоке – невозмутимость и выдержку. При виде его я всегда вспоминал одно из любимейших моих французских изречений: «On ne règne sur les âmes que par le calme» [35]35
«Ничем так не завоюешь авторитета, как спокойствием» (фр.).
[Закрыть]. Он никогда не спешил, не горячился, не старался произвести впечатление, не гонялся за эффектами. Он просто сидел, и люди тянулись к нему. Он наблюдал события, пока они не складывались так, что возникала возможность вмешаться – мягко, но решительно. Он мог выжидать год с такой легкостью, словно ждал всего лишь день. Ему случалось ждать и больше – года четыре или пять, пока не удавалось добиться желаемого. К тому времени он почти шестнадцать лет как безраздельно царил в Египте. Звучные титулы его не прельщали, он оставался просто представителем Британии. Его статус не был определен; он мог оставаться никем, в то время как на самом деле являлся всем. Его слово было законом. С помощью маленькой группки своих преимущественно молодых и невероятно способных заместителей, которые, как и их начальник, предпочитали держаться в тени, Кромер осуществлял скрупулезный и вдумчивый контроль над всеми ветвями египетской администрации и над всеми аспектами ее деятельности. Британские правительства, египетские правительства сменяли друг друга, он же пересидел потерю и новое завоевание Судана. Он крепко держал в руках и египетский кошелек, и вожжи местной политики. Было огромным удовольствием видеть этого человека – воплощение безграничной власти, чуждающейся помпы и достигаемой без видимых усилий, – в ореоле его свершений. Я был горд его вниманием ко мне. В наши дни равных ему нет, а нужда в таких людях – огромная.
Глава 17
Олдхем
Весной 1899 года мне стал известен факт существования другого Уинстона Черчилля, как и я пишущего книги, только романы, причем романы очень неплохие, выходящие в США огромными тиражами. Отовсюду я получал поздравления и похвалы моему мастерству романиста. Поначалу я считал это запоздалым признанием художественного достоинства «Савролы», но постепенно пришел к пониманию, что «есть еще один Ричмонд на поле боя» [36]36
Это высказывание приписывается Генри Ричмонду, впоследствии королю Генриху VII Английскому (1457–1509).
[Закрыть], к счастью по другую сторону Атлантики. Я тут же принялся за сочинение письма моему трансатлантическому двойнику, которое, вместе с ответом на него, представляет забавный литературный анекдот.
Лондон
7 июня 1899Мистер Уинстон Черчилль приветствует мистера Уинстона Черчилля и просит его уделить внимание обстоятельству, касающемуся обоих. Из сообщений прессы стало известно, что мистер Уинстон Черчилль готовится опубликовать очередной роман под заглавием «Ричард Карвел», который наверняка разойдется большим тиражом как в Америке, так и в Англии. Автором романа, который сейчас выходит сериями в «Макмиллане мэгэзин», а впоследствии будет продаваться в виде книги по обе стороны Атлантики, также является мистер Уинстон Черчилль. К тому же на 1 октября намечен очередной выпуск другого его опуса – военно-исторической хроники Суданской войны. Автор не сомневается, что мистер Уинстон Черчилль уже из этого письма – если не иным образом – сможет сделать вывод об опасности возникновения некой путаницы, в результате которой его произведения станут приписываться мистеру Уинстону Черчиллю, и наоборот. Мистер Уинстон Черчилль уверен, что и мистер Уинстон Черчилль не желает этого, как не желает этого он сам. В будущем, чтобы избежать ошибок, насколько возможно их избежать, мистер Уинстон Черчилль полагает необходимым подписывать все свои публикуемые статьи, рассказы, очерки и прочие произведения не «Уинстон Черчилль», а «Уинстон Спенсер Черчилль». Он надеется, что такое решение будет поддержано мистером Уинстоном Черчиллем, а во избежание дальнейшей путаницы, порожденной данным удивительным совпадением, рискует также предложить помещать в публикуемые произведения обоих джентльменов соответствующее уведомление, объясняющее читателю, перу которого из Уинстонов Черчиллей что принадлежит. Текст этого уведомления можно обсудить в дальнейшем при условии, что мистер Уинстон Черчилль согласится на предложение мистера Уинстона Черчилля. Последний пользуется случаем выразить мистеру Уинстону Черчиллю восхищение стилем и успехом его произведений, которые всегда, в книжном или журнальном виде, попадают в поле зрения мистера Уинстона Черчилля, искренне надеющегося, что и его произведения будут замечены мистером Уинстоном Черчиллем и доставят ему такое же удовольствие.
Виндзор, Вермонт
21 июня 1899Мистер Уинстон Черчилль выражает глубокую благодарность мистеру Уинстону Черчиллю за то, что тот затронул вопрос, сильно тревоживший мистера Уинстона Черчилля. Мистер Уинстон Черчилль отдает должное любезному решению мистера Уинстона Черчилля впредь именоваться «Уинстоном Спенсером Черчиллем» в своих книгах, статьях и т. п. Мистер Уинстон Черчилль спешит добавить, что, имей он сам другие имена, он, несомненно, воспользовался бы одним из них. О творчестве мистера Уинстона Спенсера Черчилля (отныне так именуемого) мистер Уинстон Черчилль осведомлен с тех пор, как в «Сенчери» был принят к публикации первый его рассказ. Тогда мистеру Уинстону Черчиллю не показалось, что работы мистера Уинстона Спенсера Черчилля могут каким-то образом смешаться с собственными его пробами пера.
Предложение мистера Уинстона Спенсера Черчилля относительно помещения в те или иные произведения мистера Уинстона Спенсера Черчилля, а также мистера Уинстона Черчилля уведомления, текст которого был бы согласован и одобрен обоими, мистер Уинстон Черчилль полностью поддерживает. Если мистер Уинстон Спенсер Черчилль был бы столь любезен, что набросал бы этот текст, мистер Уинстон Черчилль, безусловно, принял бы его без оговорок.
Более того, мистер Уинстон Черчилль собирается озадачить своих друзей и издателей вопросом, не желательно ли помещать слово «Американец» в качестве второго имени автора на обложках его книг. Если это покажется им целесообразным, он распорядится, чтобы все будущие издания выходили с таким добавлением.
Мистер Уинстон Черчилль берет на себя смелость послать мистеру Уинстону Спенсеру Черчиллю авторские экземпляры двух своих книг. Восторгаясь сочинениями мистера Уинстона Спенсера Черчилля, он предвкушает удовольствие от чтения «Савролы».
Дело уладили дружески и к удовлетворению обеих сторон, читатели же постепенно свыклись с одновременным существованием двух разных людей, носящих одно и то же имя и одинаково намеренных впредь, усердно и плодотворно трудясь, удовлетворять как литературные, так, при нужде, и политические запросы масс. Когда год спустя я посетил Бостон, мистер Уинстон Черчилль первым оказал мне гостеприимство. Он пригласил меня на веселое молодежное застолье, где мы оба произносили речи, в которых восхваляли друг друга. Но искоренить путаницу все же не удалось – мою почту направляли на его адрес, а счет за то самое застолье прислали мне. Вряд ли стоит уточнять, что все эти ошибки были быстро исправлены.
В один прекрасный день меня попросил заехать в палату общин мистер Роберт Аскрофт, депутат-консерватор от округа Олдхем. Там он повел меня в курительную, где рассказал об одном важном проекте. Олдхем – двухмандатный округ, и в то время оба места в палате занимали консерваторы. У главного из депутатов, Аскрофта, положение было прочное не только потому, что его поддерживал ориентированный на консерваторов электорат, но и потому, что он являлся поверенным и юристом местной профсоюзной организации рабочих-прядильщиков. Его коллега хворал, и мистер Аскрофт подыскивал человека, с которым мог бы работать в одной упряжке. Видимо, выбор свой он остановил на мне. В разговоре со мной он высказал несколько здравых соображений. Молодежь, сказал он, зачастую не располагает денежными средствами в количестве, достаточном, чтобы тягаться со старшими. Никаких доводов в пользу обратного я, увы, представить не мог. Тем не менее он считал все препятствия преодолимыми. И я согласился на то, чтобы, не откладывая в долгий ящик и при его, Аскрофта, содействии, выступить в Олдхеме.
Прошло несколько недель, и дата моего выступления уже была определена, когда, к моему огорчению, газеты сообщили о скоропостижной смерти Аскрофта. Казалось странным, что он, такой крепкий и деловитый, выглядевший абсолютно здоровым, вдруг ни с того ни с сего скончался, в то время как его коллега, чье здоровье вызывало опасения, продолжал жить. Роберт Аскрофт был очень уважаем в рабочей среде Олдхема. Рабочие организовали подписку и собрали, с миру по нитке, более двух тысяч фунтов на сооружение памятника «другу и защитнику рабочих». Они поставили условие (которое я счел тогда очень значимым), что деньги эти не будут использованы ни на какие повседневные нужды; никаких там новых кроватей для больниц, закупок книг в библиотеки, даже фонтана не надо – только памятник. Мы не хотим, объяснили они, делать подарок себе самим.
Образовалась вакансия, которую теперь следовало заполнить, и первым же кандидатом стал я. Говорили, что на меня указует перст высокочтимого усопшего. По городу уже были расклеены афиши, анонсирующие мое выступление. Вкупе с памятью о моем отце это решило дело. Без каких-либо хлопот, прошений, обращений и вызовов в комитеты я получил официальное приглашение баллотироваться в депутаты. В штабе консервативной партии Шкипер, всецело одобряя выбор местной ячейки, выдвинул другой план – воспользоваться дополнительными выборами, чтобы освободить оба мандата. По его мнению, у правительства было в тот момент мало шансов выиграть дополнительные выборы в Ланкашире. Устраивать их вторично, если через несколько месяцев образуется вторая вакансия, вообще никому не хотелось. Лорд Солсбери мог, не моргнув глазом, позволить себе потерять пару мандатов. Значит, лучше отказаться от обоих мест сейчас и забыть об Олдхеме до общих выборов, а тогда уж постараться отвоевать себе оба мандата. Тактическая мудрость такого плана была мне понятна. Но в то время любая политическая борьба при любых обстоятельствах казалась мне предпочтительнее бездействия. Поэтому я, так сказать, развернул знамена и ринулся в бой.
Итак, я нырнул с головой в пучину дополнительных выборов открыто и публично, как это бывает в подобных случаях. К настоящему времени я выдержал четырнадцать избирательных кампаний, каждая из которых отняла у меня месяц жизни. Грустно думать, что из отведенного нам столь недолгого жизненного срока целых четырнадцать месяцев были потрачены на эту изнурительную болтовню. Дополнительные же выборы – а я прошел через пять таковых – и того хуже, ибо привлекают чудаков и психопатов со всей страны, а также их знакомых и приятелей, равно как и всевозможные паразитические фонды «возрождения», и вся эта свора намертво присасывается к несчастному кандидату. Если он поддерживает власти, то на него вешают всех собак и, делая его ответственным за все беды нашего существования и недостатки общественного устройства, громогласно требуют от него ответа, каким именно образом он собирается все это исправить и наладить.
В описываемый мною момент юнионистская власть начала терять популярность. Либералам уже достаточно давно не давали рулить, и электорат жаждал перемен. Демократия не любит преемственности. Лишь в редчайших случаях англичанин не поддастся искушению вытолкать в шею министров Короны, кто бы они ни были, и постараться переменить политический курс, в чем бы он ни заключался. Таким образом, я пустился грести против течения. Больше того, как раз в это время консерваторы проводили через палату общин так называемый Билль о десятине с целью облегчить жизнь священства англиканской церкви. Нонконформисты, и в том числе уэслианцы, чьи позиции в Ланкашире были очень сильны, одобрять это уж никак не могли. Радикалы безудержно изощрялись в насмешках, не останавливаясь даже перед тем, чтобы именовать это проявление щедрости Биллем о поповской милостыне. Вряд ли стоит пояснять, что до истории с Олдхемом я никаким боком не касался этой проблемы. Ни образование мое, ни военная служба никак не подготовили меня к участию в конфликте, вызвавшем такой бешеный накал страстей. Поэтому мне пришлось выяснять, из-за чего весь этот сыр-бор. Большинство моих соратников сходилось в оценке билля с радикалами, считая его серьезной ошибкой. Как только они посвятили меня в суть проблемы, мне явилось решение. Разумеется, священников следует поддержать, чтобы жизнь они могли иметь достойную, иначе как им исполнять их обязанности. Однако почему не соблюсти принцип равенства, как это принято в армии? Высчитать долю каждой Церкви в соответствии с размерами ее паствы, и образующиеся излишки пропорционально между Церквями поделить! Решение справедливое, логичное, исполненное почтения к служителям культа и примиряющее. Удивительно, почему до меня никому это не пришло в голову! Но когда я изложил свои соображения моим соратникам, никто не счел их разумными. Напротив, меня раскритиковали. Что ж, если таково общее мнение, по-видимому, оно справедливо. Я оставил мой уравнительный проект и принялся искать другие способы завоевать избирателей этого едва ли не самого большого округа на нашем острове.
Тут ко мне присоединился мой новый коллега по борьбе. Вовлечение его в избирательную кампанию, по общему мнению, являлось мастерским ходом главного штаба. Это был не кто иной, как мистер Джеймс Модели, социалист и всеми уважаемый секретарь Союза рабочих-прядильщиков. Мистер Модели являлся ярчайшим кандидатом от рабочих-тори из всех, кого я встречал. Он смело объявлял себя поклонником торийской демократии и даже торийского социализма. Обе партии, как заявлял он, лицемерят, но либералы – хуже. Он же, со своей стороны, горд выступать единым фронтом с «отпрыском» древнего рода британской аристократии за дело рабочего люда, которому он так хорошо известен и который всегда ему доверял. Неожиданно возникшее, это содружество меня чрезвычайно радовало и какое-то время казалось достаточно плодотворным. Партнерство «отпрыска» и социалиста обещало интересный поворот в политике. К несчастью, отвратительные вздорные радикалы, вмешавшись, испортили всю картину. В этом им помогла угрюмая толпа профсоюзных деятелей. Последние стали обвинять бедного мистера Модели в предательстве классовых интересов. Они ругательски ругали консерваторов и не стеснялись даже непочтительно отзываться о лорде Солсбери, утверждая, что он реакционер и противостоит демократическим устремлениям избирателей. Мы, разумеется, отвергали все эти наветы. Однако либерально и радикально настроенные рабочие, окончательно отшатнувшись от нас, проголосовали за свою партию, а мы остались лишь со стойкими своими приверженцами, слегка обескураженными появлением на их трибуне злостного социалиста.
Между тем два наших противника-либерала, как оказалось, были людьми замечательными и достойными. Старший из них, мистер Эммот, происходил из семьи потомственных олдхемских прядильщиков. Умудренный опытом, состоятельный мужчина в самом цветущем возрасте, так сказать, тысячью прядильных нитей связанный с городком и вплетенный в его ткань, он обладал способностями, благодаря которым впоследствии достиг высоких должностей и возглавил партию, оппозиционную правительству. Это был противник, над которым не так-то просто было одержать победу. Младший, мистер Рансиман, тогда еще совсем молодой, был очень обаятелен, богат и тоже исполнен всевозможных достоинств. Мой бедный друг-пролетарий и я едва могли наскрести на двоих пятьсот фунтов, и при этом нас обвиняли в защите интересов богачей, в то время как наши оппоненты, имевшие в загашнике уж никак не меньше четверти миллиона, клялись в верности сирым и убогим. Забавное противоречие!
Борьба была долгой и трудной. Я защищал правительство, существующий общественный строй, официальную церковь и ратовал за целостность империи. «Никогда раньше, – уверял я, – население Англии не было настолько многочисленным и настолько обеспеченным едой». Я расписывал мощь империи, говорил об освобождении Судана и необходимости не пускать на рынок иностранные товары, созданные рабским трудом. Мне вторил мистер Модели. Противники же наши вещали о тяжелой жизни рабочих, об убожестве трущоб, о вопиющих контрастах между богатством и нищетой, особенно и самым решительным образом напирая на несправедливость Билля о поповской милостыне. Их преимущество в борьбе было бы безусловным, не обладай ланкаширские рабочие удивительной способностью взвешивать все pro и contra каждого соискателя голосов. Оли вносили множество корректив в явно неравную игру. Я с утра до вечера объяснял, убеждал и уговаривал, в то время как мистер Модели раз за разом упорно повторял свою хлесткую инвективу против либералов, превосходящих тори в лицемерии.
Олдхем – округ исключительно рабочий и в ту пору очень процветающий. Здесь пряли хлопок для Индии, Китая и Японии, а вдобавок на крупном предприятии «Аса Лис» делали машины, которые впоследствии позволили этим странам обрабатывать хлопок самостоятельно. В городке не было приличной гостиницы, где удалось бы нормально выспаться, и богатые особняки попадались редко; он состоял из многих тысяч вполне сносных домиков, существование в которых в течение предшествовавших пятидесяти лет медленно, но верно улучшалась. Появился даже достаток – с шерстяными платками на девичьих головках, с башмаками на деревянной подошве и с босоногой ребятней. Я дожил до тех времен, когда мировой кризис сильно ударил по ланкаширским рабочим, но все же он не довел их до того убожества, которое некогда мнилось им пределом мечтаний. В те дни говорили: «От деревянных башмаков к деревянным башмакам – путь в четыре поколения», то есть первое поколение наживает, второе – приумножает нажитое, третье – транжирит, четвертое – возвращается на фабрику. Мне еще довелось стать свидетелем волнений из-за введения налога на шелковые чулки, когда рабочие достигли благосостояния, о котором в пору моей молодости и помыслить не могли, но оказались затянутыми во все сужающуюся воронку экономического спада и растущей конкуренции. Никто из тех, кого судьба сводила с ланкаширскими трудягами, не может не желать им всего наилучшего.
В разгар моей избирательной кампании мои главные советчики приступили ко мне с просьбой решительно осудить Билль о поповской милостыне. Далекий от нужд, которые этот билль был призван удовлетворить, и абсолютно чуждый разыгравшимся вокруг него страстям, я чувствовал искушение расправиться с ним. И я поддался искушению. Под восторженные крики моей команды я провозгласил, что, если меня изберут, голосовать за билль я не собираюсь. Это было страшной ошибкой. Бессмысленно выступать в поддержку правительства и правящей партии, не поддерживая наихудшего из законов, из-за которого ломаются копья! К моменту моего громкого выступления споры о билле достигли точки накала. В Вестминстере на правительство обрушился град издевок: мол, чего стоит сей документ, если даже выдвинутый правящей партией кандидат не в силах защитить его перед избирателями! В Олдхеме же мои противники, воодушевленные тем, что я полил воду на их мельницу, с удвоенной энергией набросились на билль. Век живи – век учись! Но думаю, однако, что могу без ложной скромности сказать, что был достойным кандидатом. Во всяком случае, нас встречал неподдельный энтузиазм избирателей, и сердце радовалось при виде того, как массы рабочих горячо и совершенно бескорыстно выражают свою преданность империи и верность древним традициям королевства. Однако при подсчете голосов выяснилось, что мы потерпели весьма ощутительное поражение. Из двадцати трех тысяч поданных бюллетеней – количество для английского округа невиданное – за меня было на тысячу триста бюллетеней меньше; что же касается мистера Модели, то он получил примерно на тридцать голосов меньше, чем я.
Последовали обвинения, как всегда бывает при поражениях. Все порицали меня. Я заметил, что это практика почти постоянная. Видимо, считается, что к травле я устойчивее других. Видные тори и весь «Карлтон-клуб» как один заявляли: «Поделом ему, что связался с социалистом. Человек мало-мальски принципиальный никогда бы на это не пошел». Мистер Бальфур, в то время возглавлявший палату общин, услышав, что я выступил против Билля о десятине, сказал в кулуарах (признаться, не без оснований): «Я считал его многообещающим юношей, а он, похоже, только на обещания горазд». Партийные газеты разразились передовицами, где говорилось, что нельзя доверять борьбу за крупные рабочие округа молодым и неопытным кандидатам, и потом все поспешили забыть этот пренеприятнейший инцидент. Я вернулся в Лондон полностью выдохшимся – так выдыхается недопитая бутылка шампанского, оставленная на ночь без пробки.
По возвращении моем в Лондон никто не навещал меня в материнском доме. Однако мистер Бальфур, будучи человеком верным и участливым, прислал мне написанное им самолично письмо – его я только что откопал в старейшем из моих архивов.
10.7.99Меня крайне огорчила Ваша неудача в Олдхеме – ведь я так надеялся в скорейшем времени видеть Вас в палате, в которой мы некогда сражались совместно с Вашим батюшкой, сражались дружно, плечом к плечу. Надеюсь, однако, что происшедшее сейчас не лишит Вас уверенности в себе. По многим причинам для дополнительных выборов время неподходящее. Оппозиция на таких выборах всегда может надежно укрыться за критикой, не обнародуя встречной программы. Такая позиция удобна всегда, и она удобна вдвойне, когда встречная твоя программа включает в себя такой неперспективный пункт, как гомруль. К тому же разбрасываемые оппозицией критические семена падают сейчас в особо благодатную почву: предпринимателям не нравится билль о компенсациях; докторам – постановление о вакцинации; народ вообще не любит священников, и билль о выделении им средств, естественно, публике нравиться не может; священников возмутило Ваше неприятие билля; оранжисты дуются, и даже обещание проголосовать за Ливерпульские предложения их не умиротворяет. Ну, и как следует ожидать, те, кто в выигрыше от наших мер, проявляют неблагодарность; считающие же себя обделенными по праву негодуют. Худших условий для борьбы за место от Ланкашира, прямо скажем, не придумаешь!
Бодритесь, все сложится хорошо. Это маленькое поражение не повредит Вашей будущности политика.
В конце июля того же года я имел долгую и содержательную беседу с мистером Чемберленом. Хотя я несколько раз видел его в доме моего отца и при встречах он чрезвычайно любезно со мной раскланивался, знакомством с ним до этого дня я похвастаться не мог. А тут мы с ним вместе гостили у леди Джен в ее уютном доме на Темзе, где провели день, катаясь в лодке по реке. В отличие от мистера Аскуита, никогда не ведшего деловые разговоры на отдыхе, мистер Чемберлен всегда был готов поговорить на политические темы. При всей своей обходительности он без стеснения резал правду-матку. Уже само общение с ним являлось настоящей школой практической политики. Он был в курсе всех тонкостей и всех деталей политической игры, знал все ее изгибы и повороты, прекрасно разбирался в глубинных процессах, происходивших внутри обеих наших великих партий, чьи воинственные устремления он поочередно реализовывал. И в лодке, и вечером за ужином разговаривали мы с ним в основном между собой. Тогда злобой дня опять становилась Южная Африка. Переговоры с президентом Крюгером, затрагивающие щекотливую и убийственную проблему сюзеренитета, постепенно завладели вниманием английской и мировой общественности. Как с уверенностью может предположить читатель, я выступал за принятие жестких мер и помню, что мистер Чемберлен возразил мне:








