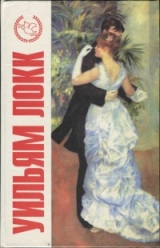
Текст книги "Сумерки жизни"
Автор книги: Уильям Локк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
Так как Рейну нечего было возразить на эту своеобразную философию, то заметив, что Гокмастер более интересен, когда говорит, чем когда слушает, он ограничился в виде ответа ничего незначащей вежливой фразой, и американец вновь овладел разговором. Говорил он хорошо и плавно. За простодушием его замечаний чувствовалась какая-то едкость, которая поддерживала интерес в слушателе. Манеры его говорили о том, что имеешь перед собой джентльмена. Рейну он начал нравиться.
– Из какой части Англии вы приехали? – спросил тот между прочим.
– Из Оксфорда.
– Принадлежите к университету?
– Да.
– Я еще там не был. Я проезжал Кембридж. Но Оксфорд я оставил для обратного пути. Ваши английские учреждения меня интересуют больше, чем что бы то ни было в Европе. Это старая громоздкая машина и не может идти в сравнение с нашей. Но мы как будто живем ради наших учреждений, тогда как вы свои подправляете и пользуетесь ими, когда они вам содействуют при достижении поставленных целей.
Он закурил новую сигару об остаток старой и продолжал:
– Я приехал из Чикаго. Это замечательный город, и если бы он находился на берегу моря, то мог бы стать столицей мира, когда организуется Всемирная Федерация. Я люблю его так, как вы, наверно, любите Оксфорд. У вас в крови литература – „litterae humaniores" называете вы это в Оксфорде, – а у меня – business: я в скромных размерах спекулирую. Я только что организовал общество – в ход оно пошло перед самым моим отъездом – для приготовления свинцовых белил патентованным способом. Теперь я так увлечен белилами, как будто это женщина. Они не дают мне спать ночью и носятся перед глазами в течение всего дня. Я грежу, будто все суда, носящие американский флаг, выкрашены моими белилами. Если собрать все эти фантазии, вышло бы недурное поэтическое произведение. Вот я готов побиться о заклад, что вы абсолютно ничего поэтического не видите в патентованном способе изготовления свинцовых белил?..
– А как с тушением ваших восторгов? – улыбаясь спросил Рейн.
– А! Тут другое дело. Я все это извлек из моей головы. Здесь часть моего я, в то время как в Альпах этого нет… – Он с невинным видом посмотрел на них… – Ни крошки.
Звон гонга, призывающего к полуденному табльдоту, дошел до них, гулко отдаваясь в редком воздухе. Они поднялись и вместе направились в отель.
– Я не прочь сесть рядом с вами, если вы ничего не имеете против, – сказал Гокмастер.
– Пожалуйста, – отозвался приветливо Рейн, – я буду очень рад.
Они завтракали вместе, а затем прошлись в Буасон и обратно, совершив приятную трехчасовую экскурсию. Рейн не хотел отлучаться на более продолжительное время из гостиницы в ожидании почты. Но писем для него никаких не оказалось, если не считать деловых сообщений из Оксфорда. Он беспокоился о здоровье отца и жаждал хоть строчки от Екатерины. Ему начинало казаться, что поездка его в Шамони, в конце концов, была нелепой затеей. Бедной маленькой Фелиции раньше или позже придется претерпеть разочарование. Если план с Люцерном провалился благодаря болезни его отца, то не было никакого смысла скрывать от нее его любовь к Екатерине. Он не мог вечно сидеть в Шамони; если поселиться в какой-нибудь другой части Женевы, это вызовет толки среди всего населения пансиона, а Рейн очень хорошо знал, что подобные толки могут оказаться гибельными для самой безупречной репутации.
Он решил, однако, выждать с решением до завтрашней почты.
XI
Женщина в раздумьи
„Люби ближнего, как самого себя" – великолепный принцип. Его единственный недостаток в том, что он поддается слишком широкому толкованию. Если к нему прибавить спасительную оговорку, что тут не имеются в виду дела ближнего, он был бы превосходен.
Как ни мало соблюдали жильцы пансиона Бокар этот принцип, расширительному его толкованию они подчинялись беспрекословно. Не только потому, что они были женщинами. По временам и общество мужчин не прочь поговорить о делах своих ближних. Толковать о событиях, совершающихся вокруг нас, в природе человека, и толков, в соответствии с опасениями Рейна, в пансионе Бокар было больше, чем достаточно.
Прежде всего немало времени умы и языки пансионеров занимал драматический конец романа бедной мисс Бунтер. А затем, до всеобщего сведения дошли некоторые факты, которые указывали на любопытные отношения между миссис Степлтон и Рейном Четвиндом. Главным из них было состоявшееся ранним утром свидание. Летний гарсон сообщил о нем повару, который поделился этим известием с мадам Бокар. Та по секрету передала это госпоже Попеа, а последняя со свойственной ей едкостью изобразила этот факт перед фрейлен Клинкгард. От нее об этом узнала фрау Шульц, которая обработала эту историю тщательно, со злобным чувством, питаемым ею к Екатерине. И пустила ее в оборот дальше. В таком виде она дошла до Фелиции.
Молодая девушка как раз переживала полное горечи настроение, сделавшее ее восприимчивой к этой сплетне. После бессердечного систематического обмана, которому подвергалась мисс Бунтер в течение пятнадцати лет, казалось, нельзя ни в чем верить человеку. Нельзя сказать, чтобы она была восстановлена против Рейна Четвинда из-за себя самой. Она вынуждена была признаться со слезами презрения к самой себе на глазах, что он не обнаруживал по отношению к ней ничего, кроме братской чистосердечности и вежливости. Но при своем нерасположении к Екатерине, она допустила, что он способен на пошлую любовную интрижку, и перестала после этого так высоко его ценить. Затем на сцену выступила гордость, по-видимому – для ее же пользы, но на деле, по тому особому влиянию, которое оказывает гордость на женское сердце, чтобы усилить горечь внутренней борьбы. Однако светлое, чистое чувство брало верх над личной тревогой… сильное чувство жалости к тому хрупкому существу, у которого сразу рушились все надежды в жизни. Присутствие очевидицей и утешительницей при этой агонии отчаяния явилось одним из тех мрачных опытов, которые приводят в движение пружины, вызывающие бесконечное чувство сострадания.
Когда старик Четвинд предложил Фелиции проехаться в Люцерн, она пылко за это ухватилась. Оставить пансион и все с ним связанное было бы облегчением. В течение целого дня она лихорадочно занималась приготовлениями к отъезду. Наступило острое разочарование, когда старик заболел, и поездка была отложена на неопределенное время. Она со страшным нетерпением дожидалась октября, когда ей можно будет вернуться к своим в Бермуду. Пока же она старательно переписывала рукопись, ухаживала за стариком, насколько он ей это позволял, и посвящала остальную часть времени всяким развлечениям, которые затевались в пансионе.
Екатерина несколько дней после отъезда Рейна жила как бы в безумном раю. Его поцелуй покоился на ее губах, обнимавшие ее руки продолжали сжимать ее тело, его волнующие слова звучали в ее ушах. Если приходили в голову непрошенные мысли, она гнала их прочь со страстью возмутившейся воли. Долгое утро мелькнуло, как во сне. День и вечер прошли в опьяняющем чувстве счастья. Ночью она спала и бодрствовала попеременно, не справляясь с часами. Она завоевала его любовь. Любовь эта была дана ей полной льющейся через край мерой, заливая ее солнечным светом. Екатерина отдавалась восторженной радости, которую предстояло испытать, а не только думать о ней.
Но вечером на другой день пришло письмо Рейна. Она сидела у окна, читая его с бьющимся сердцем. По временам слова плыли перед ее глазами. До настоящего момента она ясно не представляла себе цельность и истинное благородство его любви. Для нее это было нечто большее, чем письмо возлюбленного. Это было обнаружение сильной и высокой души, которая отдавалась ей, чтобы вести ее с собою и освещать остаток дней ее на земле. Она, в порыве самоунижения перед ним чувствовавшая себя недостойной целовать край его одежды, видела себя окруженной уважением, почетом, заполняющей святое святых его сердца. Ей предстояло сделаться его женой.
Она внимательно прочитала письмо два раза. Тогда великий страх заставил ее похолодеть. Предчувствие этого страха явилось ей еще в тот вечер на озере, как раз перед тем, как грянул гром, и со смутной угрозой носился перед ее воображением во все время наступившего затем опьянения. Только воля ее отталкивала его прочь. Теперь этот страх держал ее в своей лапе.
Стать его женой. Слова эти глядели ей в лицо, вновь и вновь повторяемые со всей заключающейся в них страстью, нежностью и преданностью. Ей стало холодно. Истерический клубок подкатывался к горлу. Она прошла через комнату, выпила стакан воды и снова села. Мечты, иллюзии, радость, – все исчезло. Великое страдание было в ее глазах, когда она поглядела ничего невидящим взором прямо перед собой.
Пока она так смотрела, искушение коварно заползло в ее сердце, ослабило и успокоило на минуту ее напряженные нервы. Зачем рассказывать ему то, о чем он, – она знала его благородный характер, – никогда не спросит? Все ее будущее на вечные времена принадлежит ему. Какое значение имеет прошлое?
Глаза ее упали на его письмо, лежавшее на ее коленях, и уловили несколько случайных фраз. Тут всю ее пронизала дрожь, словно волна презрения к себе и отвращения и, наклонившись вперед, она скрыла лицо свое в руках и заплакала.
Он был слишком благороден, чтобы обманывать его… чтобы поймать его в ловушку, как это сделала бы простая авантюристка. Мысль эта обожгла ее. Молчание было слишком дешевым металлом для расплаты за чистое золото его любви. В миллион раз лучше говорить и потерять его, чем сохранить его при помощи лжи. Все, что в ней было чистого, искреннего и женственного, возмутилось против этого искушения.
Долгое время оставалась она с опущенной головой, и мысли ее вихрем носились вокруг тех средств, которыми она собиралась нанести смертельный удар своему счастью. Время незаметно проходило, и тени сгущались, по мере того как день переходил в вечер. Посланный от госпожи Бокар с вопросом, спустится ли она к обеду, первый дал ей заметить, как уже поздно. Она послала сказать, что нездорова. Тарелку супа, вот все, что она просила прислать ей наверх. Затем она вновь вернулась к своим безнадежным мыслям. Восклицание, вырвавшееся из глубины души Денизы жужжало в ее ушах, пока не превратилось в бессмысленный напев. С той ночи в январе, когда она смотрела эту пьесу вместе с Рейном, она болезненно применяла это восклицание к себе.
„Я принадлежу к тем, которых любят, но на которых не женятся".
Слабый луч надежды мелькнул в окружавшем ее мраке. Он рассказал ей свою собственную историю. Для него память о ней была священна. Девушка, которую он любил, мать его ребенка, в его глазах была самой безупречной женщиной. Разве это не смягчит приговор, который ему придется произнести над нею? Она ухватилась за раскрывшуюся перед ней надежду, и сжимавшие ее тиски разжались. Он не станет ее презирать. Он будет продолжать ее любить. Она будет для него тем же, чем была та. Ее мысли становились истеричными.
Усилие, которое она вынуждена была сделать, когда явился слуга с заказанным блюдом, и физическое подкрепление, принесенное горячим супом, вернули ей спокойствие и привели в порядок ее мысли. Она еще раз внимательно прочитала письмо Рейна. Оно вдохновило ее грустным, безнадежным мужеством. На время она стала Екатериной прежних дней, отчаявшейся, покорной, фаталисткой. Прежде чем лечь, надломленной и обессиленной, в постель, она написала ему длинное спокойное письмо, в котором все рассказала. Она не щадила себя, не скрывалась за софизмами, но и не чернила себя, словно кающаяся Магдалина. Она писала кровью своего сердца, как подсказывало ей ее лучшее я. Быть может, только раз в жизни удается человеческому существу вдохновиться такой силой, чтобы обнажить свою душу, так, как будто она являлась на суд перед небожителями. Екатерина, писавшая письмо, была возвышеннее той Екатерины, какую она знала.
Однако, когда утром земная женщина, молча жаждавшая счастья, взяла в руки письмо, написала адрес и запечатала его, сердце ее замерло. С минуту стояла она, в нерешительности держа его в руке, и спрашивала себя, не сорвать ли конверт и вновь прочитать. Быть может, неуверенно подумала она, кое-что могло бы быть лучше выражено. Пальцы ее механически скользнули по краям конверта, и она медленно его разорвала. Затем она вновь улеглась с письмом в постель. Ничего нельзя было изменить. Она снова напишет адрес и сегодня же пошлет его.
Одеваясь, она постояла перед своим изображением в зеркале; сердце ее сжималось тревогой, свойственной женщинам. Она выглядела бледной, старой, поблекшей, – подумала она; едва заметные морщинки появились около глаз; черты лица ее как будто сжались. Она слегка вздрогнула… наивно поспешила прикрыться волосами, чтобы избавить себя поскорее от необходимости видеть свое лицо.
– Какое это в конце концов имеет значение, – с горечью сказала она себе. – Когда письмо уйдет, кто на свете будет интересоваться тем, стара я на вид или молода?
Ей казалось, что жизнь ее прекратится с той минуты, когда письмо из рук ее попадет в почтовый ящик. Она хранила его при себе весь день, не в состоянии будучи сама наложить на себя руки. Ничтожное усилие, нужное для того, чтобы написать адрес на новом конверте, исчерпало всю имевшуюся у нее энергию, необходимую для выполнения подобного подвига. Не раз в течение дня она бросалась в постель, готовая разрыдаться. Она не может послать его. Это испортит его поездку. Она подождет, пока он вернется, пока она еще раз не увидит, как глаза его засветятся при взгляде на нее, и не услышит последний раз трепет его голоса, который больше слышать ей уже никогда не придется. Еще хоть один час счастья. А затем она отдаст ему письмо, и в наказанье за свое теперешнее малодушие будет стоять около него, пока он будет читать. Чувствуя себя страшно виноватой, но вместе с тем радуясь отсрочке, она написала ему то второе письмо, которое он получил. Другое, которое она собиралась послать, она хранила при себе в кармане, пока не загрязнился и не помялся конверт.
Это были невеселые дни. При встрече, однако, с обитателями пансиона она держала себя внешне спокойно и невозмутимо, показывая всем свое обычное лицо. Упреки по отношению к себе за свое малодушие прекратились. Она покорилась своей участи. Один взгляд на его лицо… а затем конец всему. Она знала тем самопознанием, которое дается годами одиночества и самообуздания, что перед исполнением последнего решения она не отступит.
Так как мысли ее таким образом были сосредоточены на трагической стороне ее отношений к Рейну, она не обращала никакого внимания на возможность сплетен. Ни одна из них не дошла до нее. Ее долго выдержанная сдержанность, личное превосходство, достоинство манер и поведения приобрели ей, если не любовь, то уважение пансиона. Даже фрау Шульц, которая ненавидела ее, находила невозможным позволить себе презрительный намек, который жег ее уста. Но госпожа Попеа, патентованная вольная особа пансиона, благодаря своей любезной и бесцеремонной манере выражаться, набралась однажды храбрости и вступила на эту скользкую почву.
– Боже мой, – сказала она, как бы призывая божество в помощь своему предприятию, – снова стало скучно. Я хотела бы, чтобы вернулся мистер Четвинд.
– Его отсутствие чувствуется, – ответила спокойно Екатерина, продолжая шить.
Госпожа Попеа явилась к ней с явным намерением уязвить. Это была ее манера заниматься шитьем.
– Я полагаю, что, если милый профессор почувствует себя хуже, он скоро вернется. Они относятся друг к другу, как женщины, эти два… персонажа из семейных романов. Я слышала, что профессору сегодня значительно хуже.
– Кто вам сказал это?
– Мисс Гревс. Она ухаживает за ним. Какая очаровательная девушка! Ее привязанность к нему трогательна. Это было бы совсем похоже на роман, если бы monsieur Рейн женился на ней. Он так красив.
Екатерина посмотрела на эту пухлую легкомысленную даму с невозмутимой серьезностью.
– Похоже на то, что вы интересуетесь романической стороной их отношений…
– Бог мой, да. Все, что касается любви, занимательно, особенно любви идиллической. Но вы, разве вас поразило бы, если бы по его возвращении они оказались помолвленными?
– Никогда не следует ничему удивляться, – процитировала Екатерина хладнокровно.
– Я как-то думала, что он питает нежные чувства к вам, – рискнула лукаво госпожа Попеа.
– О, – рассмеялась Екатерина, – вы знаете, что собой представляют мужчины… и нам, женщинам, никогда не следует передавать друг другу о своих впечатлениях. Если бы я сообщила вам те лестные замечания, какие мне приходилось слышать на ваш счет в течении последних двух недель, у вас бы голова вскружилась.
– Ах, кто говорил обо мне?
Екатерина поднялась, вынула шляпку из комода и, несколько демонстративно разворачивая вуаль, весело отозвалась:
– Я достаточно стара, чтобы научиться хранить тайны. Это мой единственный недостаток.
И госпожа Попеа, убедившись, что Екатерину трудно захватить врасплох с какой бы то ни было стороны, помешкала еще немного, а затем распрощалась. Екатерина, ясно читавшая в ее мыслях, грустно про себя улыбнулась. Но сообщение посетительницы о старом профессоре дало ей материал для размышлений. Если его отцу стало хуже, Рейн может вернуться немедленно. Мгновение она готова была чуть ли не пожелать, чтобы возвращение его отдалилось. Сердце ее больно сжималось, когда она представляла себе, что ее ждет.
Сообщение было правильное. Старик схватил серьезную простуду. Доктор с известной тревогой только что заявил это Фелиции. Она решила вызвать Рейна.
– Вы должны позволить мне телеграфировать в Шамони, – сказала она, стоя у постели профессора, в то время как он принимал лекарство. – Вам было бы приятно повидать его, не так ли?
Старик покачал головой.
– Пока еще нет.
– Почему?
– Было бы так жаль. Он там развлекается.
– Я думаю, что он не прочь вернуться, – заметила Фелиция.
Необычная для нее горечь тона поразила его. Он остановился с лекарством в руках, и глаза его заблестели. Взор его упал на девушку, и она покраснела.
– Я не думаю, что он уехал, чтобы развлечься, – сказала она, давая выражение смутным догадкам, которые за последние дни оформились в ее голове. – Притом, друзья его покинули… это не их вина, к несчастью… и он все время один. Он рад будет вернуться, если вы ему дадите знать.
Старик был смущен. Болезнь, кроме того, обессилила его.
– Так вы думаете, что это я его выпроводил, Фелиция? – спросил он.
Фелиция была достаточно женщиной, чтобы заметить его открытое признание. Теперь она была уверена, что разгадала. Все дело было в Екатерине. Поведение его, однако, поразило ее, как особенно нелепое каким оно и было в действительности. Она взяла пустую чашку из его рук, ловко оправила подушку и, когда он положил на нее свою голову, наклонилась над ним и шепнула:
– Он уехал по вашей просьбе… и по вашей же просьбе вернется. Позвольте мне телеграфировать ему.
– Но вы… дорогое дитя мое… как вы перенесете?
– Я? – с удивленным видом спросила Фелиция. – При чем тут я? О, мистер Четвинд! – прибавила она после минутного молчания. – Вам не следует обращать внимания на глупости, какие я вам когда-то говорила, я полагаю, что я тогда была еще ребенком. Мне стыдно за них. Я выросла, – мужественно поборола она себя, – и избавилась от этих глупых чувств. Я не хотела бы быть для него ничем иным, как другом… всегда… так что для меня вполне безразлично, что он будет здесь… если не считаться с тем, что я вижу в нем друга.
Старик высунул свою руку, взял ее и приложил к своей щеке.
– Раз вы знали… значит, совершенно никакой необходимости не было в его отъезде?
Фелиция невольно слегка вскрикнула и отдернула свою руку, когда это открытие обрушилось над нею. Кровь прилила к щекам и зашумела в ушах. Прежнее чувство стыда было ничто в сравнении с новым.
– Значит, он уехал, заметив, что я увлекаюсь им? – спросила она, потрясенная.
– Моя бедная, дорогая девочка, – нежно сказал старик, – мы это все делали для вашей же пользы.
Она долго стояла молча около него, тогда как он гладил ей руку. Наконец, она собралась с силами.
– Скажите ему, что все это недоразумение… что он поступил благородно, великодушно и деликатно… но что я улыбнулась, когда узнала об этом. Скажите ему, что я улыбнулась, не так ли, дорогой профессор? Смотрите, я улыбаюсь… совсем весело, как та Фелиция, которую вы портите своим баловством. А теперь, – освободила она осторожно свою руку, – я посылаю ему телеграмму. Мы вместе быстро поднимем вас с постели… одной меня недостаточно.
Она несколькими прикосновениями женской руки привела в порядок разбросанные на столе около него вещи и пошла выполнить по собственной инициативе взятое на себя поручение.
„Попросил бы вернуться возможно скорее
Четвинд"
Она сочинила эту телеграмму на пути в контору. Это освободило ее от необходимости думать о другом.
– Так, – сказала она себе, написав ее, – это встревожит его.
Больной между тем был в большом недоумении.
– Я вносил страшную путаницу в эту историю сначала до конца, – пробормотал он с усталым видом. – Однако, не думаю, чтобы все это в мгновение ока превратилось в пустяки. Надо поразмыслить об этом.
Глаза его закрылись. Он стал свои доводы облекать в силлогизм, но мозг его отказывался работать, и он уснул.








