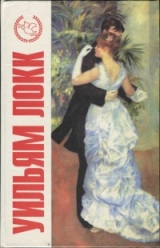
Текст книги "Сумерки жизни"
Автор книги: Уильям Локк
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
IV
Где ручей впадает в реку
– Хотите прогуляться, мисс Гревс. Такое чудесное утро, – сказала фрау Шульц.
Фелиция собиралась продолжать обучение кройке под руководством миссис Степлтон, но довольно охотно согласилась. Она считала своей обязанностью быть любезной с фрау Шульц; тем не менее та все время оставалась для нее особенно антипатичной. Хотя она все еще морщилась от намеков госпожи Попеа и несколько свободных взглядов на жизнь фрейлейн Клинкгард, все же удавалось в каждой из них подметить нечто привлекательное. Но красное обветренное лицо фрау Шульц, ее грубые манеры и презрительная речь были ей противны. Она, однако, мило улыбалась, когда, сойдя вниз в мехом отделанных жакете, шляпе и муфте, встретила в сенях рядом с салоном фрау Шульц.
– Вам это будет полезно. Вы слишком много времени проводите дома, – заявила поучительным тоном последняя.
Погода казалась чудной, когда любовались на солнечный свет из окна теплой комнаты, но на улице дул холодный ветер и резал лицо словно миллионом бритв. Фелиция с легким криком спрятала руки в муфте, как только они вышли из дому.
– О! Этот ужасный ветер!
– Это пустяки, – заявила ее спутница, гордившаяся нечувствительностью своей кожи. – Вы англичанки готовы всем пожертвовать ради цвета лица. Если кожа и потрескается, вы можете помазать ее кольдкремом. Зато вы, по крайней мере, сделаете моцион.
На фрау Шульц был жакет из поддельного меха, убранная крепом новая шляпа с широкими лентами, завязанными под подбородком, и толстые серые перчатки. Фелиция с весьма простительным злорадством спрашивала себя, как сильно у той должна потрескаться кожа, чтобы она почувствовала это неудобство.
– Я нисколько не беспокоюсь за свой цвет лица, – храбро возразила она, решившись для поддержания чести своих соотечественниц не отступить ни перед какой погодой. – Мне приходилось переносить более суровую погоду, чем эту, в Англии.
– Ах, ваша Англия! Это поразительная страна, – заметила фрау Шульц.
Они прошлись вдоль Английского парка, пересекли мост и по набережной Мон-Блан направились к курзалу. Фрау Шульц, по-видимому, была в желчном настроении. Фелиция стала даже радоваться ветру, мешавшему разговору. Но она не приняла во внимание голосовых средств фрау Шульц. Как только та при помощи отрывочных замечаний определила необходимую высоту голоса, она перестала считаться с ветром и все время пронзительно говорила.
– Я предложила вам прогуляться, потому что хотела поговорить с вами.
„Возможно, что она предпочитает беседовать во время бури", – подумала Фелиция с комическим отчаянием, но ограничилась только восклицанием: – Правда?
– Да. Вы так юны и неопытны, что я подумала, мой долг прийти вам на помощь. Госпожа Бокар слишком занята. Я мать. Я прекрасно воспитала свою Лотхен, и она в прошлом году вышла замуж. Я, без сомнения, единственная в пансионе, знающая, что подобает для молодой девушки и что нет.
Фелиция с некоторым изумлением посмотрела на нее из-под придавленных ветром полей шляпы.
– Я уверена, что со мною все благополучно.
– А, вы так думаете. Но вы ошибаетесь. Вы не можете возиться со скипидаром, не пропитавшись его запахом.
Английский язык фрау Шульц по временам бывал не очень удачен.
– Я, право, совершенно не понимаю вас фрау Шульц.
– Буду выражаться яснее. Вы очень подружились с миссис Степлтон. Она и есть скипидар.
Фелиция сразу остановилась; в глазах ее от ветра и негодования показались слезы.
– Если вы позволяете себе подобным образом отзываться о моих друзьях, я пойду домой, фрау Шульц.
– Я не слышу – заметила та, стараясь подвинуться к ней поближе.
Фелиция повторила свое замечание и с некоторым раздражением топнула ногой.
– Ах! – крикнула фрау Шульц нетерпеливо. – Я говорю с вами лишь из материнской доброжелательности, для вашей же пользы, а вы сердитесь. Это невежливо, тем более, что я много старше вас. Я повторяю, что миссис Степлтон дурная женщина. Если вам не угодно гулять со мною, я буду гулять одна. Но я выполнила свой долг. Вы намерены остаться тут, мисс Гревс, или пойдете дальше?
Фелиция, несмотря на свое страшное возмущение тоном фрау Шульц, с минуту стояла в нерешительности. Слишком много приходилось ей наблюдать в пансионе грязных стычек, после которых дамы друг с другом не разговаривали в течение недели, и она питала настоящий ужас перед перспективой запутаться в одну из подобных историй. До сих пор это ее миновало. Она поэтому сдержала свой гневный порыв.
– Я с удовольствием пойду дальше, фрау Шульц, если вы прекратите этот разговор, – сказала она.
– Ach so! – загадочно воскликнула та, и они продолжали свою прогулку. Но разговор их после этого потерял свой интимный характер. У курзала они повернули и пошли обратно тем же путем.
На набережной Мон-Блан, где пароходы отдыхали на своих причалах, фрау Шульц остановилась полюбоваться видом. Предметы сохранили свою весеннюю свежесть и отчетливо выделялись в колеблемом ветром воздухе. Лиственницы на острове Руссо покрылись зеленью, как и группы лип в Английском парке, по другую сторону моста. Над белыми, скрывавшимися за деревьями лавками и кафе Большой набережной выступал ясно видневшийся старый город вокруг мрачного собора, а дальше, в значительном от них расстоянии, возвышалась вершина Мон-Блана, блестевшая на фоне синего неба замороженным серебром.
При виде этого фрау Шульц испустила продолжительный и глубокий вздох.
– Vunderschön!
Она сама не понадеялась на свою английскую речь. Она посмотрела на Фелицию ожидая ответного выражения восторга. Но Фелиция сердилась и не могла не почувствовать некоторой досады против Мон-Блана за то, что он вызвал приятные ощущения у фрау Шульц. Однако она вежливо согласилась, что все это очень красиво.
– Как мало души у вас, англичанок! – заметила фрау Шульц, когда они пошли дальше.
– Я полагаю, что дело тут в том, что мы не сентиментальны, – возразила Фелиция.
– Я никогда не могла в точности понять, что разумеете вы под словом сентиментальный, которого вы все так боитесь.
– Это значит – при незначительных переживаниях держать себя так, как это допустимо только при глубоком чувстве.
– Так что я, по-вашему, сентиментальна, потому что восторгаюсь роскошной природой?
– Я этого не говорила, фрау Шульц.
– Но так думали. У вас у всех такая манера. Хорошо только то, на что вы кладете вашу печать.
Эта прогулка решительно была не из приятных. Фрау Шульц повела речь об узости англичан и распространилась о ней, не взирая на ветер. Фелиции хотелось уже быть дома. Пытаясь дать разговору более спокойный оборот, она воспользовалась затишьем и спросила у фрау Шульц о дочери. Остроумный замысел удался. Повествование о детских годах Лотхен заняло все время, пока они не дошли до улицы, на которой жили. Фелиция не знала, возненавидеть ли Лотхен за то, что та была такой образцовой, или пожалеть ее за то, что у нее была такая мать. В конце концов она решилась на смелое замечание.
– Я не думаю, чтобы благодаря вам у фрейлейн Шульц часто была возможность в чем-либо поступать не правильно.
– Я ее мать, – с достоинством возразила фрау Шульц, – а в Германии молодые девушки слушаются своих матерей и уважают матерей других молодых девушек. Если бы я немецкой девушке сказала то, что говорила вам сегодня утром, она была бы мне благодарна.
– Мне очень жаль, фрау Шульц, но я не люблю, когда в моем присутствии дурно отзываются о моих друзьях.
– Я хотела избавить вас от таких друзей. Я повторяю, миссис Степлтон такая особа, что в ее обществе я не позволила бы бывать своей невинной дочери.
Фелиция вспыхнула. Они находились на расстоянии нескольких шагов от пансиона.
– Вы ничего дурного не знаете о миссис Степлтон. По-моему это очень нехорошо с вашей стороны.
– Так спросите ее, где ее муж.
– Она вдова.
Фрау Шульц посмотрела на Фелицию и разразилась язвительным смехом. От возмущения девушка вся задрожала, как будто наступила на электрического угря. Она оставила фрау Шульц внизу у лестницы, а сама побежала наверх, содрогаясь от гнева и отвращения.
Шесть месяцев тому назад она едва ли поняла бы инсинуации фрау Шульц. Теперь она их уразумела. Ее умственный горизонт значительно расширился со времени ее жизни в пансионе. Менее изысканная натура могла бы в известном смысле огрубеть от такого опыта, но у нее осведомленность только обострила ее антипатию ко всему этому. Она уже больше не недоумевала и не страшилась, но питала отвращение… по временам возмущалась. Казалось, что она никогда не выберется из этого зараженного места. Даже Екатерина, общества которой со времени их более тесного сближения она искала все больше и больше и к которой она ходила за утешением и свежим воздухом, когда последний казался спертым от нечистоплотных разговоров и взаимных пререканий… даже Екатерина оказывалась теперь загрязненной этой вульгарной надменной женщиной, – загрязненной чем-то таким, что в глазах девушки было не лучше проказы. Она этому не верила. В других случаях она сама видела, как фрау Шульц изобличали во лжи. Но этот намек наложил как будто свой грязный отпечаток на их дружбу.
Она почувствовала облегчение, когда вошла в комнату Екатерины и увидала спокойное нежное лицо, которое приветливо взглянуло на нее, поднявшись от рукоделья. Комната Екатерины к тому же всегда приводила ее в хорошее настроение. Подобно самой Екатерине, она отличалась от всех остальных. У госпожи Попеа, например, посетителя поражало обилие грязных пеньюаров; у мисс Бунтер все было чопорно, как будто в тон натянутой проволоки клеток с канарейками. Но в этом светлом крошечном убежище, где все принадлежности спальни скрывались за занавеской, мило уставленном роялем, легкими удобными стульями и коврами, чувствовалась комната благородной женщины, до известной степени отражавшая очарование своей хозяйки. Когда гонг позвонил к завтраку, Фелиция была весела и довольна, и вошла в столовую, обняв одной рукой за талию Екатерину и бросив возмущенный взор на фрау Шульц.
Дни протекали безмятежно. Единственным событием было возвращение старого мистера Четвинда после месячного отдыха в Италии, когда весь пансион объединился, чтобы выразить ему свое уважение и приветствовать его. В день его приезда Фелиция поставила в его комнату пару туфель собственноручного изделия, которые привели в такой восторг старика, что он вечером спустился в салон, чтобы выставить их на всеобщий осмотр и восхищение. Больше никто не приезжал и не уезжал в течение всей весны. Все с нетерпением ожидали лета и новых лиц. Их ожидание напоминало стремление куколки превратиться в бабочку. Фелиция разделяла общее настроение. Она не забыла Рейна, хотя постепенно он превратился в интересное воспоминание. Но она была убеждена, горячо убеждена, как никогда, что полюбить другого мужчину она никогда не будет в состоянии.
В одно майское утро мысли ее приняли совершенно другое направление. Из-за какой-то причины чисто домашнего характера завтрак был сервирован раньше обычного, и английская почта пришла во время еды. Мистер Четвинд бросил взгляд на конверты, выбрал один и учтиво спросил у Екатерины и Фелиции позволения раскрыть его. Когда он прочитал, глаза его заблестели.
– Я получил приятное известие, – сияя, заявил он, отложив письмо и обращаясь к госпоже Бокар, сидевшей на другом конце стола. – Мой сын приезжает сюда на первую часть больших каникул.
Все хором выразили свое удовольствие. Языки заработали. Мадам Попеа и фрау Шульц говорили одновременно и не в тон. Госпожа Бокар бегло выразила мистеру Четвинду свое удовольствие по поводу приезда его сына.
Но для ушей Фелиции это было не более, чем отдаленное жужжание. Сообщение сыграло как бы роль электрического тока, в мгновение оживившего увядшую любовь. Сердце ее сделало большой скачок и все поплыло перед ее глазами, заставив ее на минуту закрыть их. Она раскрыла их и ей бросилось в глаза… лицо Екатерины, которое побелело, как бумага, и ее глаза, устремленные на нее почти с выражением ужаса. Обмен взглядами раскрыл каждой из них секреты другой. Произошло это так внезапно, что только они обе это заметили.
Екатерина мгновенно овладела собой, и краска вновь появилась на ее лице. Она с улыбкой обратилась к старому профессору.
– Будет очень приятно снова повидать мистера Четвинда.
Фелиция позавидовала ей. Она не могла бы положиться на свой голос, даже если бы дело шло о жизни.
Когда они встали, профессор предложил ей пойти с ним на балкон, который тянулся вдоль окон столовой и салона.
– Что, это не радостная весть?
Она опустила голову и, запинаясь, выдавила из себя:
– Да.
– Разве вам не доставит удовольствия вновь повидать Рейна.
– Вы знаете… что могу я вам сказать?
– Мое милое дитя, – сказал он, взяв ее руку, опиравшуюся на железную балюстраду, в свою, – вы не знаете, чего ради Рейн приезжает сюда?
Фелиция покачала головой.
– О, я не смею этого думать… нам не следует говорить об этом. Я не рассчитываю, что в силах буду встретиться с ним.
– Не могу ли я помочь вам? – нежно спросил профессор. – Старику вы можете рассказать, не стесняясь то, что вам трудно было бы сказать молодому. Я к вам очень привязался, мое дитя. Расстаться с вами было бы слишком больно. И чтобы дело до этого не дошло, стало одним из заветнейших моих желаний.
– Ах, вы добры… дорогой, и добры, и великодушны, – возразила девушка, – но…
– Ну, может быть, вы в состоянии расшифровать некоторую загадочность письма Рейна!
Она быстро на него взглянула. Впервые луч надежды осветил ее лицо.
– Можете вы это разъяснить? – спросил он, вынув письмо из кармана и положив его так, что они оба могли его читать, наклонившись над балконом.
Он указал на следующие строки:
„Я приезжаю не только ради тебя, но и ради себя. Сообщаю тебе сие для того, чтобы ты не заблуждался и не думал, что ты единственный магнит, притягивающий в Женеву твоего любящего Рейна".
– Вот! – сказал старик, поспешно спрятав письмо. – Возможно, что мне не следовало показывать его вам. Но Рейн попусту никогда не говорит, и я позволил себе подумать, что мисс Фелиция Гревс тот магнит, о котором идет речь. Прощайте, моя милая. Полагаю, что на сегодня я был уже достаточно нескромен.
Она с некоторой нежностью пожала его руку, и когда он ушел, еще долго оставалась на балконе, погруженная в свои тревожные думы. Кто был магнит… она или Екатерина?
Она старалась не думать об этом, занять себя чем-нибудь. С этой целью она предприняла долгую прогулку с маленькой мисс Бунтер, которая уже несколько дней находилась в дурном настроении. Она пыталась развеселить ее. Но мисс Бунтер все плотнее куталась в свою мантию уныния и изливала перед Фелицией историю своего обручения с человеком из Бирмы.
– Наш брак отложен еще на один год, – рассказывала она. – Я думала, что моим ожиданиям наступает конец. Но у него все еще не хватает средств на это, а вы представления не имеете, как дорога там жизнь.
– О! Я этого не думала, – произнесла Фелиция.
– Моя дорогая! – заявила мисс Бунтер, выпрямивши в знак упрека свои худенькие плечи. – Так говорит мистер Дотерель, а он там живет пятнадцать лет.
– Это удивительно, что вы сохранили свои чувства друг к другу в течение стольких лет.
– Вы находите? О, нет! – возразила мисс Бунтер, убедительно качая головой. – Когда действительно любят, это остается навсегда. Но, – прибавила она со вздохом, – обручение тянется слишком долго.
Таким образом, Фелиция рассталась с мисс Бунтер, находясь в более угнетенном состоянии, чем до этого. Она надеялась выбраться из-под власти этих мыслей, и вместо этого вошла в более тесное общение с ними.
В эту ночь она не могла заснуть. Многое тревожило ее, заставляя пылать ее щеки в темноте… В ней внезапно вспыхивали ощущения, против которых всегда возмущалась ее юная девическая гордость; стыд от сознания, что второй раз разоблачена ее тайна; надежда, доставленная письмом Рейна, цепляться за которую казалось то удовольствием, то унижением; обнаружение любви Екатерины.
Она зарылась лицом в подушку, пытаясь скрыть от себя свое самоунижение. Так поступают обыкновенно многие женщины, когда внезапно в них пробуждается их половая зрелость, с ее думами и печалями, а они, не зная этого продолжают смотреть на все девическими глазами.
V
Затруднение Рейна Четвинда
– Так вы не хотите присоединиться к нам? – спросил помощник декана.
– Не могу дать окончательного ответа, – возразил Рейн Четвинд, потирая свою пенковую трубку о рукав сюртука.
– Это в ваших же интересах, – уговаривал тот. – Мы можем согласовать наши планы с вашими, если вы нам вовремя дадите знать. Оставьте свободными для сей надобности пару недель в июле или августе, и мы тогда устроимся на славу. Видите ли, мы должны знать даты наперед из-за гидов.
– Совершенно верно, – согласился Рейн: – и это очень мило с вашей стороны, Роджерс. Я однако не могу связывать себя. Я не могу в точности сказать, сколько мне придется оставаться в Швейцарии. Кроме того я обещал профессору поехать с ним куда-нибудь, если ему надоест Женева. Нет, устраивайтесь, друзья, сами, не считаясь со мною. Укажите мне, где в какое время вы будете, и я весьма вероятно попаду к вам и приму участие в ваших похождениях.
Роджерс больше не настаивал. Четвинд не был человеком настроений и, без сомнения, имел серьезные основания не связывать себя определенными обещаниями. Но Рейн счел нужным оправдываться. Он встал и подошел к открытому окну.
– Не считайте меня противным животным.
Роджерс рассмеялся, подошел и оперся на подоконник рядом с ним.
– Никто не может быть противен в подобный день.
Окно выходило в сад колледжа. Лужайка была залита солнечным светом за исключением теневых пятен от двух цветущих каштанов. Свежие голоса девушек раздавались в спокойном воздухе; слабые звуки рояля слышались из квартир серой громады, равнодушно высившейся в тени с левой стороны.
Оба они долго стояли молча рядом – Рейн, опираясь на локоть и выпуская большие клубы дыма, которые кольцами лениво расходились в тихом воздухе, Роджерс – с заложенными назад руками.
– Нас можно признать счастливыми, – заметил последний задумчиво. – Наша жизнь…
– Да, напоминает иногда счастливую мертвую страну, – прервал Рейн, – или напоминала бы, если бы не мешали.
– Я этого не вижу, откликнулся другой. – Свободная жизнь ученого не похожа на смерть… Прелесть ее в полном слиянии монастырского уединения с чем-то идиллическим. Здесь, например, – и он махнул тонкой рукой: – Арден без его неудобств.
– Боюсь, что я не способен так отдаваться созерцанию, как вы, – заметил Рейн с улыбкой, – и идиллическое всегда поражает меня какой-то пустотой. Я никогда не укладывался под дерево с тем, чтобы читать Теокрита. Я предпочитаю читать Рабле у камина.
– По-моему, Четвинд, вы неблагодарны. Где, кроме Оксфорда и пожалуй, Кембриджа, будет к вашим услугам такая обстановка? И не одна обстановка, а тонкий дух ее? Она мне кажется насыщенной мыслью. Мы так привыкли к ней, что недостаточно ценим окружающие нас превосходные условия для развития всего того, что есть духовного в нас – в стороне от „суетных путей людей".
– Если хотите знать мое мнение, то „суетные пути людей" гораздо лучше для нас, – возразил Рейн. – Я разумею настоящих людей, а не искусственных, – прибавил он с улыбкой и некоторой тщеславной мыслью.
– Да, но без этого тихого убежища – этих серых стен, холодных монастырей, мирной прелести комнат, подобно этой, глядящей в великолепные безмятежные сады.
– Не знаю, – сказал Рейн. – Несмотря на любовь свою к Оксфорду, я по временам дышу более свободно вне его. Во всем этом слишком много показной интеллектуальности. Если вы знаете, что вам придется провести всю жизнь здесь, вы быстро начинаете смотреть на себя, как на представителя высшей, новейшей культуры, сосредоточенной в колледже… Многих это погубило.
– Но, дорогой Четвинд, – запротестовал Роджерс, – существует разница между любовью прохаживаться по уединенным садам знания и интеллектуальным чванством.
– Несомненно. Но не всякий способен добросовестно там прохаживаться. Опасность заключается в том, что вы наталкиваетесь тут на другого, который делает то же самое. Тогда вы соединяетесь и сообща начинаете говорить о том, как это великолепно, приглашаете третьего, могущего разделять эти чувства, и продолжаете любоваться собою, как высшими существами, одаренными умозрительными способностями. В конце концов, следуя современному инстинкту, вы превращаетесь в акционерную компанию „прохаживающихся по садам знания", что уже является проклятием.
– Швейцария принесет вам пользу, Четвинд, – заметил поспешно Роджерс. – Особенно сейчас, когда ум ваш так расстроен, что вы готовы ложно истолковывать Мильтона.
Рейн рассмеялся, лениво, по привычке крупных людей, потянулся и вновь с руками в карманах уставился в окно.
– Мне все равно. Я готов всякого неверно истолковать – даже вас. На время я пресытился Оксфордом. У меня, видите, было очень много срочной работы с января. Она отняла у меня даже чуть ли не все пасхальные каникулы. Я нахожу, что вы правы. Мне нужна перемена.
– Горный воздух был бы вам полезнее, чем душный город.
– О, слава Богу! – рассмеялся Рейн, выпячивая свою широкую грудь. – Я достаточно здоров. Вы видно не хотели сказать, что я побледнел от чрезмерной работы?
– Нет, – согласился Роджерс, сопоставляя свое тщедушное тело с крупной фигурой товарища. – У вас телосложение, как у быка. Но ваши легкие дышали бы более чистым воздухом, а ум лучше отдохнул.
– Возможно, конечно, что вы и правы, – сказал Рейн. – Во всяком случае, если в Женеве мне будет слишком жарко, я могу присоединиться к вам, забраться на вершину Юнгфрау, приложить снег к голове и остыть.
Роджерс, несмотря на свою склонность к уединению, был светским человеком, и в словах Рейна почуял метафору. Он окинул его проницательным взглядом сквозь пенсне. Рейн при этом расхохотался и взял его за локоть.
– Слушайте, собирались вы появиться на пикнике в парке?
– Да.
– Ну, в таком случае пора. Идемте.
По дороге они поговорили о масонском бале, об успехах на курсах, о предполагавшемся состязании в крикет и тому подобных предметах, столь близких профессорскому сердцу в летнее время.
Первое лицо, которое бросилось в глаза Рейну в парке, была его кузина, миссис Монтейс. Она ловко освободилась от двух сопровождавших ее прелестных племянниц, препоручив их проходившим мимо кандидатам на ученую степень, и стала прогуливаться вместе с ним по лужайке.
Это была маленькая хорошенькая женщина, на два или три года старше его. Давно еще она пришла к заключению, что Рейн и она рождены друг для друга и стремилась быть в курсе всех тайн его души. Пока она удовлетворялась его инициативой, все шло хорошо; но однажды она насильно раскрыла тщательно запертый уголок его души, и отскочила с полным скорби изумлением. Тогда она решила, что плохо поняла намерения Творца, и вышла сразу замуж за доктора Монтейса, тайны души которого были так же тщательно занумерованы и записаны, как гранки его незаконченного словаря к Гомеру. Но она навсегда сохранила определенный интерес к благополучию Рейна, а он не прочь был в шутливой добродушной форме его поддерживать.
– Итак, вы уезжаете в Швейцарию, – сказала она. – Что намерены вы там делать, если не считать свидания с дядей Луи?
– Отдыхать, – ответил он. – Жить в пансионе и отдыхать.
– Вы найдете это мало интересным. Долго ли намерены вы там пробыть?
– Возможно, большую часть каникул.
Миссис Монтейс раскрыла в изумлении глаза и перестала вертеть зонтиком.
– Мой милый Рейн! В Женеве?
– Моя милая Нора, я, право, не вижу тут ничего изумительного. Я недавно по этому же поводу говорил с Роджерсом. Почему бы мне не жить в Женеве? Что можете вы возразить против этого?
– Если вы будете говорить со мной в таком тоне, вы заставите других подумать, что объясняетесь мне в безнадежной любви.
– Оставьте их, – сказал Рейн, – они окажутся не глупее меня.
– Что хотите вы этим сказать?
– О, не беспокойтесь. Я не собираюсь объясняться в любви. Я спрашиваю себя, не поднимете ли вы меня на смех, если я вам нечто расскажу.
– Это будет зависеть от того, насколько рассказ окажется комичен.
– Как кто на это посмотрит, – возразил он с улыбкой.
– Пусть так… Прежде всего позвольте осведомиться, в качестве кого мне приходится выслушивать это признание?
– В качестве руководителя, философа и друга, – заметил он. – Переберемся в более уединенное место.
Они подыскали скамейку в укромном углу под деревом и сели. Миссис Монтейс коснулась своими затянутыми в перчатку пальцами его руки.
– Пожалуй, излишне говорить, что это касается женщины?
– Почему вы подумали, что дело идет о женщине?
– Мой милый мальчик, вы не потащили бы меня в это заброшенное дикое место, если бы речь шла о мужчине! Конечно, тут замешана женщина. У вас это ясно написано на лице. Верно?
– Если вы настроены иронически, я не стану вам говорить.
– О, Рейн!
Она придвинулась несколько ближе к нему и оправила платье. Когда женщина, сидя рядом с мужчиной, оправляет платье, это вызывает у него доверчивое отношение.
– Нора, – обратился он к ней, – когда мужчина не знает, влюблен он или нет, как ему лучше всего поступить?
– Лучше всего решить, что нет. Несколько хуже – попробовать убедиться в этом.
– В таком случае, я собираюсь сделать последнее. Я еду в Женеву, чтобы убедиться в этом.
– А давно ли вы находитесь в таком состоянии?
– С января.
– Почему вы мне до сих пор не говорили?
– Потому что не говорил этого и самому себе. Теперь я убедился в этом; несколько месяцев тому назад я неудачно сорвал лепестки маргаритки, и это развлечение мне повредило. Бедный старик полагает, что я еду исключительно ради него, а я чувствую себя совсем сбитым с толку, хотя конечно… хорошо…
– Большинство из вас бывает в таком состоянии.
– То есть?
– Сбитыми с толку, – мило отозвалась она. – А теперь скажите по совести, неужели вы не знаете влюблены вы или нет.
– Нет.
– А вы не прочь влюбиться?
– Совершенно не знаю этого. Это самая неприятная сторона всей истории.
– О, я понимаю! В таком случае вопрос идет о привлекательности самой дамы. О, Рейн, мне знакомы эти пансионы. Надеюсь, это не польская графиня с двумя пуделями и некоторым прошлым? Расскажите мне какова она?
– Но если говорить правду, – возразил он, как-то странно комически мигая глазами и умоляюще улыбаясь, – это невозможно.
– Почему?
– Потому что их две, а не одна.
– Две чего?
– Две особы.
– И вы не знаете, в которую вам влюбиться?
Рейн кивнул головой, со скучающим видом протягивая руки вдоль спинки скамейки.
Миссис Монтейс несколько минут смотрела на него молча, затем залилась смехом.
– Это восхитительно! Умри или победи как воин у Анакреона!
– Не цитируйте, Нора, – заметил Рейн. – Это одна из ваших дурных привычек. Вы достаточно потрудились над заучиванием первых строчек из произведений Горация, но в Анакреоне вы ничего не смыслите.
– Неправда! – крикнула она, повернувшись резко в его сторону и защищаясь. – Джошуа исправлял корректурные листы своей работы в течение нашего медового месяца. Я заставляла его переводить их мне – это было средство внушить ему любовь. Вот я готова повторить вам этот стих. О, мой милый Рейн это право, восхитительно! Вы единственный в мире.
– Итак, ваш приговор гласит что я чрезвычайно смешон?
– Боюсь, что ваша история представляется мне именно в таком свете.
– Благодарю, – заявил Рейн невозмутимо. – Это я и хотел узнать. Я несколько шутил, но в моем признании имеется зерно правды. Вы подтверждаете мое собственное о себе мнение… я чрезвычайно смешон. Я люблю ясно смотреть на вещи. Так нелепо чувствовать себя в неопределенном настроении… я этого терпеть не могу.
– Разве? – заметила миссис Монтейс. – Как это не похоже на женщину. Ей больше всего нравится такое именно состояние.
Вернув ее к покинутым обязанностям, Рейн остался еще на некоторое время, чтобы обменяться с гуляющей публикой приветствиями, а затем побрел обратно в свой колледж. Он поднимался на лестницу с улыбкой на губах при воспоминании о своем разговоре с кузиной. Насколько это было у него серьезно? Он едва ли мог на это ответить. Несомненно, во время рождественского посещения и Екатерина, и Фелиция его привлекали к себе. Он с ними сблизился больше, чем обычно позволял себе это с женщинами. Быть может это произошло потому, что они слишком отличались от группы женщин, которых он привык встречать на людных вечерних приемах, устраиваемых оксфордским обществом. Возможно, известную роль сыграло и то обстоятельство, что он из Оксфорда, где мужчин на рынке было множество, попал в пансион Бокар, где этот товар ценился особенно высоко. Его сильный организм почему-то неожиданно для него самого оказался чувствительным к этому внезапному возвышению его ценности. Как бы там ни было, но он сохранил живое воспоминание об этих двух особах и, как писал своему отцу – в том же самом полушутливом тоне, в каком разговаривал с кузиной – он вынужден был признать, что сыновний долг не являлся единственным магнитом, привлекавшим его в Женеву. Что же касается нежелания связать себя окончательно с Роджерсом и его компанией для путешествия по горам, то он рад был своим туманным мечтам, дававшим ему добросовестное основание для этого. Роджерс был прекрасный товарищ и восторженный альпинист, но он оставался академиком даже на вершине Юнгфрау.
Эти соображения промелькнули у Рейна в голове, когда он сел за свой рабочий стол, чтобы закончить до обеда небольшую работу в маленькой комнате, служившей ему убежищем куда допускались только кандидаты на ученую степень в экстренных случаях. Обставляя первую приемную комнату Рейн считался со вкусом и удобствами приходящих, но здесь он хранил то, что ближе соприкасалось с его личной жизнью. Продолжая писать, он взял левой рукой разрезной нож из слоновой кости и прижал его к лицу.
Он остановился, задумавшись, посмотрел механически на нож и погрузился в мечты среди бела дня. Этот кусок слоновой кости вернул его к давно минувшему времени… к тем дням, когда он только становился мужчиной.
Он вздрогнул, бросил перо и прислонился к спинке кресла; тень серьезного раздумья мелькнула на его лице.
– Тогда действовал юноша, – произнес он вслух. – Как поступит взрослый мужчина? Если это безумие так же серьезно… как то…
Через несколько минут он хлопнул обеими руками по кожаным ручкам кресла.
– И то, и другое равноценно… так должно быть… я готов поклясться в этом! А потому здесь нет ничего особенного.
Он отбросил в сторону незаконченную работу и взял лист почтовой бумаги из ящика…
– „Милая Нора, – писал он, – я боюсь, что вы можете ложно истолковать мою сегодняшнюю чепуху.








