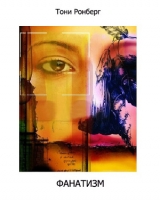
Текст книги "Фанатизм"
Автор книги: Тони Ронберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
Бусыгин поднялся.
– Свободен. Иди картинки свои малюй. Или попросить хочешь: «Спасите-помогите. Защитите меня от этого маньяка. Приставьте ко мне взвод охраны»?
– Нет, не хочу.
– А раз не хочешь, так прекрати играть в подонка. Можешь и заиграться.
– Я не играю. Я такой и есть.
Ведь это я спровоцировал убийцу. Мне хотелось узнать меру его любви. А его любовь оказалась безмерной. Оказалась страшной, оказалась колодцем с черным дном – ревностью, жестокостью, безрассудством.
Мне следовало искать в Бусыгине союзника, но я не искал. Может, и искал бы, и каялся бы, и плакался бы ему в жилетку, если бы не Соня. Как-то не укладывалось у меня это.
На похоронах Ирины все выражали мне соболезнования. И это уже было привычным. Ее компаньон Смирнов держал под руку жену, а смотрел на меня волком.
К тому времени я уже должен был написать триста картин – продать, раздарить, выставить, прославиться в пределах и за пределами, а я завис… в тоске, в провалах, в похоронах, в паутине. Никуда не мог сдвинуться.
Предел это. Поворотный пункт. Или финал.
Или финал? Стучало в висках. И говорить ни с кем не хотелось.
У меня даже не осталось ее портрета. А Ирина была симпатичной – высокой шатенкой с короткой стрижкой и серыми глазами. Тогда, в церкви за городом, она так смешно застыла, глядя на меня. Может, увидела свою Смерть – прекрасную, в светлых одеждах, самую привлекательную Смерть на свете.
Продирало холодом. Она всегда зябла, куталась в свитер, жалась к батареям.
Я сидел у батареи, потом лежал. Как она теперь согреется в холодной земле, как?
22. ФИЛЬМ УЖАСОВ
У ездовых собак тоже так. Если хозяин погладит одну лайку, остальные накинутся на нее и разорвут. Он должен любить всех одинаково. Или не любить никого.
Я думала о собаках и о том, что Ирина была опытным юристом, но впустила в дом убийцу безо всякого подозрения. Она ему доверяла.
Жизнь шла дальше. Два человека в марлевых повязках ограбили банк. А потом по телевизору сообщили, что никакой эпидемии не было, был просто пиар-ход в рамках президентской компании – кандидатам хотелось поиграть в Бэтменов. На улицах люди продолжали носить маски – зеленые, белые, строительные, дизайнерские, с улыбками, булавками, стразами и в виде флагов. От этого начинало мутить. Фальшивая идея, как обычно, породила такие же фальшивые, гнусные, коммерческие решения.
Я подготовилась к выходным – накупила дисков и фруктов. Фильмы взяла старые – из тех, которые признаны «классикой». Наверное, у вас тоже есть список таких фильмов, отмеченных Оскарами и Золотыми Медведями разных лет, прославленных на форумах и захваленных критиками, при обсуждении которых вы просто киваете и многозначительно молчите: стыдно признаться в том, что никогда их не видели. Иногда я выделяю уик-энды для просмотра таких фильмов по списку. Но в те выходные дело не дошло до кино. Как только я сунула диск в DVD-проигрыватель, в дверь позвонили. Пришел Горчаков – в короткой куртке и длинном шарфе, всколоченный, небритый, со снегом в волосах.
– Ты чего? – я не впускала его внутрь.
– Это ты чего? Нельзя войти? Замерз. Был поблизости.
Он вошел. Я предложила чаю.
– А крепче ничего нет?
Нашлась бутылка коньяка. Он прошел в зал.
– Нет! Только не «Достучаться до небес»! – замахал руками на проигрыватель. – Мне этот фильм не нравится.
– Я ни разу не видела, – призналась я.
– И не нужно, – он вынул диск. – Прошло время. Ни одной свежей идеи для нас там нет. Жить каждый день на полную, как последний? Как будто это так просто!
Он сел на диван перед погасшим экраном и стал пить коньяк.
– Думаешь об Ирине? – спросила я.
– Нет. Так случилось. Что теперь думать?
Повисла густая, серьезная, печальная тишина. Я налила и себе и села перед ним на пол.
– Страшно тебе, Соня? – спросил вдруг он.
– Страшно. Мир кажется хрупким. Жизнь кажется хрупкой. В голове не укладывается это все.
– Никто не защищен? Поэтому?
– Нет-нет, я думаю, ты защищен. Он не причинит тебе вреда.
– Бусыгин сказал?
Я замолчала.
– Бусыгин сказал, что все эти случаи могут и не иметь никакой связи между собой.
– А мне он сказал, что никто не застрахован. И я тоже.
Мы помолчали.
– Так когда у вас свадьба? – спросил вдруг Иван.
Еще выпили. Говорить о Бусыгине я не могла. Рядом с Иваном у меня не было ничего личного – не было моего детства, моих родителей, моей жизни до него – был только он.
– А другие фильмы у тебя есть? – спросил Горчаков.
– Тебе лучше уйти… наверное…
Человек не может долго находиться на пике. Иначе это уже не пик. Наедине с ним я чувствовала подземные толчки землетрясения и знала, что вот-вот разверзнется бездна, я сорвусь в провал пустоты, и он не подхватит…
– Ты иди домой, Иван. Тебе работать надо, писать. А у меня уик-энд, я кино смотреть буду…
– Ждешь кого-то?
– Да, жду, да, – нашлась я. – Своего парня.
– Или Бусыгина?
– А потом Бусыгина.
– Я не просто уйду, Соня. Я уеду.
Он поднялся и стал ходить по комнате, а я села на его место на диване.
– Как это?
– Уеду навсегда. Конечно, я бы сам не додумался, но помогли. Колька Демчук договорился с одной норвежкой. Она известный коллекционер, молодых французов собирает, Абеля Прадалье. Он показал ей мои работы, она очень и очень заинтересовалась. Не просто купила, а пригласила к себе – пожить, отдохнуть, поработать, все вместе. Он описал ей мое упадническое настроение. И она вдова – огромный особняк у нее, состояние. Муж был крупным промышленником.
– Сможешь?
– Что смогу? Трахаться? Смогу, конечно. Если она захочет. Но, может, и не нужно будет. В Норвегии красиво и чистый воздух. Холодно и красиво. Дама высокая блондинка – фру Марта. Худая и хорошо говорит по-английски. Сначала напишу ее портрет, она попозирует, расслабится, возникнет эмпатия, мы увидим все в одной цветовой гамме…
Для меня уже давно началось падение в пустоту, а Горчаков толкал и толкал в спину.
– А это не то же самое, что и здесь? Что и с Аванесовой было?
– Нет. Я разорву этот круг. Уеду навсегда. Не буду никому писать, не буду звонить. Все это останется в прошлом. Я устал от всех этих подозрений, убийств, безденежья, вечного отторжения от действительности, вечной тошноты. Я не могу продолжать. Там я самого себя нарисую заново.
– С ней?
– Все равно, с кем.
Это был фильм ужасов. Худшего уик-энда в моей жизни не случалось. Я просто закрыла уши руками. Горчаков ушел в тишину.
23. СЧИТАЛОЧКА
Мир казался хрупким. И вот он рухнул.
Если он уедет, он просто исчезнет. И его место никогда не будет занято никем другим. А его место в моей жизни – это вся моя жизнь.
Наверное, неправильным было жить его жизнью – его удачами и неудачами, его связями, его отношениями, его друзьями и врагами.
Он уедет – и все закончится. Он не позвонит и не выйдет в Сеть, чтобы доказать всем, что у него все отлично, и он легко обойдется без прошлых связей. Да это и не связи, а преследование чокнутых фанатов, от которого больше вреда, чем пользы. Разумеется, он прав.
Это муж Марианны ему подсказал? Наконец, подыскал солидную бизнесвумен. Или Марианна вывела – через свою галерею. Вот те единственные люди, которые смогли хоть что-то для него сделать.
Дама там, или не дама. Другая страна – другие возможности. Другое все…
А у меня – моя персональная пустота, в которую я лечу – во сне, наяву, в будни, в праздники.
Это не одиночество. Это просто пустота. Вокруг меня – безвоздушное, разреженное пространство, холодный космос, в котором нет ни единого искреннего чувства, ни тепла, ни участия. Только моя любовь преображала этот мир. Но не преобразила. Не было даже шанса.
Все нормально. Все отлично. Все можно пережить. Ветер все мел снег, но я старалась не смотреть за окно. И знала, что ни с кем не смогу обсудить его отъезд. Слишком больно. Да и мир нашей доверительной дружбы рухнул еще раньше.
Пустота меня любит – она меня подхватывает и не дает упасть на самое дно. Или нет дна у этой пустоты, и мучительное падение бесконечно?
В понедельник я все-таки позвонила Марианне – хотелось получить информацию из первых рук.
– Привет. Это правда?
– Что именно?
– Горчаков уезжает?
– Куда?
И меня снова закачало на волнах. Если Марианна не знает, значит, это неправда. Горчаков все выдумал – просто, чтобы позлить меня.
Я набрала Витьку.
– Ну, да. Я просто в шоке. Мы виделись в воскресенье, у него шкафы были вывернуты, все вещи на полу, большая ревизия: брать, не брать. Это навсегда.
Я верила и не верила.
– Я не переживу, – сказал Витька. – Я сдохну, как собака на пыльной дороге – глядя вслед. Я не выдержу. Что останется без него в нашей жизни? Одна дрянь…
У меня не было слов. Если он уедет, даже слов не останется. Пожалуй, я не смогу написать ни одной статьи для нашей газеты.
– Это Марианна ему присоветовала?
– Она. Или Колька. Но это намного хуже, чем если бы он просто женился. Это насовсем, – снова сказал Витька.
– Значит, он не любит никого из нас. Ему никто из нас не дорог.
Витька тоже понимал это, но молчал.
– Пусть валит, – сказала я.
– Так обидно это. Не само решение, а это все…
Злая мысль стискивала виски: пусть валит. Разумеется, мы не родственники, никто никому не спасал жизнь, не занимал миллион долларов. Все отлично. И – если разобраться – он и не должен терпеть фанатов, толку от которых – ноль. Его жизнь – полноценна и самодостаточна, а наши – болтаются за ним, как консервные банки.
Я и не заметила, как вошел Михаил Борисович. Сел на стул в углу.
– Соня, плохи твои дела?
Я подняла голову.
– Плохи.
– И мои, Соня. Все время думаю, что вот совсем скоро ослабну, слягу в постель и буду только ждать. И больше ничего уже не будет. И ничего уже не изменится…
– Да разве вы больны чем-то?
– Нет, но…
– Так вы сляжете в постель через пятьдесят лет!
– Но слягу же… Я даже к психологу ходил, Соня. Он сказал, что мысль о смерти у меня навязчивая, но я должен от нее отвлечься. Страх смерти тоже проходит свое развитие, и для каждого человека наступает такой момент, когда страх смерти совершенно проходит. А у меня не проходит. Я с ума схожу.
– Так это и доказывает, что вам до «момента» жить и жить. Тогда все иначе воспринимается, совсем иначе, – сказала я как можно убедительнее.
Михаил Борисович заметно повеселел. Видимо, психолог забросал его такими страшными терминами, на фоне которых мои слова показались предельно ясными.
– А у тебя что? – переключился он на меня.
– Человек, которого я люблю, уезжает из страны.
– Да, невезуха, – согласился главред. – Значит, не понял, что теряет.
– Что теряет?
– В твоем лице.
– Да ничего он в моем лице не теряет. Вокруг него таких лиц – завались.
– Мыслить надо с точки зрения позитивной философии, заботиться в первую очередь о себе. Не ценит, не любит, значит, не достоин. Никуда современная молодежь не годится! Я бы на его месте…
Страх смерти отступил настолько, что Михаил Борисович уже примерялся к месту моего любовника – не иначе, как с целью «слечь в постель» вместе со мной. Пришлось срочно перевести разговор на статьи. Но в голове осела считалочка: не ценит, не любит – не достоин. Не ценит, не любит – не достоин.
С мыслью о его отъезде нужно было переспать не одну ночь, и более тяжелых пересыпаний в моей жизни не было. Ветер выл, снег мел, я взяла отгулы и все пересыпала в своей берлоге, надеясь проспать до весны и до новой жизни. Во сне навалилась тяжелая депрессия.
24. ГРАЖДАНСКИЙ БРАК
В депрессию постучался Бусыгин.
– Ты чего не на работе?
– А вы чего?
– Пришел тебя проведать.
Я обмотала шею шарфом еще раз.
– Кхы-кхе. Мне все хуже и хуже.
– А на самом деле?
Прошел в квартиру и взглянул на две пустые бутылки коньяка под столом.
– А на самом деле еще хуже, – сказала я.
Он сел на табурет и зажег сигарету. Говорить было не о чем. Видеть его не хотелось. Хотелось видеть не его.
– Сергей Сергеевич, когда уже растает все это? Весной? Как обычно?
– Не поверишь, но я хочу тебя о том же спросить: когда растает все это, когда потеплеет, когда перестанет быть больно?
– Знакомо, – я кивнула. – Отрезайте все лишнее. Все лишнее – в топку. Боль – деструктивное чувство.
– Не могу. Отрежу – ничего не останется.
– И у меня так. Он уезжает в Норвегию – навсегда. А меня ломает, словно он с собой все увозит: воздух, воду, почву под ногами, прошлое, будущее, свет, тьму, солнце, луну, день, ночь…
Бусыгин молчал. Докурил, взял новую.
– Я вот думаю, если так ломает тебя, то как ломает того, кто, возможно, убил ради него троих человек. В любом случае – к лучшему, что он уезжает. Тем более, он не под подпиской о невыезде.
– Логично вы рассуждаете.
– А ваши знают о его отъезде?
– Наверное, уже знают. Но я не хочу с ними общаться.
– А вот это правильно. Очень мутная компания, очень.
Бусыгин даже повеселел немного. Депрессия – это же не грипп, это не заразно.
Горчаков не устраивал никакой прощальной вечеринки. Он был озабочен получением визы для выезда в Норвегию.
Депрессию я победила техническими средствами: включила магнитофон и пылесос. Соседи колотили в стены. Бусыгин надеялся найти мое бездыханное тело в постели, а нашел за генеральной уборкой.
– Соня, может, мы все-таки попробуем пожить вместе?
– Ну, подселяйтесь. Что тут пробовать? Это ж не пломбир на палочке.
И мы стали жить вместе. Я привыкла к тому, как он выглядит, и к тому, что он не изменится: не подрастет, нос не станет тоньше, волосы не потемнеют, он не перестанет осведомляться о ценах на продукты, которые я покупаю, летом мы не поедем в Венецию, а зимой не поедем… не поедем в Норвегию. О Норвегии я не знала ничего, кроме Fairytale, и ничего больше знать не хотела.
Бусыгин же узнал обо мне, что я хорошо готовлю, что бываю раздражительной и что не всегда хочу секса. Все это в комплексе его очень удивило. Он почему-то считал, что секс для меня – краеугольный камень мироощущения.
Мы разделили расходы и обязанности по дому и создали довольно уютный быт в съемной квартире. Сначала я даже хотела забеременеть от майора, но он был против. Потом он вроде бы дозрел до мысли, что ребенок нам нужен, но я уже перегорела. Нерожденный ребенок – невозможное будущее сублимированной семьи. Все было как настоящее, но когда я закрывала глаза – ничего не было, кроме Горчакова. Не было нас в этой квартире. Не было холодной зимы. Была только моя память о нем.
«Наших» я встречала очень редко, а от тех, кого встречала, знала, что он ни с кем не поддерживает связи, ни с кем не переписывается, никому не звонит и не высылает открыток с видами северной страны.
Расследование Бусыгина тоже ни к чему не привело, взаимосвязь между преступления доказана не была, а у Ирины нашлось такое количество недоброжелателей по прошлым судебным процессам, что следствие совершенно увязло в выяснении деталей.
На работе меня повысили до выпускающего редактора – должность вроде составителя стандартного сканворда из стандартного материала. Занятие было простым и не отнимало много нервов. Михаил Борисович тоже стал спокойнее и не раз повторял, что может целиком и полностью на меня положиться. Страх смерти начал отпускать его, и я была этому искренне рада.
Мы встретили Новый год вдвоем с Бусыгиным дома. Выходить он не любил. Сеня звал на театральную вечеринку, но майор так отмахивался, что сбил сосновые ветки, установленные мною на холодильнике в качестве новогодней икебаны.
– Я пожилой человек, Соня! Думаешь, мне это интересно? Или легко?
Интересно и легко ему было только заниматься сексом. Притом, что со временем мне это нравилось все меньше, а ему все больше. Объяснений этому у меня не было, потому что никогда раньше мне не приходилось жить с кем-то долгое время. Я считала, что человеку, не проявляющему до этого какой-то особой озабоченности, секс должен быстро прискучить. Но Бусыгин каждый день пытался доказать мне и самому себе, что я с ним и принадлежу ему – доказать азартно и не по одному разу.
Мне надоело жутко. Если раньше в моей жизни были хоть какие-то фрагменты смысла, то теперь он стер все до единого. Остались уютный быт, вкусная еда и секс с гарантированным оргазмом. Новый год начался долгими выходными – от тоски можно было сойти с ума. Но я не сошла – готовила что-то по модным Интернет-рецептам, мы смотрели два разных телевизора, потому что вкусы не совпадали, он легко засыпал под Discovery, просыпался, пробовал что-то из приготовленного, хвалил, валил меня на диван, потом мы играли на двух разных ноутбуках в разные игры: он – в гонки, а я – в стрелялки, и все было спокойно, и ветра за окнами почти не было слышно.
Но ветер был. Он разбрасывал по миру тарелки с вкусными блюдами, телепрограммы с новогодними концертами, елочные игрушки и использованные презервативы. Я ненавидела саму себя за то, что согласилась на переезд Бусыгина.
25. ПИСЬМО
Есть электронные адреса, которыми ты уже не пользуешься, о которых никто не знает, кроме старых друзей, но которые ты не закрываешь. Не потому, что надеешься на что-то, а потому, что занес их в Красную Книгу своих иллюзий: на этот адрес он может мне написать. Приходит на них обычный спам – предложения по раскрутке сайтов, реклама лечения бесплодия, поздравления с тем, что ты выиграл миллион фунтов, и просьбы выслать в ответ свои паспортные данные. А ты каждый раз вздрагиваешь: 1 новое сообщение! Вдруг это от него?
И вот однажды пришло письмо «от него».
«Здравствуй, Соня, – писал мне Горчаков. – Прости за то, что уехал, толком не попрощавшись, что не давал о себе знать. Прости, если тебя это задело, а если не задело, то и прощать не за что. Надеюсь, ты хорошо поживаешь, и у тебя все нормально…»
Я не могла читать дальше. Строчки расплывались от слез. Я подошла к окну – лил дождь, снег таял, влага липла снаружи к стеклам. Талая вода в лужах казалась мне красной…
Вошла Наташа с новой статьей, но я была не в силах отвечать. Потом вдруг подумала о том, что письмо может исчезнуть.
«Хочется рассказывать тебе о чем-то. Обо всем. Долго и подробно. Но не уверен, что тебе это интересно. Уверен только в том, что прошлое позади. Прошлое – со всей нашей компанией, с нашими вечеринками, с моими надеждами. Сейчас я живу совсем другой жизнью. Дорогая моя Соня, прошу тебя, не рассказывай никому об этом письме».
Все. Это был конец сообщения.
Он не рассказал ничего и попросил не рассказывать никому. Мне даже показалось, что какие-то строчки выпали. Я закрыла почту и снова открыла, письмо было на месте, в прежнем виде.
Так о чем он хотел мне рассказать? И зачем вообще написал мне? Я была растеряна и счастлива. Взялась писать ответ, начинала несколько раз и стирала.
В конце концов, получилось всего одна строчка: «Рассказывай обо все. Мне все интересно. Рада, что твоя новая жизнь удалась. Пиши. Соня».
Он отрезал прошлое, а меня не отрезал. Он обо мне помнил. Этого было вполне достаточно для счастья!
В один миг все изменилось. Мутная, грязная, душная весна вдруг стала чистой, прозрачной, душистой. Бусыгин кривился – снова произошло какое-то убийство, расследование которого «выносило ему мозг». И я понимала, что даже то, что когда-то касалось Горчакова, было для него всего лишь очередным, рядовым, ничем не примечательным, отнюдь не уникальным случаем. И сам Горчаков был для него всего лишь фигурантом какого-то дела.
А я ждала ответа. Ждала с таким нетерпением, что спазмами сжимало горло, и обычные слова произносились с хрипом. На следующий день к вечеру пришло новое сообщение.
«Если я стану рассказывать о здешней жизни, ты заскучаешь, милая Соня. Фру Марта живет в четырехэтажном особняке недалеко от парка Вигеланна в Осло. Два нижних этажа занимает ее галерея, а третий этаж – живой художник, то есть я. Район очень красивый, воздух чистый, еда вкусная, я даже поправился.
Недостаток в том, что все еще зима. Настоящая полярная ночь. Конечно, не такая, как в северных губерниях, но мне кажется, что самая настоящая. Сумрачно. Тускло. Повсюду искусственное освещение.
Людей мало. Это тоже странно. Центр города почти пуст даже в уик-энды. Я ездил на машине через туннель в Берген – гулял по Ганзейской набережной и по рыбному рынку (не смейся) и там мне казалось живее.
Природа очень красива. Очень – не то слово. Никогда до этого я не встречал такой однозначной, бескомпромиссной красоты. Но пейзажи, которые я рисую на берегу, – очень холодные пейзажи. Ты поймешь, когда их увидишь. Они наполнены голубоватой дымкой полярной ночи и дыханием холодной воды. Это совсем другая красота…
На авто, которое она мне отдала, я объехал почти все побережье, все фьорды. Я могу так теряться на целые недели – ночую в отелях, рисую, снова еду, но потом я возвращаюсь к ней, и она рада моему возвращению.
В особняке часто бывают гости – многие говорят по-английски, бывают и русские. Марта любит такие тусовки.
Ты еще не заскучала? Я живу здесь очень мерной, спокойной, свободной и простой жизнью. Никаких рекламных макетов, никаких жестких сроков, никаких претензий заказчиков. Я пишу – для себя. И совсем не думаю о будущем.
Но все еще зима, Соня. Марта говорит, что летом будет много солнца. И я боюсь только одного, что постоянный свет окажется тяжелее постоянного сумрака.
Все-таки расскажи о себе. Как дела на работе? Как твой друг (и мой друг) Бусыгин? Нашел ли он того, кто убил Ирину?»
На этом письмо заканчивалось. И прочиталось мне в нем совсем не то, что было написано. Прочиталось, что он спасается от жизни с фру Мартой, гоняя на машине по побережью, что в этой свободной жизни он несвободен и несчастен, что он нашел там себя другого – и не доволен собой другим.
И горько, и радостно было от этого письма. Но появилась надежда – увидеть его снова, увидеть его холодные пейзажи. Да и сами письма стали для меня таким событием, что заполнили всю мою жизнь.
Не было сил видеть Бусыгина. Но не видеть – значило бы указать ему на дверь. Я не указывала, молчала, думала о своем, и это молчание становилось невыносимым.
26. ОБЪЯСНЕНИЕ
Я и тогда знала, что даже такой ерунды не смогу написать никому другому, что никто другой не может быть на месте Горчакова, несмотря на то, что с ним у меня ничего не было, а с другими – было. Так «ничего» стало важнее «всего», а «все» стало «ничем».
– Мне кажется, нам нужно отдохнуть друг от друга, – сказала я Бусыгину.
Не сказала, выдавила – по слогам, со скрипом. Его отшатнуло от чашки кофе.
Я бы на его месте не выясняла причин. Он стал выяснять. Причин не было.
– Тогда уйду я, – решила я, но идти мне было некуда.
Снять новую квартиру быстро было довольно сложно. К тому же эта была почти в центре, целиком меня устраивала, и оплачивала я ее самостоятельно.
– Ты можешь меня понять? – спросила я майора, с которым к тому времени насилу перешла на «ты».
– Как я могу тебя понять, если ты ничего не объясняешь?
Меня мучила совесть. Я вспомнила, как он приезжал по моему звонку, как спасал меня от ветра, как боялся за меня во время тех убийств. И это ведь я его обманула – говорила, что смогу, и не смогла. Он стар и беден, ему сложно найти молодую и привлекательную девушку, а я так подвела его. Мне не нужно было соглашаться на его переезд – не нужно было побеждать свое чувство таким банальным способом. Тем более – побеждать непобедимое чувство.
Письма Горчакова, конечно, ничего не решали в истории нашего неудачного гражданского брака, но, может, были поводом к этому разговору.
Майор все еще ждал объяснений. Объяснений не было. Я уронила руки между колен. Кофе остыл.
– Что будем делать? – спросил он.
– Ты же можешь вернуться к родителям?
– А ты с кем будешь?
– Одна.
Я уже не верила, что он уступит. Но Бусыгин съехал. Было ужасно печально – вина грызла меня так, что дрожали пальцы и фразы рассыпались на крошки. Оказалось, что у меня очень маленькое и скупое сердце – всего для одного человека в мире.
Март все еще лил дождем, но мне очень хотелось написать Горчакову бодрящее письмо, и я сочинила такое: «А у нас настоящая весна! Снег тает быстро, и теплеет с каждым днем! Меня повысили на работе, я теперь выпускающий редактор. У главреда прошел страх смерти, он весел и благодушен, у всех в редакции праздничное настроение. О нашем общем друге Бусыгине, к сожалению, мне ничего неизвестно. Мы давно расстались, и я даже не знаю, как, куда и насколько продвинулось его расследование».
По итогам этих писем картина сложилась следующая: над Норвегией, даже над Осло, висела беспросветная полярная ночь, а у нас царила настоящая праздничная весна. Там были страдания и неудовлетворенность, а здесь все купались в счастье и разнообразных удовольствиях. И я в том числе.
Ответ последовал незамедлительно. «Ох, Соня! Узнаю тебя в каждой строчке! Все, значит, у вас отлично? А где-где Бусыгин, что-то я недопонял? Вот сижу с ноутом на коленях, телик включен и сверху слышатся голоса. У моей дамы сердца сегодня снова гости – ее утонченные подруги. Так что выспаться мне не удастся: дамы жаждут общаться со «славянским художником». А тебе – спокойно ночи, моя оптимистичная Соня!»
Что сказать? Я не спала всю ночь. Думала о нем, о тех дамах и о том, что думать об этом не следует. А утром написала ему очередной шедевр: «Что бы ты ни делал, с кем бы ты ни был, я люблю тебя. И это не фанатизм. Я люблю».
Он больше не писал. Несколько дней прошло в тумане. Неожиданно позвонил Сеня – звал на какую-то тусу.
– Ничего не слышно об Иване? – спросил между прочим.
– А что может быть слышно? В Норвегии высокий уровень жизни, он там не одинок. Все должно быть хорошо.
Семен согласился. Мы пошли вместе на вечеринку. Сеня – в широком клетчатом пиджаке и узких джинсах – казался каким-то незнакомым, исхудавшим. Я взглянула вопросительно.
– Да-да, знаю. Мне очень тяжело было, когда он уехал. И сейчас я все делаю для того, чтобы только не думать…
Снова я почувствовала занозу в сердце, поспешила взять бокал шампанского.
– А Димку бы ты видела! – продолжал Сеня. – Он вообще на грани. И, честно говоря, очень жалко выглядит. Но теперь – каждый сам за себя. Никто сопли вытирать не будет.
– А Витек как?
– Витек в работу ушел, ни с кем не общается. Стас тоже замкнулся, с женой у него проблемы. Марианна лечится, с иммунной системой что-то, Колька мне рассказывал. Короче…
Страшно было говорить об этом. Как после взрыва – повсюду были разбросаны обезображенные тела бывших друзей.
– Давай уйдем, Сеня… Я не могу быть здесь, я не могу!
Мне резко стало дурно, так резко, что подкатила тошнота. Мы ушли, плелись куда-то пешком, было холодно, снова скользко, ветрено. Потом он вернулся к своей машине, а я пошла дальше…
Зачем-то позвонила Димке.
– Я не хочу тебя слышать! Я не хочу никого слышать! – заорал он.
Я набрала Андрея.
– Сейчас… не самое подходящее время… для разговоров. Очень тяжелое время, – был ответ.
Ася вообще не отвечала. Я звонила, шла дальше, снова звонила на ходу – словно бежала по кладбищу и пыталась кого-то дозваться.
Дома я даже не проверяла почту. Снова чувствовала, что не имею на него никакого права, что его любят все, что все готовы жизнь за него отдать, что без него люди теряют последние силы.
Я чувствовала себя предательницей, укравшей у его фанатов несколько нескладных писем. Зарекалась писать и обещала самой себе занести его адрес в черный список.
Но среди ночи, устав бороться с нервной бессонницей, встала и включила ноутбук. Меня ждало письмо от Горчакова. Сердце ухнуло вниз. Дрожащими пальцами я едва попадала в клавиши, чтобы открыть сообщение.
27. ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ
Сначала мне нравилось все. В аэропорту меня встретила Марта на шикарной «ауди». По дороге домой мы пообедали в ресторане – и все было просто, мило, по-дружески.
Эта простота подкупала. Я опасался перемен, языкового барьера, ее дурного характера, ее деловой хватки. Но ни один из моих страхов не оправдался. Климат мне нравился, в особняке мне была предоставлена полная свобода, она оказалась легкой в общении. Я не чувствовал смутного, пугающего, непредсказуемого фанатизма – я чувствовал ее ровное, сдержанное отношение, ее одобрение. И я рад был благодарить ее и рад тому, что она приняла такую мою благодарность.
Впервые мне оборудовали настоящую студию, где я мог работать и мог просто мечтать. Я с азартом бросился изучать все вокруг, и все казалось мне совершенным: природа, климат, ее дом, ее постель, она…
Она – высокая, белокурая с проседью, широкая в плечах, в запястьях. Широкая и худощавая дама. Снова всплыло «подтянутая». Все у нас было замечательно.
А потом я заметил, что ночь. Что все, что я делаю, все, что я переживаю, – все это происходит словно ночью, в каком-то сумраке, в каком-то тумане. И что синей краски становится меньше, что все пейзажи сини. И что она тоже относится ко мне как-то странно: то ли надменно, то ли пренебрежительно, то ли просто холодно. Все стало раздражать: пустота центральных улиц, ее грудной смех, ее подчеркнутая вежливость, ее улыбающиеся гости. Существование снова показалось мышиной возней.
Тогда я написал Соне, и Соня добила – так, как могла только она: сыграла на контрастах. А потом я понял, что и ей… там… совсем плохо.
Если бы можно было зачеркнуть все в прошлом, а оставить только Соню. Но и в Соне… если бы можно было половину зачеркнуть – все фальшивое, все, что она себе придумала, все, с чем срослась. Самая стойкая, самая оловянная из прежних фанатов, и вдруг – «люблю». И это «люблю» – как монета, найденная в мусоре, не знаешь, брать ли, верить ли…








