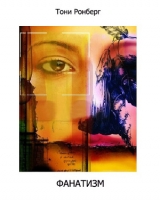
Текст книги "Фанатизм"
Автор книги: Тони Ронберг
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 6 страниц)
Страшно жить в страшные дни. Оппозиционные политики называют панику по поводу эпидемии надутой, но это все равно па-ни-ка. В аптеках километровые очереди, марлевые повязки разметают, газеты, радио и телевидение трезвонят исключительно об эпидемии, и даже обрывки фраз, которые доносятся случайно на улице: «заразился», «уже умерло», «лекарства»…
Я приготовила мясо с рисом и грибами. Не знаю, как это называется. Не запоминаю этих дурацких названий: «Помпадур», «Дуремар». По-моему, мясо с рисом и грибами должно называться «Мясо с рисом и грибами».
Бусыгин приехал в маске. Маска была обычная, зеленая.
– Можно пасть с зубами нарисовать. Прикольно, – предложила я.
– Это ваш Горчаков таким промышляет?
Юморок? Как-то холодно становится с ним наедине в комнате смеха.
– Кстати, как продвигается ваше расследование?
– Не уполномочен давать разъяснений по поводу…
Ну, тогда и я не уполномочена с вами тут нежничать!
– Соня, ты беспокоишься? – Бусыгин смягчился. – Думаешь, ему что-то угрожает? Нет. Нет, однозначно. Только тем, кто может помешать ему рисовать…
– А вы подозреваете кого-то?
– Подозреваем некоторых. Но фактически… предъявить ничего не можем, – признался Бусыгин.
– А кого?
– Тайна следствия.
– Кого-то из нас?
– Ты вне подозрений.
– А Горчаков на выставку едет в столицу, – сказала я осторожно.
– Бог в помощь.
– Со Стасом.
Реакции не последовало. Зато он похвалил мой ужин. Беседа стала легче, он не вспоминал ни о Горчакове, ни о нашей компании, ни о своей бывшей жене. И на диване прижимался ко мне довольно страстно.
Просто мне он не нравился. Не нравился визуально что ли, не нравился как образец гомосапиенса мужского пола. Мне не хотелось с ним обниматься на диване. Но против самого секса я ничего не имела: почему бы не закрыть глаза и не забыть о майоре Бусыгине?
Мне не нужно представлять в постели американских киноактеров. Моей любви хватит и на случайный секс, и на ужин, и на завтрак, и на рекламу по телику, и на собственное отражение в зеркале, и на цены в супермаркете. Любовь преображает черно-белый мир золотистым сиянием: Гор-ча-ков.
Горчит его фамилия на языке. Покалывает в пальцах. Шумит в ушах прибоем.
Я не смогла бы прикоснуться к нему. Я обожглась бы.
– Ох, ооооо, Соня, оооо…
Прикольный этот майор. Я по-прежнему говорю ему «вы».
– А грипп не передается половым путем, как думаете?
– Соня, может быть, мы сможем жить вместе?
– Вместе с кем?
– Мы вместе.
– А, я думала, вместе с вашими родителями…
– Ты совсем меня не любишь, Соня?
– У меня к вам доброе отношение.
– Тогда почему нет?
Он нашел кодовый вопрос: почему нет? Почему бы и не жить в квартире, за которую я плачу? Почему не есть на ужин то, что я покупаю? Почему не пить вино, которое ему не по карману? Не в этом, конечно, дело. Но если еще и это прибавить…
– Нет.
– Значит, не любишь.
– А вы меня любите?
– Да.
– Так вам, Сергей Сергеевич, меня проще любить, чем мне вас.
Бусыгин обиделся. Очень круто обиделся. Собрался, надел маску и ушел среди ночи.
Без него спать лучше. Без него диван шире.
11. АНДРЕЙ
Чтобы построить семейную жизнь, нужно сломать две отдельных жизни и создать общую, другую, одну на двоих. Не объединить, не трансформировать, а сломать. И это не у всех получается. Это легче удается в юности, пока твоя отдельная жизнь еще не сложилась, а потом – какой бы сильной ни была твоя любовь – на другой чаше весов всегда будет повседневный уклад, твои привычки, твой распорядок дня, твоя работа, твои вкусы. Это тянет вниз и перевешивает.
А Андрей тогда вообще отказался взвешивать и сравнивать. Он любил. Она была дочерью крупного чиновника – стала выравнивать его под свой уровень, и он стал выравниваться. Выбросил майки и бейсболки, вжился в строгий костюм, ушел из софт-компании в налоговую службу. Не сам, конечно, а тесть замолвил словечко. Жена была писательницей – тоже с подачи папика. Издала двенадцать детективных романов с подробными описаниями погоды, природы, характеров, мест убийства и ироническим подтекстом. Андрей читал, перечитывал и знал наизусть. Впрочем, содержание всех двенадцати томов можно пересказать кратко: я шла-шла-шла, пирожок нашла, села, поела и дальше пошла. Книги, как водится, пользовались популярностью – я часто встречала их на витринах книжных магазинов и в руках утомленных женщин в метро.
Он безжалостно ломал свою личную жизнь и строил семейную, безличную. У них родился сын, которого назвали в честь ее отца Максимом. Вместе с женой он бывал в издательствах и на литературных встречах, посещал театры и галереи. На одной выставке и наткнулся на картину Горчакова, застыл, жена потащила дальше…
Еще три раза в разные дни Андрей возвращался к картине. Хотя рисунок был не сложным. Сюр в духе Горчакова: море-небо-облака с перетеканием одного в другое, отражением одного в другом и полной цикличностью. Но синева манила…
Потом на одной встрече он увидел и самого Горчакова, но слова не мог выдавить и познакомиться не сумел. В это время сложенная по фрагментам семейная жизнь стала рушиться – жена влюбилась в другого и подала на развод, а никакой «своей», «личной» жизни у Андрея не было.
Разделение семейной жизни на две отдельные шло намного болезненнее: тесть уволил его с работы, выставил из квартиры и запретил видеться с сыном, чтобы не мешать контакту ребенка с новым отцом. Но хуже всего было то, что Андрей все еще любил жену.
Это «все еще» длилось еще два года. Он звонил, пытался встретиться с сыном, конфликтовал с тестем, пока, наконец, окончательно не убедился в том, что она сука. Вся прошлая семейная жизнь враз заштриховалась черным, и осталось в ней одно-единственное светлое пятно – картина Горчакова о море, небе и облаках.
Он нашел его на какой-то фотовыставке, где Горчаков поддерживал знакомых фотографов, подошел на шатающихся ногах, прошептал «купить» так, что Горчаков услышал «пить» и решил, что Андрею сделалось плохо от современного фотоискусства. Горчаков принес ему стакан воды, и тут оказалось, что Андрей хочет купить его картину.
– Картину? «Синий мир»? Она у меня. Нет, не продал. И не продам. Просто так тебе подарю, парень!
В тот же вечер поехали к Ивану, и он подарил Андрюхе картину.
– Легче? – спросил, поглядывая с усмешкой.
Андрей молчал. Так наша команда пополнилась новым фаном.
Постепенно Андрей вернулся к прежним настройкам – компьютерные программы, одинокая жизнь, редкие свидания с сыном. Но был уверен, что только синяя сюрреалистическая картина вытащила его из черной дыры.
Приколы с масками после этой ночи уже не казались мне смешными, поэтому, когда позвонил Андрей и сказал: «Представь, только что видел чувака в маске кролика! Обычная новогодняя маска с ушами! Я угорел. Кому эпидемия, а кому Новый год!», я только сдержанно поинтересовалась:
– А ты как себя чувствуешь?
– Да, так. Никак. Кстати, Ася предлагала вместе с ее другом в клуб. Поехали с нами.
– А клубы не на карантине?
– Там таблетки выдают – против гриппа.
– Ее друг и выдает, – поняла я.
Вечером встретились в «Проспекте». Опять шла речь о маски-шоу.
– Я бы не удивился, если бы маска свиньи была. Свиной грипп – свиные маски. Но кролика! – смеялся Андрей.
Ася была в дутой куртке, ее парень – тоже в чем-то необъятном, верхнюю одежду никто не снимал.
– Так что? Зависнем тут? Или еще куда-то? – спросила я.
– Иван подойти обещал.
– Я, в общем, ненадолго, – предупредила я. – А что вы такие загадочные?
Парень Аси Артем протянул и мне сигарету.
– Аааа, ясно.
Загадочные существа в дутых куртках уже дунули. В космосе мы скафандры не снимаем.
Земное притяжение исчезло, и голова наполнилась шуршащими гирляндами.
– А маска с пятаком была? – спросила я. – Я тоже такую хочу. На работу надену!
Все смеялись.
– Они с Илоной вроде того… расстаются.
– То расстаются, то не расстаются.
Горчаков пришел со Стасом. Огромный Стас успел задеть плечом официантку с подносом. Пролилось кофе.
– Я думал, ты с ней танцуешь. Только вошел – и с ходу в пляс! – ржал Андрей.
– О, вы уже в отлете. По поводу? Артемка к нам пришел?
Артем и им предложил по трубке мира.
– Я не буду, – отказался Иван. – Меня рвет потом с утра. Не знаю, почему так. Не хочу.
– Тогда мне две. Меня ни хрена не берут эти штуки, – Стас закурил. – Денег тебе дать, Артемка?
– За всех дай, – предложила Ася.
Стас расплатился. Я докурила – мираж майора Бусыгина растаял совершенно.
И что-то еще было приятное… Что-то еще… Вот дырявая голова…
Вспомнила я только ночью. Вот она, эта мысль: Горчаков расстается с Илоной. Ни подтверждения, ни опровержения не было, но приятное ощущение бродило по телу, доходило до пяток и возвращалось теплой волной: он ее не любит. Наутро мучило похмелье: от выпитого, выкуренного и приятной неподтвержденной мысли. Но не рвало, просто голова болела.
12. ПЕРЕД ВЫСТАВКОЙ
Перед тем как уехать на выставку, Горчаков позвонил мне.
– Пожелаешь мне удачи, Соня?
– Пожелаю.
– А чем занята?
– Статью пишу. О росте цен на лекарства.
– Хочешь посмотреть, что я выбрал для выставки?
– А кто еще будет?
– Да все.
Я пришла вечером. Но не было никого. Я потопталась в прихожей.
– А где?
– Никто не придет. Я просто извиниться хотел – за тот вечер с водкой и пиццой. Плохо мне тогда было. И хотелось еще кому-то сделать плохо.
– А сейчас хорошо и хочется еще кому-то сделать хорошо?
Он улыбнулся.
– Не бойся, не так прямолинейно.
– Завтра едете?
– Да, утром отчалим со Стасиком. Он гостиницу уже заказал, все дела.
– От жены шифруется?
– Сказал ей, что по делам, бизнес-встреча типа.
– Ты ему доверяешь?
– Ну, разумеется. А ты все ищешь маньяка?
Горчаков предложил кофе. Мы взяли чашки и пошли в зал. Отдельной студии у него так и не было. Теперь около стен и на полу были расставлены картины. На выставку он брал три – девушку-реку, пейзаж и портрет.
Девушка-река представляла собой отражение в воде. Казалось, что вода течет, что это не спокойная гладь, а именно быстрый поток. Смотрелось странно – и не лицо, и не река. Но был виден венок на голове у девушки, который она собиралась снять и бросить в воду.
Пейзаж был стандартным для Горчакова – церквушка на горе и закат в золотом сиянии.
А с портрета смотрела на меня абсолютно незнакомая девушка – с очень красивым, но ничего не выражающим лицом: широко распахнутые яркие голубые глаза, алые губы и пестрые волосы. На шее был повязан розовый шарфик. «Тусовщица» называлась картина.
– Это Илона? – спросила я.
– Да. Закончил. Очень в духе современности, мне кажется.
Только один был способ нагляднее изобразить пустоту – оставить холст белым, но и тогда он выражал бы какой-то потенциал будущей картины, а ее глаза не выражали ровным счетом ничего. Я была поражена… в очередной раз… его удивительным умением видеть так много и отражать все – до абсолютной пустоты.
– А ей понравилось, – усмехнулся Горчаков. – Говорит: «Хорошо я получилась, как на фотке».
Было чертовски грустно. И было грустно почему-то от того, от чего вчера было радостно: он ее не любит, и такие картины рождаются от нелюбви.
Я села на пол перед портретом.
– Чего ты, Сонь?
– Это рубит… Очень сильно рубит…
– Ну, посмотрим…
И по тому, как дрогнул его голос, я поняла, как он сам надеется на очередную выставку «молодых художников».
Горчаков принес мне еще кофе.
– Следователь звонил снова, – вспомнил Иван. – Спрашивал, когда я еду, куда с кем, на сколько дней…
– Я с ним переспала, – вдруг сказала я.
– С кем?
– Со следователем.
– Со следователем? Фигассе! Зачем?
– Чтобы он меня не подозревал.
– А твой парень?
– Он не знает.
– Выходит, ты шлюха, Соня?
– Выходит.
Горчаков сел рядом со мной на пол.
– А я с Илоной расстался. Надоел мне ее ритм жутко. Да и сама она…
– Очень грустные истории…
– И как этот мент в сексе? Виртуоз?
– Да, так. Главное, что не садист. Замуж меня звал.
– Счастливая ты, Соня…
Я смотрела в пустые глаза Илоны на портрете и чувствовала, как мой взгляд влажнеет.
– Останься до утра. Побудь со мной, – попросил Иван.
Я мотала головой. Не могла объяснить, почему не могу…
К счастью, ему позвонили на мобильный.
– Да. Да… Спасибо. Я постараюсь. Нет. Я не один. Нет. С Соней. Да, с Соней. Да, с нашей Соней.
Мне стало не по себе.
– Это Марианна, – объяснил он потом. – Желает мне успеха. И тебе привет.
Снова стал звонить мобильный.
– Да, сэнкс. Все будет отлично. Да, Стас там уже все пробил. Нет, не приеду. Поздно уже, – Горчаков посмотрел на часы. – Поздно. У меня Соня.
– Поезжай, – сказала я.
Он отмахнулся.
– Да, масок наберем. Нифига нас грипп не достанет!
Наконец закончил разговор и передал мне привет:
– Это Сеня. У него премьера «Гамлета» скоро. А он тоже хотел со мной ехать…
– Да все хотели.
– И ты?
– И я, конечно. Но у меня работа…
Он больше не предлагал мне остаться.
В метро я думала о том, что у старенького «Гамлета» снова премьера – с новыми лицами, дорогими декорациями и прежними чувствами – в театре уездного города N. И что придется туда идти, даже с риском для здоровья, в марлевой повязке, чтобы поддержать прекрасного режиссера Семена Бородина, друга моих друзей. И что Горчаков тоже будет на премьере, и даже похвалит Сенину режиссуру. Но, на самом деле, только он может изобразить разбитое сердце Офелии так, что под картиной расползется лужа крови.
13. СТАС
Новостей о выставке не было никаких, даже в Интернете. Обсуждались события поважнее, в основном, конечно, эпидемия. Я позвонила Стасу – он не ответил.
Зато на связь вышел Витек с вопросом:
– Ну, как у вас?
– У кого «у нас»?
– А ты не с ними?
– Блин, я на работе – пишу о предвыборной агитации. Наш политодел заболел.
– Грипп? – ужаснулся он.
– Да вроде нет. Иначе нас бы на карантин закрыли.
– Так что там у ребят, не знаешь?
– А кто тебе сказал, что я с ними?
– Марианна, кажется…
Мы как-то невнятно договорились поужинать и попрощались. Я старалась не думать о выставке: не первая же выставка для него и для всех нас.
Налетела зима, сеяла снегом, потом лила на снег дождем, потом все таяло и начиналось заново. Телефон высветил «Бусыгин».
– И что? – спросила я в трубку.
– Да так. Скучаю.
– Вы же вроде обиделись на меня.
– Я уже передумал обижаться.
– А, хорошо.
Он помолчал.
– Может, поужинаем? – спросил после паузы.
– А куда пойдем?
– Ну, куда? К тебе?
Блин, это же Бусыгин! Он же слова «ресторан» не знает.
– Сергей Сергеевич, я сегодня не буду ужинать. Давайте я вам перезвоню, когда буду.
– Ага…
Я даже рассмеялась. Майор был готов потерпеть до ужина месяцев сэм-восэм.
И только через два дня объявился Стас – пришел прямо в редакцию, к концу рабочего дня. Стас много места обычно занимает, его трудно не заметить, от его вида напрягаются охранники и начинают учащенно дышать секретарши. Стас крупного формата, широкоплечий, с резкими чертами лица, мощным подбородком, громким голосом, раскатистым смехом – мужчина, от которого разит уверенностью, как дорогим и стойким гелем после бритья.
В этот раз, правда, он выглядел подавленно.
– Что-то мне домой не идется. Мы приехали только…
– Плохо все?
– Да так. Не хорошо и не плохо. Во-первых, из-за этого гриппа народу мало было. Никаких зарубежных гостей, никаких делегаций, одни студенты. Ну, потусовались и все. Даже приз зрительских симпатий не взял. За какого-то столичного все проголосовали. И с первого дня понятно было, что провал… зря все.
Мы сидели в кафе и не могли прикоснуться к еде.
– Ладно, Стас, брось. Ты больше Ивана расстроился, – утешила я.
– Наверное, больше. Ваньке все привычно. Он лучшего и не ждет. А для меня это все… это важно.
Я знала, почему важно и не задавала лишних вопросов. Если для Андрея картины Горчакова были памятью о семейной жизни, то для Стаса – и были его отдельной, личной жизнью. Они были для него тем, во что он не хотел посвящать ни жену, ни детей, ни знакомых. Они были его тайной страстью.
– Я сначала копался в себе, копался, – рассказывал он мне когда-то. – Ни любовницами так не увлекался, ни казино. Даже к психологу пошел. Мозгодоктор мне тогда по полочкам все разложил: одни дети в детстве успевают во все игры переиграть, а другие – вот такие, как я, – не успевают, они рано взрослеют, начинают зарабатывать, обеспечивать семью, а потом потребность играть трансформируется в тайную жизнь, в геймерскую или виртуальную зависимость, а иногда и в преступную деятельность. И у меня – самый легкий, хороший вариант зависимости. Я тогда доктора подальше послал. Что же за игра это, если болит? Я же не домино раскладываю и не на рыбалку втайне от жены бегаю, я же переживаю за него, сердце себе рву! А сейчас понимаю, что, может, и прав был тот доктор. Если бы не эта «тайная страсть», была бы моя жизнь пресной-пресной, скучной-скучной, бесцветной-бесцветной…
Мир Горчакова был для Стаса его личным миром, идеальным миром его мечты. Привязан он был к нему страшно. И провал Горчакова на выставке поверг Стаса в шок. Я пыталась поднять ему настроение, но выходило плохо.
– А в гостинице как? Нормально устроились?
– Не знаю. Я весь на нервах был. Думал, следующий день будет лучше, потом следующий, а потом – уезжать уже… Я бы все сделал, чтобы ему покупателей крутых найти, меценатов каких, критиков чокнутых… пусть бы в журналах пропечатали, но ничего не мог сделать, ничего!
– Да все равно попадет в обзоры…
– И он так сказал: все идет своим чередом.
– Ну, вот видишь.
– Ладно, поеду я домой. Жене сказал, что сделка в столице, она звонит, спрашивает, что и как, а я злой, как черт. Еще и следователь этот достал!
– Чего хочет?
– Без понятия. Все про Аванесову выпытывает: видел я в ней угрозу или не видел? Бред такой. Понятно, что видел. У тебя спрашивал?
– Спрашивал. Но никто не знает, смог бы он с ней продолжать писать или нет.
Стас запустил руку в волосы.
– Устал я… Да, неизвестно это. Илона тоже не подарок. Звонит постоянно, достает его, узнает, на кого он ее променял. Наркоманка законченная, крыша совсем едет. Черт его дернул связаться с идиоткой!
Меня тоже напрягло.
– А как тебе ее портрет?
– Ну, что говорить? Люди слепы. Они видят – у всех треугольники, трапеции и пятна нарисованы, а тут – девушка. Да, говорят, симпатичная девушка, «тусовщица».
– Блин…
– Я потому и трубку не брал, ты прости. Тяжело это все было…
Мы все-таки взглянули на тарелки.
– У Сени премьера, – вспомнилось мне почему-то.
– Да, сходим. Культурно проведем время.
– Жену не возьмешь?
– Пусть пельмени лепит, – Стас заулыбался. – «Гамлет» – дело серьезное.
14. МЫШЬ
У вас бывали провалы?
У каждого человека бывали провалы…
Знаете, как разбивается чашка? Вот она стоит на краю стола – и вот ты ее смахиваешь, она летит на пол и раскалывается. И назад уже нельзя, она уже никогда не будет стоять на краю стола целой.
Так и провалы. Ты еще надеешься – и вот уже другие обошли тебя на повороте, уехали по учебным программам в Кембридж, получили гранты, нашли отличную работу, отвоевали лучших клиентов или просто переспали с девушкой, которая тебе нравилась. Ты еще надеешься, но эта чашка уже не будет целой.
Выставка – ерунда. Так, проветрились.
Стас мечтал о призе зрительских симпатий? Это ваза или что-то такое? Бронзовая статуэтка в дурацкой позе? Женщина с веслом? Как обычно?
Зачем копить память о провалах? Тебя кто-то унизил в школьной раздевалке? Тебе не дали похвальную грамоту? На дискотеке в восьмом классе «самая лучшая девочка» танцевала с другим? Ты не сдал на четвертом курсе социологию на пятерку? Твой друг тебя предал? Твой дар не нашел признания? И что дальше? Не спать по ночам? Ворочаться?
Конечно, неудачи давят. Не каждая в отдельности, а всей своей массой. Ты читаешь книги о какой-то хрени типа аутотренинга успеха, прикладываешь к себе разрекламированные схемы, а они гнутся, крошатся и рассыпаются, и ты остаешься прежним – слитым со своими неудачами, потому что ты зрелая, сформированная личность, и тебе не так просто прописать новые программные настройки и прокачать новые способности.
«Поражения открывают нам путь к нашим победам», «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее», – я могу нанизать штук сто таких цитат в бесполезные трескучие четки. Разумеется, все они верны.
В первый раз я плакал не от обиды, а от несправедливости.
– Он же хуже! Я же лучше! Почему он? Я же более достоин!
– Мой мальчик, у Бога на всех нас есть свои планы…
Что наши планы перед его планами? Что наши схемы перед его схемами? Мама права.
Но я завистлив. Для меня нет белой зависти. Я завидую зло, по-черному, сжав кулаки, сцепив зубы. Меня ломает несправедливость, выкручивает кости, заставляет курить до утра на кухне, заставляет глотать водку и задыхаться в ритме ночных клубов.
Провалы – гвозди в крышке гроба. Рано или поздно – будет последний.
А видели бы вы Стаса – приз зрительских симпатий ему был нужен! Ну, съездили, развеялись, потусили. Я девушку в отеле нашел – Танюшу. Танюша ни о каком призе меня не спрашивала – разделась, помылась, отработала, помылась, оделась и ушла. Но после нее остался в номере запах грязной, талой, чужой зимы. Зимы, в которой не будет никакого Нового года. Не будет вообще ничего нового.
Эта шлюха – мой приз, моя женщина с веслом. Я и сам смог бы так отработать – взять восемьдесят баксов, нарисовать два треугольника, внизу кляксу и свою подпись. И пусть после этого пахло бы грязным, слякотным ненастьем.
После провалов наваливается тоска. Ты смеешься в компании, а в сердце скребется маленькая мышь со стертыми в кровь голыми лапами. «Друг, ты просто пытаешь отвлечься от своего неуспеха. Ты бежишь в нарисованный мир. Ты неудачник…»
Сколько призов я не взял за свою жизнь? Где виртуальная свалка этих бронзовых статуэток, похвальных грамот, медалей, вымпелов, кубков, поздравительных телеграмм, грантов, контрактов, чеков и наличных платежей? Где публичный дом этих ушедших девушек, изменивших любовниц, принцесс Монако, эстрадных звезд, балерин, голливудских актрис и моделей с мировым именем? Где любящие, одобряющие и понимающие родители? Всех и вся заменяют мне фанатичные поклонники, готовые ради меня убить друг друга.
О, с ними весело! Ими нужно пользоваться для развлечения. Стас оплатил номер и проститутку. Витек снимает обо мне ролики. Соня пишет статьи. Андрей пиарит в Сети. Марианна протаскивает на выставки. Сеня – на свои премьеры и в селебрити. Ася приносит марихуану, от которой мне дурно. От остальных проку еще меньше, но они всегда готовы помочь скоротать вечерок. И они готовы хвалить.
Похвала всегда радует, особенно похвала людей образованных, тонких, чувствующих. Этой похвале хочется верить. А когда веришь, забываешь о свалке неполученных призов, о Вавилонской башне невзятых вершин, о миллиарде незаработанных гонораров, о странах, в которых не был и никогда не будешь, о людях, с которыми не знаком и никогда не познакомишься, и даже о милой, скромной квартирке в Париже, в которой никогда не будешь жить.
Фанатичная любовь утешает, но не касается сердца. А в сердце живет та самая одинокая мышь с голыми холодными лапами. И мышь скребет изнутри: «Ты одинок. Ты неудачник. Ты несчастен. Ты бежишь от себя и никуда не убегаешь».
«Человек сам программирует свое будущее, свой успех и неуспех, свое признание и непризнание», «Наше будущее – внутри нас», – трещат на ветру умные четки.
Если бы у меня был сын, я сказал бы ему:
– Не будь таким, как я. Не живи так, как я. Не чувствуй так, как я.
Но не смог бы объяснить, как нужно и как не нужно. Может, он понял бы меня и без объяснений, ведь это был бы мой сын – самый лучший, самый умный, самый самый ребенок на земле.
Я легко ко всему отношусь. Регулярно стираю пыль с пособий по аутотренингу, избегаю темных тонов в живописи, смотрю юмористические передачи по ящику, читаю в Интернете свежие анекдоты, знакомлюсь, общаюсь, работаю. Но я – просто клетка для мыши, которая исцарапала все внутри. «Выпусти меня. Я не хочу жить с таким неудачником. Выпусти меня или убей. Не могу так больше…»
15. КРАСОТА
– У нас в группе учились два дурика – Рябоконь и Сивокобылко, и в журнале их фамилии шли одна за другой. Профессор по истории искусств, подслеповатый дедок, всегда их путал – то скажет «Рябокобылко», то «Сивоконь», а они ржут, хоть бы что. Он потом, доходя до них по списку, просто спрашивал: «Кони на месте?»
Сеня недоговаривал, что именно в институте решил сменить фамилию «Борода» на «Бородин». Я тоже щепетильно к этому отношусь. Я бы и свою с радостью сменила, какая-то она у меня неэстетичная – «Стыблова». Хоть бы «Стеблова», так нет – «София Александровна Стыблова». Звукосочетание «ыбло» вообще напрягает, всегда возникают вопросы вроде «Как? Как? Ыблова?»
А с тех пор как Сеня стал Бородиным, его жизнь стала заметно красивее. Он сознательно стремился к красоте, и она снизошла – на его образ, на лакированные ногти, изящные костюмы, приглаженную прическу, умное выражение лица, обходительные манеры и театральные постановки. Он пытался поставить красивого «Гамлета» – принц был молод и симпатичен, Офелия была молода и симпатична, Клавдий был коварен и симпатичен, Гертруда была печальна и симпатична, солдаты были симпатичны необычайно. Красота для Сени был всем – талантом, смыслом, целью и самоцелью. Гамлет двигался по сцене красиво, произносил фразы красиво, брал череп бедного Йорика в правую руку изумительно красиво. Сеня Бородин был поведен на красоте.
В Горчакове он тоже любил красоту, и, не ожидая спасения целого мира, можно было не сомневаться, что Сеня уже спасен – столько красоты его окружало. Он встречался с самыми красивыми актрисами и дарил им самые красивые букеты.
И если мне становилось тоскливо, или какой-то урод портил настроение в метро, я звонила Сене и настаивала на встрече.
– О, Сонечка, конечно. Забеги ко мне. Забеги. Я до вечера репетирую…
И по тому, как быстро он соглашался, я понимала, что меня Сеня находил достаточно красивой. Глубоко он не копал. За красоту – внешнюю, искусственную, фальшивую, показную, надувную – он легко прощал отсутствие мозгов, таланта, принципов, чувств. Его «Гамлет» выглядел уныло, ходульно, плоско.
Мы поздравили его с премьерой, выпили в кафе, а потом поехали к Ивану – отмечать «по-серьезному». Мы пили, говорили и не смотрели по сторонам, пока Сеня не воскликнул:
– Что это?
Портрет «Тусовщица», стоящий у стены, был распорот. Горчаков отмахнулся. Все вскочили, достали картину, стали разглядывать.
– Кто это сделал?
– Да это она приходила отношения выяснять. Увидела портрет.., – нехотя объяснил Иван.
– И что?
– Сорвалась. Схватила нож на кухне и резанула по картине…
Все это было ужасно неприятно. Словно при нас избили первоклассницу, затоптали клумбу или разрушили замок из песка. Но ведь все намного серьезнее! Она хорошую картину уничтожила…
– Вот идиотка! – выдохнула Ирина.
– Психопатка просто, – согласился Иван. – Обещала мне тут все бензином облить и сжечь.
– И ты спокоен? – Марианна заломила руки. – Если бы такое произошло в галерее, мы обратились бы в милицию, подали бы заявление в суд.
– Да она датая была. Мы не очень легко расстались – ее понять можно. А милиция и так много вопросов задает… не по делу.
– А если, правда, обольет? – спросила я.
– Не думаю.
Премьера отступила на второй план. Неловкость не проходила. У всех было ощущение, что снова не защитили. И это было намного хуже, чем если бы кто-то написал гадость в комментарии на его сайте. Это же материально: была картина – и вот она разорвана…
– Вань, это же серьезно! – сказала о том же Ирина. – Мы с такими делами сталкивались, люди из мести на все готовы. Может, это и раньше… она была?
– Если у нее психика подорвана.., – начал Витька.
– Все, прекратите! – Горчаков отвернул картину к стене. – У Сени сегодня праздник, премьера. Он репетировал, Гамлету трендовую прическу делал, а вы…
Я засмеялась.
– И не говорите, – посетовал Сеня. – Этот Мякишев – неуправляемый какой-то парень. То камзол ему тесен, то панталоны узки!
Стас угрюмо молчал. Марианна подошла к окну, не слушая нашу болтовню. Горчаков откупорил шампанское.
– Эй-эй, давайте! За камзол Гамлета!
После этого вечера было тоскливо. Я позвонила Бусыгину.
– Сергей Сергеевич, что вы делаете? Спите?
– Нет.
– Почему не приезжаете?
– А что случилось?
– Прошла премьера «Гамлета».
– Тогда приеду.
Майор хорошо помнил мой адрес. Я встретила его в прихожей и поцеловала в губы. Не хотелось быть одной.
– Как в театре?
– Все убили всех. Но убили красиво. Сеня Бородин ставил.
– Знаю такого. Был он у меня на допросе. Сказал, что Горчаков открыл ему целый мир настоящей красоты и красивых эмоций.
– Интересно, как он сексом занимается. Наверное, как-то особенно красиво.
– Я спрошу, – заверил Бусыгин.
Мы посмеялись. Майор уже не казался мне склочным старикашкой. Одежду он стаскивал быстро. Хотел меня. Это льстило.
И мы не говорили обо всякой ерунде, на которую смотрели под разным углом зрения и которую измеряли разными линейками, мы вообще не говорили. Ни о любви, ни о красоте, ни о нормальных или ненормальных эмоциях. Мне хотелось забыть все лишние разговоры, все вычурные декорации, все неестественные постановки.
А потом я встала с постели, нашла на кухне остатки вина и допила прямо из бутылки. Было сумрачно, пусто и немо, хотя я была не одна. И было все очень некрасиво, очень. Связь без чувства с немолодым и некрасивым мужчиной была самой некрасивой, самой фальшивой постановкой в моей жизни.








