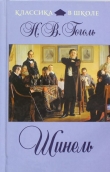Текст книги "Усадьба Грилла"
Автор книги: Томас Лав Пикок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 14 страниц)
{* Из воспоминаний Трелони {108}. (Примеч. автора).
Ἥμισυ μὲν πίσσης κωνίτιδος, ήμισυ δ᾽οἰνου,
᾽Λρχιν᾽, ατρεκέως ἥδε λάγυνος ἔχε
Λεπτοτέρης δ᾽ οὐκ οἶδ᾽ ἐρίφου κρέας᾽ πλὴν όγε πέμψας
Αἰνεῑσθαι πάντων ἄξιος Ἰπποκράτης.
(Примеч. автора).}
Преподобный отец Опимиан:
– В одной эпиграмме Риана {109} речь идет о подарке, для меня удивительном: “Вот сосуд, полный вином пополам с терпентином, а вот и на редкость тощий козленок; пославший сей дар Гиппократ достоин всякой похвалы” {Anthologia Palatina {110}.}. Возможно, то был подарок от врача пациенту. Ни Алкей, ни Анакреон, ни Нонн не могли бы слагать таких песен под влиянием паров терпентинного пойла. От Атенея, Плиния и авторов комедий старинных знаем мы, что у греков было многое множество вин на любой вкус. О неизвестном я сужу, исходя из уже известного. Мы почти не знаем их музыки. Не сомневаюсь в том, что она была в своем роде столь же прекрасна, как их скульптура.
Мистер Мифасоль:
– Вот уж не думаю, сэр. Кажется, у них была только минорная тональность, а о контрапункте имели они не более понятия, нежели о перспективе.
Преподобный отец Опимиан:
– А живопись их в перспективе и не нуждалась. Главные лица помещались на переднем плане. Дома, скалы и деревья лишь означали, но не изображали фон.
Мистер Принс:
– Я осмелюсь возразить мистеру Мифасолю касательно только минорной тональности. Самый голос их звучал в мажорной тональности, и с их тончайшей чуткостью к звукам они не могли пропустить явственное выражение радости. Три гаммы – диатоническая, хроматическая и энгармоническая – вполне передавали у них все оттенки чувства. Они соблюдали интервал; у них подлинно были мажорные и минорные тона; у нас же ни тех, ни других, лишь их смешенье. У них подлинно были диезы и бемоли – у нас же ни тех, ни других, один набор полутонов. В энгармонической гамме их чуткое ухо различало оттенки, каких не может уловить наш грубый слух.
Мистер Мифасоль:
– Однако ж они не шли дальше мелодии. Гармонии, в нашем понимании, вовсе у них не было. Они пели только в октаву и в унисон.
Мистер Принс:
– Неизвестно, не пели ли они в квинту. Что же до гармонии, я не стану полностью присоединяться к мнению Ритсона, что единственное назначение ее – портить мелодию; скажу только, что, на мой вкус, простой аккомпанемент, строго подчиняемый мелодии, куда приятней Ниагары звуков, под которым нынче модно ее топить.
Мистер Мифасоль:
– Стало быть, для вас предпочтительнее песня в простом фортепьянном сопровождении, нежели та же песня на итальянской сцене.
Мистер Принс:
– Песня, пропетая с истинным чувством, хороша в любом сопровождении. Впрочем, я не люблю фортепьяно. Интервалы его все фальшивы, а темперация не может заменить естественности. Неспособность его тянуть ноту и стремление к эффекту во что бы то ни стало повели к бесконечному дроблению звуков, в которых решительно исчезло и стерлось живое выражение.
Преподобный отец Опимиан:
– Совершенно с вами согласен. На днях как-то проходили мимо моих ворот музыканты и играли “Люди Кэмпбелла идут”, но вместо прелестной старинной шотландской песенки с нажимом на “Охо! Охо!” они пропели нечто такое “Лю-уди Кэ-эмпбе-елла-а иду-у-ут, охо-хо-о-о! Охохо-о-о!” Я про себя подумал: “Вот она где, современная музыка”. Я люблю старинную музыку органа, с единственными тональностями до и фа и с соответствием слогу каждой ноты. Какое впечатление производили долгие, длящиеся тоны там, где “Вотще глас почестей гремит перед гробами…” {111}.
А кому захочется слушать духовную музыку, исполняемую на фортепьянах?
Мистер Мифасоль:
– Однако, должен заметить, какая прелесть в блеске и виртуозности исполнения – новом, даже новейшем достижении музыкальном!
Мистер Принс:
– Для тех, кто ее улавливает. Ведь как на что посмотреть. Для меня нет прелести в музыке без силы чувства.
Лорд Сом (заметив неохоту мистера Мак-Мусса вступать в беседу, он забавляется тем, что то и дело справляется о его мнении):
– А как, по-вашему, мистер Мак-Мусс?
Мистер Мак-Мусс:
– Я держусь мнения, которое уже высказывал, что лучшего портвейна я в жизни своей не пробовал.
Лорд Сом:
– Но я имел в виду ваш взгляд на музыку и музыкальные инструменты.
Мистер Мак-Мусс:
– Орган весьма пригоден для псалмов, а я их не пою, фортепьяна же для джиги, а я ее не танцую. И если бы не услышал их ни разу от января до декабря, и то я не стал бы жаловаться.
Лорд Сом:
– Вы, мистер Мак-Мусс, человек практический. Вы радеете о пользе – о пользе общественной, – и в музыке вы ее не усматриваете.
Мистер Мак-Мусс:
– Ну, не совсем. Если набожность хороша, если веселость хороша, а музыка им содействует, когда это уместно, то и в музыке есть польза. Если орган ровно ничего не прибавляет к моей набожности, а фортепьяна к веселости, в том повинны мои уши и моя голова. Я, однако, никому не навязываю своих понятий. Пусть каждый радуется как умеет, лишь бы он не мешал другим; я не стану мешать вам наслаждаться блистательной симфонией, а вы, надеюсь, не отнимете у меня наслажденья стаканом старого вина.
Преподобный отец Опимиан:
Tres mihi convivae prope dissentire videntur,
Poscentes vario multum diversa palato {*}.
{* Трое гостей у меня {112} – все расходятся, вижу, во вкусах!
Разные неба у них, и разного требует каждый (лат.). (Пер. Н. С. Гинцбурга).}
Мистер Принс:
– А у нашего друга и пастыря – удовольствия от старинной цитаты. Преподобный отец Опимиан:
– А также и пользы от нее, сэр. Ибо одной из подобных цитат я, полагаю, обязан честью вашего знакомства.
Мистер Принс:
– Когда вы польстили мне, сравнив мой дом с дворцом Цирцеи? Но это я оказался в выигрыше.
Мистер Шпатель:
– Но вы согласны, сэр, что греки не знали перспективы?
Преподобный отец Опимиан:
– Но они в ней и не нуждались. Они рельефно изображали передний план. Фон у них был только символом. “Не знали” – пожалуй, слишком сильно сказано. Они учитывали ее, когда им это было необходимо. Они вырисовывали колоннаду в точности, как она являлась взору, не хуже нашего. Одним словом, они соблюдали законы перспективы в изображении каждого предмета, не соблюдая их для сочетаний предметов по той уже упомянутой причине, что не усматривали в том надобности.
Мистер Принс:
– Меня их живопись пленяет одним своим свойством, насколько я вижу его по картинам Помпеи, хоть и являющим не высший образец их искусства, но позволяющим о нем судить. Никогда не нагромождали они на своих полотнах лишних фигур. Изображали одного, двоих, троих, четверых, от силы пятерых, но чаще одного и реже – более трех. Люди не терялись у них в изобилии одежд декораций. Четкие очерки тел и лиц были приятны глазу и тешили его, в каком бы углу залы их ни поместить.
Мистер Шпатель:
– Но греки много теряли в красоте подробностей.
Преподобный отец Опимиан:
– Но в том-то главное отличие древнего вкуса от новейшего. Грекам присуща простая красота – будь то красота идей в поэзии, звуков в музыке или фигур в живописи. А у нас всегда и во всем подробности, бесконечные подробности. Воображение слушателя или зрителя нынешнего ограниченно; в нем нет размаха, нет игры; оно перегружено мелочами и частностями.
Лорд Сом:
– Есть прелесть и в подробностях. Меня в восхищенье привела картина голландская, изображающая лавку мясника, а там вся прелесть была в подробностях.
Преподобный отец Опимиан:
– Ничем подобным я не мог бы восхищаться. Меня должно пленить сперва то, что изображено, а уж потом я стану пленяться изображением.
Мистер Шпатель:
– Боюсь, сэр, как и все, мы впадаем в крайности, когда речь заходит о любимом нашем предмете, так и вы считаете, что греческая живопись лишь выигрывала, не имея перспективы, а музыка греческая выигрывала, не имея гармонии.
Преподобный отец Опимиан:
– Полагаю, и чувства перспективы и чувства гармонии вполне доставало им при простоте, свойственной их музыке и живописи в той же точно мере, как скульптуре их и поэзии.
Лорд Сом:
– А вы как полагаете, мистер Мак-Мусс?
Мистер Мак-Мусс:
– Я полагаю, неплохо бы опрокинуть вот эту бутылочку.
Лорд Сом:
– Я справлялся о вашем мнении касательно перспективы греческой.
Мистер Мак-Мусс:
– Господи, да я того мнения, что бутыль издали кажется меньше, чем она же оказывается вблизи, и я предпочитаю видеть ее крупным предметом на переднем плане.
Лорд Сом:
– Я часто удивлялся, отчего господин, подобно вам наделенный способностью рассуждать обо всем на свете, столь тщательно уклоняется от всяческих рассуждений.
Мистер Мак-Мусс:
– Это я после обеда, ваше сиятельство, после обеда. С утра я потею над серьезными делами до того, что иной раз даже голова разболится, правда, она, слава богу, редко у меня болит. А после обеда я люблю раздавить бутылочку и болтаю всякий вздор, самому Джеку из Дувра впору.
Лорд Сом:
– Джек из Дувра? А кто это?
Мистер Мак-Мусс:
– Это был такой парень, который все ездил по свету и хотел найти дурака еще хуже себя, да так и не нашел {“Джек из Дувра, его поиски и расспросы, или Частный розыск по всей Англии самого большого дурака”. Лондон. 1604; переиздано для Общества Перси {113}, 1842. (Примеч. автора).}.
Преподобный отец Опимиан:
– В странные он жил времена. Ныне бы он сразу напал на убежденного трезвенника либо на поборника десятичной монетной системы или всеобщего обучения или на мастера проводить конкурсные испытания, который не позволит извозчику спустить бочку в погреб, покуда тот не представит ему математического обоснования этого своего действия.
Мистер Мак-Мусс:
– Ну, это все глупость докучливая. А Джек искал глупости забавной, глупости совершеннейшей, которая бы “сводила с ума” {114}, хоть и глупость, а была бы веселой и мудрой. Он не искал просто набитого дурака, в каких никогда не было недостатка. Он искал такого дурака, такого шута, каким может стать разве очень умный человек – шута Шекспирова {*}.
{* Oeuvre, ma foi, ou n’est facile atteindre:
Pourtant qu’il faut parfaitement sage etre.
Pour le vrai fol bien naivement feindre.
Eutrapel. P. 28. (Примеч. автора).
Поверь, что нелегко поэту быть творцом.
Безумцем вечно слыть, казаться таковым,
На самом деле оставаясь мудрецом.
Этрапель {115}. С. 28 (фр.).}
Преподобный отец Опимиан:
– А, тогда бы, сколь он ни ездил, он и сейчас вернулся бы ни с чем.
Мистер Мак-Мусс:
– Убежденный трезвенник! Ну и ну! Да это же истинный Heautontimorumenos {самоистязатель {116} (греч.).}, который сам себя терзает, подымая на пиру заздравную чашу, полную воды. За дурь бы его только пожалеть, но противна нетерпимость! И наслаждался бы своим питьем – но ему надо еще отнять у меня мое. Нет тирана злее, чем преобразователь нравов. Я пью за то, чтоб его самого преобразовали!
Мистер Грилл:
– Он как факир Бабабек, который сидел на стуле, утыканном гвоздями pour avoir de la consideration {чтобы заслужить уважение {117}? (фр.).}. Но тот хоть от других этого не требовал. Хочешь привлекать внимание к своей особе, сам и сиди на гвоздях. Пусть бы эти надоеды сами пили воду – им бы никто слова не сказал.
Преподобный отец Опимиан:
– Знаете, сэр, если самый большой дурак тот, кто больше всех владеет искусством всех дурачить, то достойнейшим другом Джека из Дувра можно считать того, кто всюду сует свой нос, кто полвека целых был шутом на обширнейшей арене, которую сам он именует наукой о нравственности и политике, но которая на самом деле загромождена всякой всячиной, когда-либо занимавшей досужие людские умы.
Лорд Сом:
– Я знаю, в кого вы метите. Но он по-своему великий человек и сделал много доброго {118}.
Преподобный отец Опимиан:
– Он способствовал многим переменам. К добру ли, ко злу – еще неизвестно. Я позабыл, что он друг вашему сиятельству. Прошу простить меня и пью его здоровье.
Лорд Сом:
– О, ради бога не просите у меня прощенья. Никогда я не допущу, чтобы мои дружеские склонности, предпочтенья и вкусы влияли хоть чуть-чуть на чью бы то ни было свободу слова. Многие подобно вам считают его Джеком из Дувра в нравственности и политике. И пусть. Время еще поставит его на достойное место.
Мистер Мак-Мусс:
– Я хочу только одно заметить об этом достойном муже, что Джек из Дувра вовсе ему не чета. Ибо есть одна истинная, всеобщая наука и одна великая прорицательница La Dive Bouteille {Божественная Бутылка {119} (ст. фр.).}.
Мистер Грилл:
– Мистер Мифасоль, вы предлагаете для нашей Аристофановой комедии музыку не вполне греческую.
Мистер Мифасоль:
– Да, сэр, я старался выбирать то, что более в нашем вкусе.
Мистер Шпатель:
– Я тоже предлагаю вам живопись не вполне греческую. Я позволил себе учесть законы перспективы.
Преподобный отец Опимиан:
– И для Аристофана в Лондоне все это совершенно подходит.
Мистер Мифасоль:
– К тому же, сэр, надобно и наших юных певиц пожалеть.
Преподобный отец Опимиан:
– Разумеется. И, судя по тому, чт_о_ слышали мы на репетициях, они поют на вашу музыку восхитительно.
Господа еще немного побеседовали о том о сем и отправились в гостиную.
1. ГЛАВА XV
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ. БАЛЛАДЫ. СЕРЫЙ СКАКУН. ВОЗРАСТ И ЛЮБОВЬ.
КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Τοῡτο βίος, τοῡτ᾽ αὐτό᾽ τρυφὴ βίος ερρετἰ ὰνῑαι᾽
Ζωῆς ἀνθρώποις ὀλίγος χρόνος˙ ἄρτι Λυαιος,
Ἄρτι χοροί, στέφανοί τε φιλανθέες ἆρτι γυναικες.
Σἠμερον ἐσθλὰ πάθω, τὸ γὰρ αὔριον οὐδενὶ δῆλον.
Anthologia Palatina. V. 72
Заботы прочь – прославим наслажденье!
Жизнь коротка – вину, любви и пенью
Мы предадимся – пусть продлится день.
Сегодня живы – завтра только тень.
Антология Палатина. V. 72
Ухаживания лорда Сома за мисс Грилл расстраивали мистера Принса куда более, чем ему хотелось бы в том сознаться. Лорд Сом, войдя в главную гостиную, тотчас направился к юной хозяйке дома; а мистер Принс, к недоумению его преподобия, уселся в другой гостиной на диванчик рядом с мисс Айлекс и завел с ней разговор.
Барышни в главной гостиной музицировали; их уговаривали продолжать. Иные болтали и листали новые журналы.
После исполненной одной из юных дам блистательной симфонии, в которой рулады и переливы тридцать вторых в tempo prestissimo {в самом быстром темпе (ит., муз.).} составляли главную прелесть, мистер Принс осведомился у мисс Тополь, довольна ли она.
Мисс Тополь:
– Я восхищена великолепной ловкостью рук; но что же должна выражать пиеса?
Мистер Принс:
– Приятно сознавать, что такая виртуозность возможна; однако, достигая в искусстве предела сложности, впору снова стремиться к природе и простоте.
Мисс Тополь:
– Бывает, сложность исполнения как нельзя лучше передает замысел автора. Бурные чувства для Рубини {120} неотделимы были от излишеств формы, и музыка Доницетти счастливо помогала его таланту. Никогда не испытывала я такого восторга, как тогда, когда он пел “Tu che al ciel spiegasti l’ali” {Ты сложила крылья в небе {121} (ит.).}.
Мистер Принс:
– Неужто Доничетти вы ставите выше Моцарта?
Мисс Тополь:
– О, разумеется, нет. Никто, как он, не умел вдохновить певца, подобного Рубини, бурной выразительностью музыки; и тут он непревзойден. Но в музыке, для которой вовсе не надобен такой певец, для которой потребна лишь простая правильность исполнения, чтобы все поняли совершенство мелодии, гармонии и выразительности, – в такой музыке некого поставить рядом с Моцартом. Разве Бетховена: “Фиделио” – единственная его опера. Но что за опера! Какой дивный переход тональности, когда Леонора бросается между мужем и Пицарро! И снова как меняется тональность с переменой сцены, когда из узилища мы попадаем в бальную залу! Какая нежность в любви, какая мощь в торжестве и какая изобретательность сопровожденья, как совершенно сочетается басовый поток с безупречной гармонией главной темы!
Мистер Принс:
– А что скажете вы о Гайдне?
Мисс Тополь:
– Гайдн не писал опер, а ведь всеми познаниями моими в музыке я обязана итальянской сцене. Но творения его драматичны. Несравненная гармония согласна с мелодией совершенной. В простых, прямо к сердцу идущих балладах своих он, быть может, непревзойден и единствен. Помните? – да это каждый помнит – “Мать мне велела косу плесть” – какое изящество в первой части и трогательность полутонов во второй; если петь это с верным чувством и выражением, по мне тут вообще никакого аккомпанемента не надобно.
Мистер Принс:
– В балладах есть прелесть и трогательность чувства, которые всегда будут пленять всех тех, от кого прихоти моды не заслоняют естественных требований натуры {Брейем {122} что-то такое говорил Парламентскому комитету по делам театров в 1832 году. (Примеч. автора).}.
Мисс Тополь:
– Странно, однако, до чего же часто эти прихоти заслоняют все требования натуры, и не в одной только музыке.
“Ну не удивительно ли, – размышлял его преподобие, – единственная старуха в комнате и именно к ней устремил свой интерес мой юный друг?”
Но здесь ухо его юного друга поразили несколько простых нот, он встал с дивана и направился к певице. Отец Опимиан поспешил занять его место, дабы отрезать ему путь к отступлению.
Мисс Грилл, искусная во всех видах музыки, особенно любила баллады, вот и теперь она запела балладу.
Серый скакун {*}
Мой дядя прельстился невестой моей,
Отец ее продал за деньги, злодей!
Забрали, смеясь, моего скакуна,
Чтоб в церковь на нем гарцевала она.
Есть тропка укромная там, где валун.
Которую знаем лишь я да скакун.
Как часто спешили мы этим путем,
Чтоб милой поведать о чувстве моем!
Ты, друг мой надежный, поймешь без словес -
Ведь в церковь дорога лежит через лес.
Невеста верна мне, а нюх твой хорош -
Дорогу домой без труда ты найдешь!
Всю ночь пировали, но встали чуть свет.
Возница дремал, не предчувствуя бед.
Рванулся скакун и простился с толпой,
Как ветер понесся знакомой тропой.
Вот кто-то погнался, похмелье кляня,
Запутался в чаще, свалился с коня.
Другие дремали – вини не вини,
Невесты близ храма хватились они.
А рыцарь смотрел – не мелькнет ли фата,
И мост был опущен, открыты врата.
И вот он невесту завидел вдали -
Друг верный летел, не касаясь земли.
Упала решетка, и поднят был мост.
Венчанья обряд был и краток и прост.
И вот показался кортеж у ворот -
Кольцом со стены рыцарь знак подает.
“Эх, поздно!” – шипела похмельная рать.
А рыцарь промолвил: “К чему враждовать?”
Смирилися старцы – впустил их жених,
И подняли кубки за молодых!
{* Основана на Le vair Palefroi; среди фаблио, опубликованных Барбазаном. (Примеч. автора).}
Мистер Принс выслушал балладу с очевидным удовольствием. Потом он повернулся и направился было к дивану, но, найдя свое место занятым, изобразил такое разочарование, что его преподобию сделалось просто смешно.
“В самом деле, – подумал отец Опимиан, – не влюблен же он в старую деву”.
Мисс Грилл меж тем уступила место другой барышне, и та в свою очередь спела балладу, но совсем иного толка.
Возраст и любовь
Средь трав, в цветущем первоцвете,
Детьми играли мы давно,
Смеясь, забыв о всем на свете,
Венки плели, и – как чудно! -
Мне было шесть, тебе – четыре,
Цветы сбирая все подряд,
Бродили в вересковом мире -
Да, шесть десятков лет назад!
Ты стала милою девицей.
Пылала первая любовь,
И дни летели, словно птицы,
Нас радостию полня вновь.
И я любил тебя столь нежно
И повторять о том был рад,
Я мнил, что любишь ты безбрежно, -
Да, пять десятков лет назад!
Как вдруг поклонников армада,
А ты все краше, все ясней,
В гостиных ты была усладой
Для многих блещущих очей.
Ты позабыла клятвы детства -
Манил блеск злата и наград,
Я был убит твоим кокетством -
То было сорок лет назад.
Но я не умер – был повенчан
С другой, а у тебя дитя.
Жена не худшая из женщин,
Я не желал детей, хотя
Потомство чудной вереницей
Стоит пред елкой – стройный ряд!
Смотрю – и как не веселиться? -
То было тридцать лет назад.
Ты стала матерью семейства,
Мила, блистательна, модна,
Я был далек от лицедейства,
И жизнь текла тиха, скромна,
Но я знавал иную сладость:
Глаза восторженно блестят -
Братишку крестят! Шепот, радость -
То было двадцать лет назад.
Шло время. Дочка вышла замуж,
И я со внучкой, старый дед.
Своей любимицей – ну надо ж! -
Пришел на луг, где первоцвет,
Где наше детство пролетело!
Она вдыхает аромат,
Цветы срывая то и дело -
Нет, не десяток лет назад.
Хотя любви той ослепленье
Прошло, ее окутал мрак,
По-прежнему то восхищенье
Храню в душе как добрый знак,
И до последнего дыханья -
Неумолимо дни летят -
Я буду помнить те признанья,
Звучавшие сто лет назад!
Мисс Тополь:
– Печальная песня. Но сколько раз первая любовь кончалась столь же несчастливо? А сколько было их и куда более несчастных?
Преподобный отец Опимиан:
– Зато каково исполнение – такую четкость и точность услышишь не часто.
Мисс Тополь:
– У юной леди отличный контральто. Голос дивной красоты, и умница она, что держится в естественных границах, не надсаживаясь и не стремясь брать ноты повыше, как иные прочие.
Преподобный отец Опимиан:
– Да кто нынче не надсаживается? Юная леди надсаживается, дабы превратить свой голос в альтиссимо, молодой человек надсаживается, дабы свой ум превратить во вместилище непереваренных познаний, – право, они стоят друг друга. Оба усердствуют напрасно, а ведь, держись они в рамках естественного вкуса и способностей, оба могли бы преуспеть. Молодые люди те просто становятся набитыми дураками, в точности как Гермоген {123}, который, поразив мир своими успехами в семнадцать лет, к двадцати пяти вдруг оказался ни на что более не годен и весь остаток долгих своих дней провел безнадежным глупцом {“История греческой литературы” Дональдсона. Т. 3. С. 156. (Примеч. автора).}.
Мисс Тополь:
– Бедные юноши не виноваты. Их не сочтут пригодными ни для какого дела, покуда они не обременят себя разными ненужными сведениями, нелепыми к тому же и несовместными со служением естественному вкусу.
Преподобный отец Опимиан:
– Истинно так. Бриндли не взяли бы строить каналы, Эдварда Уильямса не допустили бы до постройки мостов {Строитель Понт-и-Прида. (Примеч. автора).} {124}. На днях я видел экзаменационные листы, по которым Малборо уж ни за что бы не доверили армии, а Нельсона непременно отставили бы от флота. Боюсь, и Гайдна бы не сочла композитором комиссия лордов, подобных одному его ученику, который вечно пенял учителю за грехи противу контрапункта; Гайдн даже как-то ему заметил: “Я думал, мне надобно вас учить, а оказывается, это вам должно учить меня, однако я не нуждаюсь в наставнике”, – после чего пожелал его сиятельству всего доброго. Вообразите, Уатта вдруг спросили бы {125}, сколько получила Иоанна Неапольская от папы Клемента Шестого за Авиньон {126}, и сочли бы его непригодным к инженерной работе, буде он не нашелся с ответом.
Мисс Тополь:
– Да, странный вопрос, доктор. Ну и сколько же она получила?
Преподобный отец Опимиан:
– Ничего. Он обещал ей девяносто тысяч золотых флоринов, но не заплатил ни единого: в том-то, полагаю, и суть вопроса. Правда, он, можно сказать, с ней расплатился в некотором роде чистой монетой. Он отпустил ей грех убийства первого мужа и, верно, счел, что она не осталась в убытке. Но кто из наших законников ответит на этот вопрос? Не странно ли, что кандидатов в парламент не подвергают конкурсным испытаниям? Платон и Персии могли бы тут помочь кой-каким советом {Платон, “Алкивиад”, I; Персий, Сатира IV.} {127}. Посмотрел бы я, как славные мужи, дабы их допустили к власти, стали бы отвечать на вопросы, на которые обязан ответить любой чиновник. Вот была бы парламентская реформа! Эх, мне бы их дали экзаменовать! Ха-ха-ха, ну и комедия!
Смех его преподобия оказался заразителен, и мисс Тополь тоже расхохоталась. Мистер Мак-Мусс поднялся с места.
Мистер Мак-Мусс:
– Вы так веселитесь, будто обнаружили-таки, кого искал Джек из Дувра.
Преподобный отец Опимиан:
– Вы почти угадали. И это славный муж, с помощью конкурсного экзамена доказывающий, что он обладает мудростью государственной.
Мистер Мак-Мусс:
– Вот уж подлинно конкурс на глупость и верное ее испытание. Преподобный отец Опимиан:
– Конкурсные испытания для чиновников, но не для законодателей – справедливо ли? Спросите почтенного сырборского представителя в парламент, на основании каких достижений своих в истории и философии почитает он себя способным давать законы нации. Он ответит только, что, будучи самым видным золотым мешком из сырборских мешков, он и вправе представлять все то низкое, себялюбивое, жестокосердое, глупое и равнодушное к отечеству, что отличает большинство его сограждан-сырборцев. Спросите нанимающегося чиновником, что он умеет. Он ответит: “Все, что положено, – читать, писать, считать”. “Вздор, – скажет экзаменатор. – А знаете ли вы, сколько миль по прямой от Тимбукту до вершины Чимборасо?” “Нет, не знаю”, – ответит кандидат. “Значит, вы в чиновники не годитесь”, – скажут ему на конкурсных испытаниях. Ну, а знает ли это сырборский представитель в парламент? Ни этого он не знает, ни другого чего. Чиновник хоть на какой-то вопрос ответит. Он же – ни на один. И он годится в законодатели.
Мистер Мак-Мусс:
– Э! Да у него свои экзаменаторы-избиратели, и перед ними держит он экзамен на ловкость рук, перемещая денежки в их карманы из своего собственного, но притом так, чтобы со стороны никто не заметил.
1. ГЛАВА XVI
МИСС НАЙФЕТ. ТЕАТР. БЕСЕДКА. ОЗЕРО. НАДЕЖНЕЙШАЯ ГАРАНТИЯ
Amiam: che non ha tregua
Con gli anni umana vita; e si dilegua.
Amiam: che il sol si muore, e poi rinasce:
A noi sua breve luce
S’asconde, e il sonno eterna notte adduce.
Tasso. Aminta
Любовь – она на миг не утихает,
Лишь вместе с жизнью угасает.
Любовь – заходит солнце, чтоб подняться,
Но свет его сокрыт от нас, беспечных,
И вместе с ночью сон приходит вечный {125}.
Тассо. Аминта
Лорд Сом, будучи человеком светским, не мог на глазах у общества дарить все свое внимание одному лицу исключительно. А потому, выйдя из малой гостиной и подойдя к его преподобию, он осведомился, не знакома ли ему юная леди, исполнявшая последнюю балладу. Отцу Опимиану она была хорошо знакома. То была мисс Найфет, единственная дочь богатого помещика, жившего неподалеку.
Лорд Сом:
– Глядя на нее, покуда она пела, я вспоминал, как Саути описывает лицо Лаилы в “Талабе” {129}:
И яркий свет пылал на мраморе лица,
Как будто ветер раздувал фонтан огня.
И мраморная бледность очень ей пристала. Вся она похожа на статую. Как удалась бы ей Камила в “Горациях” Чимарозы! {130} На редкость правильные черты. Игры в них нет, но голос зато так выразителен, будто она глубоко чувствует каждое слово и ноту.
Преподобный отец Опимиан:
– Я полагаю, она способна на очень глубокие чувства, да только не любит их показывать. Она оживляется, если удается вовлечь ее в беседу. А то она молчалива, сдержанна, хотя и очень всегда мила и готова услужить. Если, к примеру, попросить ее спеть, она никогда не откажется. Она свободна от приписываемой Горацием всем певцам слабости – не соглашаться, когда их просят, и, раз начавши, не умолкать вовек {131}. Если таково общее правило, она счастливое из него исключение.
Лорд Сом:
– Странно, однако, отчего бы ей слегка не подкрасить щек, чтобы на них заиграл легкий румянец.
Мисс Тополь:
– Вам это не было бы странно, когда б вы лучше ее узнали. Все искусственное, все фальшивое хоть чуть-чуть чуждо ее натуре. Она не выказывает всех своих мыслей и чувств, но те, что выказывает она, глубоко правдивы.
Лорд Сом:
– А какую же роль она будет играть в Аристофановой комедии?
Преподобный отец Опимиан:
– Она будет корифеем в хоре.
Лорд Сом:
– На репетициях я ее, однако, не видел.
Преподобный отец Опимиан:
– Ее покамест заменяли. В следующий раз вы ее увидите.
Тем временем мистер Принс вошел в малую гостиную, сел подле мисс Грилл и завязал с ней беседу. Его преподобие издали их наблюдал, но, хоть ничто и не мешало его наблюдениям, он никак не мог решить, какое же впечатление произвели они друг на друга.
“Хорошо, – говорил он сам себе, – что мисс Тополь – старая дева. Будь она юной, как Моргана, она б завоевала сердце нашего юного друга. Ее сужденья так близки его душе. Но ничуть не меньше пришлись бы ему по душе суждения Морганы, когда б она свободно их высказывала. Отчего же она так стеснена? С ним, по крайней мере? С лордом Сомом она держится совершенно непринужденно… Да-да, это доброе предзнаменование. В жизни не видывал такой подходящей парочки. Помоги мне, господи. Нет, не могу избавиться от этой мечты. Ах, еще как бы весталки эти не помешали”.
Лорд Сом, видя, как мисс Найфет сидит одна в уголке, вновь переместился, сел подле нее и завел беседу о романах, операх, картинах и всевозможных явлениях лондонской жизни. Она весьма живо ему отвечала. Ежегодно она май и июнь проводила в Лондоне, много выезжала и видела все, что было там интересного. Лорд Сом, сей несравненный Протей, не мог затронуть ни одной такой темы, в которой мисс Найфет не показала бы осведомленности. Но первой она не высказывалась. Он говорил, она отвечала. Одно представлялось странным лорду Сому, что хоть обо всем судила она со знанием дела, но ни о чем не упоминала с одобрением либо недовольством. Мир словно катился мимо нее, не волнуя гладкой поверхности ее мыслей. Это ставило в тупик его разностороннее сиятельство. Он решил, что юная леди – предмет, достойный изучения; она обладает характером, это ясно. Он понял, что не успокоится, покуда его не раскусит.
Театр быстро строился. Возводили стены. Настилали крышу. Сцена была подготовлена для ежеутренних трудов мистера Шпателя над декорациями. Текст был составлен. Музыка тоже. Репетиции шли одна за другой, но покуда в гостиных.
Мисс Найфет, воротясь как-то утром с прогулки перед завтраком, прошла к театру, дабы поглядеть, как там подвигается дело, и обнаружила лорда Сома, парящего над сценой на сиденье, поддерживаемом с помощью где-то в вышине укрепленных длинных веревок. Он ее не заметил. Он устремил кверху взор, не праздно рассеянный, но полный глубоких раздумий. В ту же секунду сиденье взмыло ввысь, и лорд исчез среди синих холстов, изображающих небо. Не ведая о том, что гимнастика эта служит задуманному представленью, мисс Найфет, как столь многие до нее, связала образ его сиятельства с чем-то весьма уморительным.
Мисс Найфет не была смешлива, но всякий раз, когда она взглядывала на лорда Сома в продолжение завтрака, она не могла удержать улыбки, тем более что немое его воспарение так не вязалось с чинной благовоспитанностью его застольных манер. Строки из Драйдена:
Настолько был он многолик {132},
Что был, скорей, не человеком,
А человечеством в миниатюре, -
невольно пришли ей на память.
Лорд Сом заметил подавляемую усмешку, но ничуть не отнес ее насчет своей особы. Он решил, что юная дама задумала какую-то милую шалость и улыбается собственным соображениям. Новая милая черточка придала в его глазах еще больше прелести ее мраморной красе. Но вот лицо ее вновь обрело всегдашнюю невозмутимость. Лорд Сом с удовлетворением осознал, что где-то когда-то он уже видел нечто подобное этому лицу, и, перебрав ряд воспоминаний, остановился наконец на статуе Мельпомены.