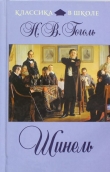Текст книги "Усадьба Грилла"
Автор книги: Томас Лав Пикок
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
Томас Лав Пикок. Усадьба Грилла
–
Перевод Е. Суриц, перевод стихотворений С. Бычкова
Thomas Love Peacock. Nightmare Abbey. Gryll Grange
Томас Лав Пикок. Аббатство Кошмаров. Усадьба Грилла
Серия “Литературные памятники”
Издание подготовили: Е. Ю. Гениева, А. Я. Ливергант, Е. А. Суриц
М., “Наука”, 1988
OCR Бычков М.Н.
–
Вот так общественное мненье
С уверенностью наглеца
Ведет нас, как слепец слепца,
А люди – олухи, часами
В восторге хлопают ушами!
Не верь рассказам откровенным -
Обманут будешь непременно! {1}
С. Батлер
Новый Лес упоминается на последующих страницах так, будто он по-прежнему не огражден. Иным автор его не мыслит, ибо с тех пор, как его огородили, не видывал его и видеть не предполагает.
Эпиграфы иногда соответствуют главам, каким предпосланы; чаще же – общему замыслу или, заимствуя музыкальный термин, “мотиву оперетки” {Примеч. автора.}.
1. ГЛАВА I
ПАРАДОКСЫ
Ego sic semper et ubique vixi, ut ultimam
quamque lucem, tamquam non redituram,
consumerem -
Petronius Arbiter {2}
(Всегда и везде я так провожаю день,
будто он уже не вернется.)
– Палестинский суп! – заметил отец Опимиан {3}, обедая с приятелем своим помещиком Гриллом {4}. – Забавнейшая ложная этимология. Есть превосходная старая овощь – артишок, от которой мы едим вершки; и есть позднейшее нововведение, от которого едим мы корешки и тоже именуем артишоком из-за сходства с первым по вкусу, хотя, на мой взгляд, какое уж тут сравненье. Последний – разновидность helianthus из рода подсолнухов из класса Syngenesia frustranea. Подсолнух поворачивается к солнцу, а стало быть, это girasol. Girasol превратился в Иерусалим {5}, а от иерусалимского артишока произошел палестинский суп.
Мистер Грилл:
– Весьма добрая вещь, ваше преподобие.
Преподобный отец Опимиан:
– Весьма добрая вещь; но явственно ложная этимология, чистейший парадокс.
Мистер Грилл:
– Мы живем в мире парадоксов, и часто, боюсь, более нелепых. Мой скромный опыт научил меня, что шайка мошенников – это старая солидная фирма; что люди, продающие свои голоса тому, кто больше заплатит, и радеющие о “строгости выборов”, дабы продать свои обещанья обеим партиям, – это свободные, независимые избиратели; что человек, непременно предающий всех, кто только ему доверился, и изменяющий решительно всем собственным принципам, – это крупный государственный деятель и консерватор, воистину a nil conservando {ничего не хранящий (лат.) {6}.}; что распространение заразы есть попечение о всеобщем здравии; что мерило способностей – не достижения, но замашки, что искусство передавать все познания, кроме полезных, есть народное образованье. Взгляните за океан. Слово “доброжелатель” предполагает, казалось бы, известную дозу добрых чувств. Ничуть не бывало. Оно означает лишь всегдашнюю готовность к сообщничеству в любой политической низости. “Ничегонезнайкой”, казалось бы, признает себя тот, кто полон смиренья и руководствуется библейской истиной, что путь ко знанию лежит через понимание своего невежества {7}. Ничуть. Это свирепый догматик, вооруженный дубинкой и револьвером. Только вот “Локофоко” {8} – слово вполне понятное: это некто, намеревающийся сжечь мосты, корабли и вообще спалить все дотла. Флибустьер – пират под национальным флагом; но, полагаю, само слово означает нечто добродетельное – не друг ли человечества? Преподобный отец Опимиан:
– Скорее друг буянства – φιλοβωστρής, как понимали буянство старые наши драматурги; отсылаю вас к “Буйной девице” Мидлтона {9} и комментарию к ней {“Буйные малые – жаргонное обозначенье разгульных и вздорных повес, наводнявших Лондон и развлекавшихся за счет более спокойных его обитателей. Что же до буйных девиц, то героиня упомянутой пьесы – законченнейший их образчик. Подлинное имя ее – Мери Фрис, но скорее она известна как Молл-Карманница”. Она носила мужское платье, курила, дралась, грабила по большим дорогам, держала в повиновении мелких воришек и требовала, чтоб те возвращали краденое добро, если ей достойно платили за услуги (Примеч. автора).}.
Мистер Грилл:
– Когда уж речь у нас зашла о парадоксах, что скажете вы о парламентской мудрости?
Преподобный отец Опимиан:
– Ну нет, сэр, ее-то вы помянули некстати. “Мудрость” в данном словосочетании употреблена в чисто парламентском смысле. Парламентская мудрость – это мудрость sui generis {особого рода (лат.).}. Ни на какую иную мудрость она вовсе не похожа. Это не мудрость Сократа, не мудрость Соломона. Это парламентская мудрость. Ее нелегко объяснить, определить, но очень легко понять. Она много преуспела сама по себе, но еще более, когда на помощь к ней поспешила наука. Они сообща отравили Темзу и загубили рыбу в реке. Еще немного – и те же мудрость и наука отравят уже весь воздух и загубят прибрежных жителей. Приятно, правда, что бесценные миазмы воспарились у Мудрости под самым мудрым ее носом. Чем упомянутый нос, подобно носу Тринкуло, остался весьма недоволен {10}. Мудрость повелела Науке кое-что предпринять. Что именно – не знают ни Мудрость, ни Наука. Но Мудрость уполномочила Науку потратить миллион-другой; и уж это-то Наука, без сомненья, выполнит. Когда деньги разойдутся, обнаружится, что кое-что – хуже, чем ничего. Науке понадобятся еще средства, чтобы еще кое-что предпринять, и Мудрость их ей пожалует. Redit labor actus in orbem {По кругу идет земледельца труд {11}. (Примеч. автора).}. Но вы затронули нравственность и политику. Я же коснулся только искаженья смысла слов, чему мы видим множество примеров.
Мистер Грилл:
– Что бы мы ни затронули, ваше преподобие, почти во всем мы обнаружим общее: слово представляет понятие, если разобраться, ему чуждое. Палестинский суп от истинного Иерусалима не дальше, чем любой почти достопочтенный пэр от истинного достоинства и почтения. И все же, что вы скажете, ваше преподобие, насчет стаканчика мадеры, которая, я убежден, вполне соответствует своему названью?
Преподобный отец Опимиан:
– In vino veritas {Истина в вине (лат.).}. С превеликим удовольствием.
Мисс Грилл:
– Вы, ваше преподобие, как и мой дядюшка, готовы толковать о любом предмете, какой только подвернется; и развиваете тему в духе музыкальных вариаций. Чего только не помянули вы по поводу супа! А насчет рыбы что скажете?
Преподобный отец Опимиан:
– Исходя из той посылки, что передо мной лежит прелестнейший ломтик семги, о рыбе я многое могу сказать. Но тут уж ложных этимологии вы не найдете. Имена прямы и просты: скат, сиг, сом, сельдь, ерш, карп, язь, линь, ромб, лещ, рак, краб – односложные; щука, треска, угорь, окунь, стерлядь, палтус, форель, тунец, семга, осетр, омар, голец, судак, рыбец, налим, карась, пескарь – двусложные; из трехсложных лишь две рыбы достойны упоминания: анчоус и устрица; кое-кто станет отстаивать камбалу, но я до нее не охотник.
Мистер Грилл:
– Совершенно с вами согласен; но, по-моему, вы не назвали еще нескольких, которым место в ее компании.
Преподобный отец Опимиан:
–Зато едва ли я назвал хоть одну недостойную рыбу.
Мистер Грилл:
– Лещ, ваше преподобие: о леще не скажешь ничего лестного. Преподобный отец Опимиан:
– Напротив, сэр, много лестного. Во-первых, сошлюсь на монахов, всеми признаваемых знатоками рыбы и способов ее приготовленья; на видном месте в списках, изобличающих излишества монастырей и прилагаемых к указам об их роспуске, вы найдете пирог с лещом. С разрушительной работой поспешили и, боюсь, в суматохе утеряли рецепт. Но леща и сейчас еще подают в тушеном виде, и блюдо это изрядное, если только он взрослый и всю жизнь проплавал в ясной проточной воде. Я называю рыбой все, что поставляют для нашего стола реки, моря и озера; хотя с научной точки зрения черепаха – пресмыкающееся, а омар – насекомое. Рыба, мисс Грилл, – о, я мог бы говорить о ней часами, но сейчас воздержусь: лорд Сом намеревается прочесть рыбакам в Щучьей бухте лекцию о рыбе и рыбной ловле и поразить их познаньями в их искусстве. Вам, наверное, будет любопытно его послушать. Билеты найдутся.
Мисс Грилл:
– О да, мне очень любопытно его послушать. Ни разу еще я не слышала лекций лорда. Страсть лордов и почтенных господ читать лекции о чем угодно, где угодно и кому угодно всегда представлялась мне уморительной; но, быть может, такие лекции, напротив, выставляют лектора в самом лучшем виде и для слушателей в высшей степени поучительны. Я уж рада бы излечиться от неуместного смеха, разбирающего меня всякий раз, как при мне помянут о лекции лорда.
Преподобный отец Опимиан:
– Надеюсь, мисс Грилл, лорд Сом вашего смеха не вызовет: уверяю Вас, в намерения его сиятельства отнюдь не входит говорить забавные вещи.
Мисс Грилл:
– Еще Джонсона поражала всеобщая страсть к лекциям {12}, а ведь лорды при нем лекций еще не читали. Он находил, что лекции мало на что годны, разве только в химии, где нужно доказывать мысль опытами. Но уж если ваш лорд станет для опыта готовить рыбу, да еще в достаточном количестве, чтобы ее могли распробовать все слушатели, – о, тогда его лекцию выслушают внимательно и потребуют повторенья.
Преподобный отец Опимиан:
– Боюсь, лекция будет лишена этих подсобных прелестей. Лорд представит нам чистый научный разбор, тщательно подразделив его на ихтиологию, энтомологию, герпетологию и конхологию. Но я согласен с Джонсоном: лекции мало на что годны. Тот, кто не знает предмета, не поймет и лекции, а тот, кто знает, ничего из нее не почерпнет. Последнему на многое захочется возразить, но этого не позволит bienseance {благоприличие (фр.).} обстановки. Нет, по мне так уже лучше tenson {тенсона (фр.) {13}.} двенадцаго века, когда двое или трое мастеров Gai Saber {веселой науки (прованс.); зд.: так трубадуры называли искусство поэзии.} состязались в прославлении любви и подвигов.
Мисс Грилл:
– Наш век, ваше преподобие, пожалуй, чересчур для этого прозаичен. У нас для такого состязанья недостанет ни остроты ума, ни поэзии. Я легко могу вообразить состояние общества, в каком tensons приятно заполнят зимние вечера: это не наше общество.
Преподобный отец Опимиан:
– Хорошо же, мисс Грилл, как-нибудь зимним вечерком я вас вызову на tenson, а дядюшка ваш будет нам судьею. Думаю, остроты ума, которой наградила вас природа, и поэзии, которая хранится в моей памяти, достанет, чтоб нам упражняться в tenson, вовсе не притязая на совершенное в ней искусство.
Мисс Грилл:
– Я приму вызов, ваше преподобие. Боюсь, острота ума будет скудно представлена одной из сторон, зато другая щедро представит поэзию.
Мистер Грилл:
– А что, ваше преподобие, не приблизить ли вам tenson к нуждам нынешнего мудрого века? Спиритизм, к примеру, – какая благодатная почва. Nec pueri credunt… Sed tu vera puta {“В это поверят лишь дети… Ты же серьезно представь” {14} (лат.). (Примеч. автора).}. Можно и выйти за пределы tenson’a. Тут и на Аристофанову комедию хватит. В состязании Правды и Неправды в “Облаках” и в других Аристофановых сценах многое предвещает tensons, хотя любовь там и не ночевала. Поверим же на мгновенье в спиритизм хотя бы в драме. Вообразим сцену, на которой действуют видимые и звучащие духи. И вызовем славнейших мужей прошлого. И спросим, что думают они о нас и делах наших. Об удивительных успехах разума. О развитии ума. О нашей высокой нравственности. О широком распространении наук. О способе выбрать самого неподходящего человека с помощью конкурсных испытаний. Преподобный отец Опимиан:
– Не стоит вызывать сразу многих и задавать сразу много вопросов, не то хор призрачного смеха совсем нас оглушит. Ответ, полагаю, будет подобен Гамлетову: “Вы, милостивые государи, сами станете мудры, как мы, ежели, подобно ракам, будете пятиться назад” {15}. Удивляются, как может темный народ в девятнадцатом столетии верить ведовству. Будто люди образованные не верят в б_о_льшие глупости: спиритизм, неведомые языки, ясновидение, столовращенье и прочие вредные вздоры, которых вершина – мормонство {16}. Тут все времена одинаковы. Нет ничего ужасней людского легковерия. Мысль об Аристофановой комедии мне по сердцу. Но для нее нужно целое общество, ведь не обойтись без хора. А для tenson’a достанет и двоих.
Мистер Грилл:
– Одно другому не мешает. Мисс Грилл:
– Ах, ну пожалуйста! Поставим комедию! К нам на рождество понаедет много гостей, и для хора и для всего хватит. Как бы хотелось услышать, что думает о нас славный праотец Грилл! И Гомер, и Дант, Шекспир, Ричард Первый и Кромвель.
Преподобный отец Опимиан:
– Прекрасные dramatis personae. С их помощью, да еще призвав кое-кого из римлян и афинян, мы сможем составить верное суждение о том, как неизмеримо превзошли мы всех предшественников.
Однако, прежде чем продолжать, мы расскажем немного о наших собеседниках.
1. ГЛАВА II
ПОМЕЩИК И ЕГО ПЛЕМЯННИЦА
Fortuna. spondet. multa. multis. prastat. nemini.
vive. in. dies et. horas. nam. propriun. est. nihil.
Меж упований, забот, между страхов кругом и волнений
Думай про каждый ты день, что сияет тебе он последним {17}.
Грегори Грилл, владелец Усадьбы Гриллов в Хэмпшире подле Нового Леса, посреди парка, который и сам был как лес, тянулся почти до самого моря, изобиловал оленями и соседствовал с землями, где многочисленные, не обременяемые тяжкой платой зажиточные арендаторы раскармливали несчетных свиней, находил, что обиталище его как нельзя более удачно расположено для Epicuri de grege porcus {“Эпикурова стада я поросенок” (лат.) {18}. Древние философы легко принимали унизительные прозвища, какими награждали их враги и соперники. Эпикур соглашался быть свиньей, циники – собаками, а клеанфы довольны были, когда их называли Задом Зеноновым {19}, ибо лишь они и могли сносить ношу стоической философии. (Примеч. автора).}, считая себя, хоть тут и трудно было проследить родословную, прямым потомком древнего славного Грилла, доказывавшего Улиссу высшее счастие жизни других животных в сравнении с человеческой {*}.
{* Плутарх. Bruta animalia ratione uti [Даже скоты пользуются разумом (лат.)]. Грилл, кажется, победил в этом споре. Спенсер, однако, так не думал, когда, выведя своего Грилла в Небесной Аркадии, бранит своего Гийона Палмера за то, что он ему вернул человеческий облик.
Ударил тут же посохом своим:
Исчезли звери – чудный сонм людей,
Лишь взор порой казался нелюдским.
Те стыд скрывали в глубине очей,
Те гнев, дивясь инакости своей,
Но выделялся лишь один средь них -
Когда-то он царил среди свиней -
Роптал Грилл-боров – ныне каждый штрих
Напоминал ему о временах былых.
Сказал Гийон: “Как быстро человек
О высшем забывает назначенье.
Лишь только начинает жизни бег -
Звериная природа в нетерпенье,
Она томится, ждет освобожденья.”
Королева фей. Кн. 2, песнь 12
В диалоге Плутарха Улисс, после товарищей своих вновь обретя человеческий облик, просит Цирцею точно так же расколдовать и всех греков, подпавших под ее чары. Цирцея соглашается при условии, что они сами того пожелают. Грилл, обретя на сей случай дар слова, отвечает за всех, что они желают остаться как есть; и в подтверждение своего решения показывает все те преимущества, какими обладают в настоящем своем состоянии, не разделяя общей судьбы рода человеческого. К сожалению, мы располагаем лишь началом диалога, которого большая часть утрачена (Примеч. автора).}
Казалось бы, для того, кто выводит свой род из самого дворца Цирцеи, насущнейшая забота – продолжение древнего имени; но жена нарушила бы его душевное равновесие, а этой мысли снести он не мог. Он любил добрый обед, но вдобавок обед спокойный, в кругу спокойных друзей, с кем затрагиваешь темы, открывающие простор для приятной беседы, а не для язвительных пререканий. Он страшился, как бы жена не стала указывать ему, что ему есть, кого приглашать к столу и можно ли ему выпить после обеда бутылку портвейна. Заботы же о продолжении рода он возложил на сироту-племянницу, которую воспитывал с детства, которая присматривала за его хозяйством и сидела во главе стола. Она была его наследница, и муж ее должен был принять его имя. Выбор он всецело предоставил ей, оговорив за собою право отвергнуть искателя, какого почтет он недостойным славного прозванья.
В юной леди достало вкуса, чувства и смысла не делать неугодного дядюшке выбора; время, однако, шло и предвещало исход, не предвиденный добрым помещиком. Мисс Грилл, казалось, вообще не собиралась никого выбирать. Окружавший ее веселый покой словно окутал все ее чувства; к тому же привязанность к дядюшке подсказывала ей, что, хоть он и ратовал всегда за ее брак, разлука с нею будет самым жестоким ударом, какой заготовила ему судьба, и оттого она откладывала день, для него тяжелый, а быть может, не сладкий и для нее самой.
“О, древнее имя Гриллов! – сокрушался мистер Грилл сам с собою. – Неужто суждено ему угаснуть в девятнадцатом веке, уцелев со времен Цирцеи!”
Нередко по вечерам, глядя, как она сидит во главе стола, сияя радостной звездой, всех заражая своей веселостью, он думал, что настоящее положение вещей не дозволяет перемен к лучшему, и продолжение древнего имени в те минуты заботило его меньше; но по утрам старая забота вновь его одолевала. Юную леди меж тем одолевали воздыхатели, им разрешалось поверять ей свои ходатайства, но все оставалось по-прежнему.
Многих юношей с отличными видами она, как будто уже обнадежив, отвергала одного за другим, непререкаемо и внезапно. Отчего? Юная леди держала причины в тайне. Открой она их, говорила она, и в наш притворный век ничего бы не стоило изобразить качества, любезные ее сердцу, а еще того проще – скрыть свойства, ей неприятные. Несхожесть отвергаемых не оставляла места догадкам, и мистер Грилл начинал отчаиваться.
Между дядюшкой и племянницей было соглашение. Он мог предложить ее вниманию любого, кого сочтет он достойным ее руки, она же вправе отвергнуть искателя, не объясняя резонов. И они являлись и исчезали пестрой чередой, не оставляя следов.
Была ли юная леди чересчур привередлива, или не было среди поклонников достойного, или еще не явился тот, кому суждено было тронуть ее душу?
Мистер Грилл был племяннице крестным отцом, и ему в угоду ее нарекли Морганой {20}. Он подумывал о том, чтобы назвать ее Цирцеей, но склонился к имени другой волшебницы, которая имела свои понятия о прекрасных садах и не менее влияла на людские умы и формы {21}.
1. ГЛАВА III
КНЯЖЬЯ ПРИХОТЬ
Τέγγε πνεύμονας οἰνῳ˙ τὸ γάρ ἄστρον περιτέλλεταιέ
Ἅ δ᾽ὥρα χαλεπά, πάντα δἐ δυψᾷ ὑπὸ καύματος
Alcaeus
Сохнет, други, гортань, -
Дайте вина!
Звездный ярится Пес.
Пекла летнего жар
тяжек и лют;
жаждет, горит земля {22}.
Falernum: Opimianum. Annorura. Centum.
Heu! Heu! inquit Trimalchio, ergo diutius vivit
vinum quam homuncio! Quare τέγγε πνεύμονας faciaraus.
Vita vinum est.
Petronius Arbiter.
Опимианский фалерн {23}. Столетний.
Тримальхион всплеснул руками и воскликнул:
“Увы, увы нам! Так, значит, вино живет дольше,
чем людишки!
Посему давайте пить, ибо в вине жизнь!”
На вопрос, поставленный Вордсвортом в “Эпитафии поэту”:
Не ты ль для радости рожден,
Благами сладко наделен? -
преподобный отец Опимиан мог ответить утвердительно. Достойный служитель церкви обитал в уютной усадьбе подле Нового Леса. Богатый приход, порядочное наследство и скромное женино приданое освобождали его от низменного житейского попечения и позволяли удовлетворять своим вкусам, не заботясь мелочными расчетами. Славная библиотека, добрый обед, хороший сад и сельские прогулки – вот и все его вкусы. Он был неутомимый пешеход. Ни от езды верхом, ни от кареты не получал он удовольствия; но держал выезд для нужд миссис Опимиан и ради собственных нечастых вылазок к дальним соседям.
Миссис Опимиан была домоседка. Заботами преподобного она не имела недостатка в поваренных книгах, к которым собственной его изобретательностью и усердием друзей добавился толстый и все разрастающийся рукописный том. Она ревностно их изучала, руководила поваром, и супруг не мог и желать лучшего стола. Погреб его изобиловал прекрасными, им самим отобранными винами. Дом его во всем был образцом удобства и порядка; и на всем лежала печать личности хозяина. От хозяина с хозяйкой до повара и от повара до кота – все обитатели усадьбы имели одинаково гладкие, довольные и круглые физиономии и фигуры, свидетельствовавшие об общности чувств, обычаев и диеты; последняя, разумеется, в меру рознилась, ибо преподобный предпочитал портвейн, повар пиво, а кот молоко. Утром, покуда миссис Опимиан обдумывала распоряжения по хозяйству и заботы о своем маленьком семействе, преподобный, если только не предполагал посвятить целый день прогулке, занимался у себя в кабинете. Днем он гулял; вечером обедал; а после обеда читал вслух жене и детям или слушал, как дети ему читают. Такова была его семейная жизнь. Иной раз он обедал в гостях; чаще у друга и соседа мистера Грилла, который разделял его интерес к доброй пище.
За пределами его ежедневных прогулок, на том месте, куда забредал он лишь изредка, на окруженном зарослями холме стояла одинокая круглая башня, в былые времена, должно быть, служившая межевым знаком для охотников; ныне она утратила свое предназначенье, и в народе стали называть ее Прихотью, как нередко называют подобные постройки. Ее окрестили даже Княжьей Прихотью, хотя никто не мог бы сказать, о каком князе идет речь. Предание не сохранило его имени.
Однажды в самой середине лета, когда веял южный ветерок и в небе не было ни облачка, его преподобие, вкусив от раннего завтрака, поспособствовав значительному утоньшению предложенного ему толстого филея, взявши надежную трость и верного ньюфаундленда, отправился в дальний путь, какой позволяли лишь такие ясные и долгие дни.
Достигнув Прихоти, которой он давно уж не видел, он подивился, найдя ее огороженной и обнаружа позади нее крытый переход из того же серого камня, что и сама башня. Переход уходил в лес на задах, и оттуда поднимался дымок, тотчас приведший ему на память жилище Цирцеи {*}. Перемена произошла в самом деле словно по волшебству; мысль о чарах Цирцеи поддерживалась древним видом постройки {**} и тем, что взгляд с высоты охватывал полосу моря. Он прислонился к воротам, вслух прочел собственные строки “Одиссеи” и погрузился в унылое раздумье, из которого вывел его появившийся из-за ограды молодой господин.
– Прошу прощенья, сэр, – сказал отец Опимиан, – но перемены, здесь произошедшие, подстрекают мое любопытство; и если вы не сочтете вопрос мой дерзостью и ответите, как же все это случилось, я буду вам премного обязан.
{* Καί μο᾽ ἑείσατο καπνὀς ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης,
Κίρκης ἐν μεγάροισι, διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ θλην.
Μερμἡριξα δ᾽ ἔπειτα κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμὸν
Ἐλθεῑν, ἡδὲ πυθέσθαι, ἐπεὶ ἰδον αἴθοπα καπνόν.
Взявши копье и двуострый свой меч опоясав {24}, пошел я
С места, где был наш корабль, на утесистый берег, чтоб сведать,
Где мы? Не встречу ль людей? Не послышится ль чей-нибудь голос?
Став на вершине утеса, я взором окинул окрестность.
Дым, от земли путеносной вдали восходящий, увидел
Я за широко разросшимся лесом в жилище Цирцеи.
Долго, рассудком и сердцем колеблясь, не знал я, идти ли
К месту тому мне, где дым от земли поднимался багровый.
Одиссея. Песнь X. (Примеч. автора)
** Εὖρον δ᾽ ἐν βήσσησι τετυγμένα δώματα Κίρκης
Ξεστοῖσιν λάεσσι, περισκέπτῳ ἐνί χώρῳ.
Скоро они за горами увидели крепкий Цирцеин
Дом, сгроможденный из тесаных камней на месте открытом.
Там же. (Примеч. автора)}
– Я к вашим услугам, сэр, – отвечал тот. – Но если вы соблаговолите войти и осмотрите все сами, я вам буду премного обязан.
Его преподобие с готовностью принял приглашение. Неизвестный привел его по лесной прогалине к круглому сооруженью, от которого в обе стороны шел широкий переход влево к башне, а вправо к новому строенью, совершенно скрытому чащей и от ворот не видному. Постройка была квадратная, простой кладки и по стилю очень похожа на башню.
Молодой человек двинулся влево и ввел его преподобие в нижний этаж башни.
– Я разделил ее, – объяснил он, – на три помещения – по одному в каждом этаже. Вот тут столовая; над нею моя спальня; а еще выше – мой кабинет. Вид превосходный отовсюду, но из кабинета более широкий, ибо там за лесом открывается море.
– Прекрасная столовая, – сказал отец Опимиан. – Высота вполне соответствует размерам. Круглый стол удачно повторяет форму залы и приятно обнадеживает.
– Надеюсь, вы окажете мне честь составить собственное сужденье о том, обоснованны ли эти надежды, – сказал новый знакомец, поднимаясь во второй этаж, и отец Опимиан подивился его учтивости. “Не иначе, – подумал он, – замок сохранился со времен рыцарства, а юный хозяин – сэр Калидор”. Однако кабинет перенес его в иное время.
Стены все были уставлены книгами, и верхние полки доступны только с галерейки, обегавшей всю комнату. Внизу стояли древние; наверху – английские, итальянские и французские и кое-какие испанские книги.
Молодой человек снял с полки том Гомера и указал его преподобию место в “Одиссее”, которое тот читал у ворот. Отец Опимиан понял причины расточаемых ему ласковостей. Он тотчас угадал близкую, тоже плененную греками душу.
– Библиотека у вас большая, – заметил он.
– Надеюсь, – отвечал молодой человек, – я собрал все лучшие книги на тех языках, какими владею. Хорн Тук говорит: “Греческий, латынь, итальянский и французский – вот, к несчастию, и все языки, обыкновенно доступные образованному англичанину” {25}. А по мне, так блажен тот, кто хотя бы ими владеет. На этих языках, и вдобавок на нашем собственном, написаны, я полагаю, все лучшие в мире книги. К ним можно прибавить только испанский, ради Сервантеса, Лопе де Веги и Кальдерона {26}, Dictum {Изречение (лат.).} Порсона гласит {27}: “Жизнь слишком коротка для изучения немецкого”, при этом, очевидно, разумея не трудности грамматики, требующие для своего преодоления особенно долгого времени, но то обстоятельство, что, сколько бы мы времени ни потратили, нам нечем будет себя вознаградить { Француз – хозяин гостиницы у Хэйворда {28} приводит против изучения немецкого другой, не менее убедительный довод: “Как приметишь интересное по составу или способу приготовления блюдо, из чего бы оно ни было, непременно выяснится, что автор француз. Много лет назад как-то вздумалось нам спросить во Французском Отеле в Дрездене, кому обязаны мы превосходнейшей пуляркой, и нам ответили, что повар – сам хозяин, француз, бывший шеф-повар русского посланника. Восемнадцать лет провел он в Германии, но ни слова не понимал ни на одном языке, кроме собственного. A quoi bon, messieurs? – отвечал он, когда мы выразили ему наше недоумение – A quoi bon apprendre la langue d’un peuple qui ne possede pas une cuisine? [Зачем, господа? Зачем знать язык народа, у которого нет кухни? (фр.)] (Примеч. автора).}.
Его преподобие не сразу нашелся с ответом. Сам он знал немного французский, лучше итальянский, будучи поклонником рыцарских романов; познаниями же в греческом и в латыни он с кем угодно мог поспорить; но его более занимали мысли о положении и характере нового знакомца, нежели литературные суждения, им высказываемые. Он недоумевал, отчего молодому человеку со средствами, достаточными на то, что он сделал, понадобилось делать все это и устраивать кабинет в одинокой башне, вместо того чтобы порхать по клобам и пирам и в прочих суетных забавах света. Наконец он возразил для поддержания беседы:
– Порсон был великий муж и dictum его повлиял бы на меня, вздумай я заняться немецким; но такого намерения у меня никогда не бывало. Однако ж не пойму, зачем вы поместили кабинет не во втором этаже, а в третьем? Вид, как справедливо вы заметили, превосходный отовсюду; но здесь в особенности много неба и моря; и я бы отвел на созерцанье часы одеваний, раздеваний и переодеваний. Утром, вечером и полчасика перед обедом. Ведь мы замечаем окружающее, производя действия, разумеется, важные, но от повторения ставшие механическими и не требующие усилий ума, тогда как, предаваясь чтению, мы забываем все впечатления мира внешнего.
– Истинная правда, сэр, – отвечал хозяин. – Но помните, как сказано у Мильтона:
Порой сижу у ночника
В старинной башне я, пока
Горит Медведица Большая
И дух Платона возвращаю
В наш мир с заоблачных высот… {29}
Строки эти преследовали меня с ранних дней и побудили наконец купить эту башню и поместить кабинет в верхнем этаже. Есть у меня, впрочем, и другие причины для такого образа жизни.
Часы в кабинете пробили два, и молодой человек предложил гостю пройти в дом. Они спустились по лестнице и, перейдя вестибюль, очутились в просторной гостиной, просто, но красиво убранной; по стенам висели хорошие картины, в одном конце залы стоял орган, в другом – фортепьяно и арфа, а посредине был изящно сервирован завтрак.
– Этой порою года, – сказал молодой человек, – я ем второй завтрак в два, а обедаю в восемь. И потому по утрам у меня выдается два больших промежутка для занятий и для прогулок. Надеюсь, вы разделите мою трапезу. У Гомера, сколько помнится, никто не отказывался от подобных предложений.
– Поистине, – отвечал его преподобие, – довод ваш веский. Я с радостью соглашусь. К тому же от прогулки у меня разыгрался аппетит. – Да, должен вас предупредить, – сказал молодой человек, – прислуга у меня только женская. Вы сейчас увидите двух моих камеристок.
Он позвонил в колокольчик, и означенные особы не замедлили явиться; обеим было не больше семнадцати лет, обе были прехорошенькие и просто, но очень мило одеты.
Из расставленных перед ним кушаний доктор отведал языка и немного холодного цыпленка. Мадера и шерри стояли на столе, но юные прислужницы предложили ему еще бордо и рейнвейну. Доктор принял по вместительной чаше из прекрасных ручек обеих виночерпиц и оба сорта вина нашел превосходными и в меру прохладными. Больше пить он не стал, боясь отяжелеть перед дорогой и опасаясь помешать предвкушению обеда. Не забыт был и пес, во все время завтрака выказывавший пример благовоспитанности. Наконец его преподобие стал раскланиваться.
– Надеюсь, – сказал хозяин, – теперь я вправе задать вам вопрос гомерический: Τίς; Πόθεν εἰς ἀνδρῶν? {Кто ты и откуда? (греч.).}
– Совершенно справедливо, – отвечал доктор. – Имя мое Феофил Опимиан. Я доктор богословия и пресвитер в соседнем приходе.
– Я же всего-навсего, – отвечал молодой человек, – Алджернон Принс. Я получил в наследство кое-какие деньги, но без земель. И вот, воспользовавшись открывшейся возможностью, я купил эту башню, устроился по своему разумению и живу как мне хочется.
Его преподобие собрался уходить, мистер Принс, предложив немного проводить его, кликнул своего пса, тоже ньюфаундленда, который немедля завязал дружбу с докторским псом, и двое господ отправились в путь вслед за веселыми собаками.