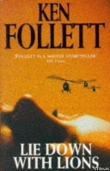Текст книги "Битва за космос"
Автор книги: Том Вулф
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 26 страниц)
Конрад, Ширра и другие летчики-испытатели, конечно, иначе смотрели на все эти выпады прессы. По телевидению показывали самые рядовые испытания. При испытаниях прототипов самолетов двигатели тоже взрывались, что же говорить об испытаниях совершенно новой системы силовой установки, такой как реактивные или ракетные двигатели? Взрыв случился, например, в Мьюроке, при испытании двигателя второго по счету американского реактивного истребителя ХР-80. Но, как правило, человека не сажали в машину, если двигатель не был доработан до определенной степени надежности. Самые обычные при испытаниях больших ракетных двигателей, таких как «Атлас» и «Навахо», неудачи представляли по телевидению как страшные провалы. Между тем речь ведь вовсе не шла об основных, базовых двигателях. Ракетные двигатели, применяемые в проекте «Х-1» и во всех последующих проектах серии «X», использовали те же самые базовые силовые установки, то же самое топливо – жидкий кислород, – что и «Атлас», «Юпитер» и другие ракеты НАСА. Так что ракеты серии «X» неизбежно должны были взрываться на экспериментальной стадии однако в конце концов они стали бы вполне надежными. Не было случаев, чтобы ракетный двигатель взорвался под пилотом в полете, за исключением одного. Скип Зиглер погиб, когда его Х-2, еще прикрепленный к самолету-носителю В-50, взорвался. Пилотам, пережившим трудные времена в Пакс-Ривер или Эдвардсе, трудно было представить больший риск, чем при испытаниях реактивных истребителей серии «Сенчури». Достаточно просто подумать о таких зверюгах, как F-102, или F-104, или F-105…
Когда Пит рассказал о проекте «Меркурий» Джейн, жена обрадовалась. Она была двумя руками за! Если он хочет стать астронавтом, то должен добиться этого всеми средствами. Мысль, о том, что Пит полетит в ракете H АСА, не приводила ее в ужас. Наоборот. Хотя Джейн никогда не признавалась Питу, ей казалось, что это будет лучше, безопаснее и естественнее для него, чем продолжать испытывать высокотехнологичные реактивные истребители для флота. По крайней мере, на время обучения он оторвется от всего этого. Ведь космические полеты вряд ли опаснее, чем ежедневные испытания в Пакс-Ривер. А кто видел больше похорон, чем жены пилотов из группы № 20?
Альбукерке, где находилась Лавлейс-клиник, был грязным городком с глинобитными хижинами в высокогорной пустыне. Местечко это трудно назвать очаровательным, хотя черты мексиканской культуры чувствовались повсюду. Но профессиональные военные привыкли к непритязательному жилищу. Именно такие места в Америке они, особенно летчики, и населяли. Нет, всех раздражал вовсе не Лавлейс. Это была новая частная диагностическая клиника, которая, помимо прочего, проводила для правительства исследования по авиационной и космической медицине. Лавлейс-клиник основал Рэндольф Лавлейс II, служивший вместе с Кроссфилдом и Фликингером в комитете по подготовке к космическим полетам. Медперсоналом клиники руководил недавно вышедший в отставку генерал медицинской службы военно-воздушных сил, доктор А. X. Швихтенберг. Для всех в Лавлейсе он был просто генерал Швихтенберг. Работа велась очень серьезно. Здесь проверяли физическое состояниекандидатов в астронавты, после чего их отправляли на военно-воздушную базу Райт-Паттерсон в Дейтоне для психологического тестирования и испытаний в условиях стресса. Все держалось в строжайшей тайне. Конрад прибыл в Лавлейс-клиник в составе группы из шести человек – опять-таки все в плохо сидящих штатских костюмах и с ужасными часами: видимо, таким образом пилоты намеревались смешаться со штатскими пациентами клиники. Их предупредили, что испытания в Лавлейсе и Райт-Паттерсоне будут гораздо более напряженными и серьезными, чем все, которые им доводилось проходить раньше. Однако вовсе не поэтому каждый уважающий себя «летучий жокей» сразу же начинал ненавидеть Лавлейс.
Военные пилоты были закаленными ветеранами медкомиссий, но в дополнение ко всем обычным составляющим полного медицинского осмотра врачи в Лавлейс-клиник изобрели целую серию новых тестов с ремнями. трубками, шлангами и иглами. Они обвязывали вам голову ремнем, прикрепляли поверх глаз какой-то инструмент, а затем засовывали в ухо шланг и накачивали в ушной канал холодную воду. От этого глаза просто вылезали на лоб. Не от боли, просто это было противно и непонятно. Если вы хотели узнать, для чего все это нужно, то доктора в безукоризненно белых халатах говорили: «А зачем вам это знать?»
Но после одного такого теста Конрад почувствовал что-то странное. Его привели в комнату и привязали ему руку ладонью вверх. Затем принесли страшную иглу, подключенную к электропроводу. Конрад вообще не любил иголок, а эта выглядела просто чудовищно. Иглу ввели в мышцу у основания большого пальца. Было чертовски больно. Конрад попытался спросить взглядом: что, черт побери, происходит? Но на него никто даже не взглянул. Все смотрели только на прибор. Провод от иглы вел к какому-то устройству вроде дверного звонка. Врачи нажали на зуммер. Конрад взглянул вниз, и тут его рука – его собственная рука! – начала сжиматься в кулак и разжиматься, сжиматься и разжиматься с огромной скоростью, быстрее, чем ему казалось возможным. Ничто – ни мозг, ни центральная нервная система – не могло остановить или хотя бы замедлить движение. Люди в белых халатах и с рефлекторами на головах провели за этим занятием чертовски много времени… Его рука… Они считывали показания прибора и что-то быстро чиркали на своих планшетах.
Потом Конрад спросил:
– А зачем все это?
Врач рассеянно взглянул на него, словно Конрад прервал течение важной мысли.
– Боюсь, мне будет непросто это объяснить, – сказал он наконец. – Вам не о чем беспокоиться.
И тут до Конрада стало доходить. Сначала это было лишь неясное чувство, но затем оно сформировалось в мысль: «Мы – подопытные кролики».
Да, именно так. Белые халаты вручили каждому по пробирке для анализа спермы. Что? Ничего особенного: поместите свою сперму в пробирку. Как? Посредством эякуляции. Что вы хотите этим сказать? Мастурбация, обычная процедура. Лучшие результаты достигаются с помощью фантазий, сопровождаемых мастурбацией с последующей эякуляцией. И где, черт побери? В ванной. Двое парней заявили, что согласны, если с ними пойдет медсестра – помочь, а вдруг заклинит? Белые халаты посмотрели на ребят так, как будто они школьники, ляпнувшие непристойность. Пилоты пришли в ярость, и двое наотрез отказались от процедуры. Но потом сдались, и можно было видеть, как шестеро «летучих жокеев» по очереди идут в нижнем белье в ванную, чтобы потрудиться на пользу Лавлейс-клиник, проекта «Меркурий» и во имя победы Америки в небесах. Эти анализы должны были определить плотность и подвижность спермы. Какое отношение это имеет к полету на ракете – непонятно. Конраду начало казаться, что не только он и его братья – подопытные кролики, – но и сами белые халаты не знают, что происходит. Они каким-то образом получили карт-бланш на проверку любых своих догадок и именно этим занимаются вопреки всякой логике.
Каждый кандидат должен был принести в лабораторию два образца своего стула в походных кружках. Шло время, а Конраду не удавалось получить даже один образец. Но персонал клиники от него никак не отставал. Наконец ему удалось выдавить из себя один-единственный шарик – маленький и твердый, не более трех сантиметров в диаметре и весь в непереваренных семенах. И тут он вспомнил. В первый вечер в Альбукерке он пошел в мексиканский ресторан и съел много перцев халапеньо. Это были семена халапеньо. Конечно, то, что он собирался нести в клинику, представляло собой слишком жалкий объект для исследования. Тогда Конрад обвязал проклятый катышек лентой, сделал бантик, положил в походную кружку и явился в лабораторию. Заинтригованные видом ленты, торчащей над краями кружки, медработники столпились над ней и принялись разглядывать. Конрад разразился своим раскатистым смехом, как Уолли Ширра. Но никто не оценил его шутку. Медперсонал посмотрел на развязанный катышек, а потом на Конрада… как на насекомое на лобовом стекле гоночного автомобиля медицинского прогресса.
В Лавлейсе исследовали также предстательную железу. Конечно, тут не было ничего необычного: это стандартный компонент полного медицинского осмотра мужчин. Врач надевает на палец резиновую втулку, просовывает ее в прямую кишку пациента и ощупывает простату, выискивая признаки опухоли, инфекции и так далее. Но несколько человек из группы Конрада вышли с этого осмотра, с трудом переводя дыхание от боли и называя врача садистом, извращенцем и еще более крепкими словечками. Он давил на простату так сильно, что вызвал кровотечение.
Конрад вошел в кабинет, и врач расширил ему анальное отверстие с такой силой, что летчик от боли упал на колени.
– Черт!
Конрад, пошатываясь, встал, но санитар, огромное чудовище, немедленно схватил его так, что Пит не мог пошевельнуться. Врач взглянул на него небрежно, как ветеринар на лающего пса.
Зондирования кишечника с использованием ректоскопа казались бесконечными. Возможно, потому, что они были унизительными – в анус пациента вводили различные предметы. Да и вообще возникало чувство, что в клинике каждую процедуру старались сделать максимально болезненной. Раньше пилоты не сталкивались ни с чем подобным. Более того, перед каждым зондированием следовало прийти в клинику к семи утра и поставить себе клизму. «Сделай сам!» – похоже было лозунгом Лавлейс-клиник. Итак, Конрад явился в семь утра и поставил себе клизму. В это утро ему предстояло пройти осмотр нижней части желудочно-кишечного тракта. При этой процедуре в кишки закачивают барий, потом в прямую кишку вводится небольшой шланг с воздушным шариком на конце; шарик надувается, чтобы барий не вытек раньше, чем рентгенолог завершит исследование. После зондирования Конрад, как и всякий, кто прошел через это, почувствовал, что восемьдесят пять фунтов бария в его кишках вот-вот взорвутся. Белые халаты сообщили ему, что на этом этаже нет туалета. Ему нужно подобрать конец шланга, торчащий из задницы, и пойти за санитаром, который отведет его в сортир двумя этажами ниже. На шланге есть зажим: его надо снять, чтобы вовремя сдуть шарик. Просто невероятно! Пытаться идти с зарядом взрывчатки, плещущимся в тазовом дне, – настоящая мука. Тем не менее Конрад берет в руки шланг и идет за санитаром. На Конраде только обычная больничная пижама, с разрезом на спине. Шланг, ведущий к этой хреновине с шариком, настолько короток, что приходится сильно горбиться, чтобы нести его перед собой. А задница, как говорится, трепещет на ветру – с торчащей наружу трубкой. На санитаре красные ковбойские сапоги. Конрад особенно отчетливо видит их, потому что он согнулся так сильно, что взгляд его упирается в ноги санитара на уровне икр. Сгорбившись, с трепещущей на ветру задницей он семенит, словно краб, за парой красных ковбойских сапог. Они идут по коридору – ошалевший горбун и красные ковбойские сапоги – мимо мужчин, женщин, детей, медсестер, санитарок… Красные ковбойские сапоги начинают бежать рысью. Санитар не дурак. Он проделывал это и раньше. Он прошел через весь кошмар. Он видел взрывы. Сейчас главное – время! Позади – сгорбившаяся динамитная шашка. Но каждый шаг дается Конраду все труднее. Они спускаются на лифте, полном нормальных людей, а потом проделывают безумное танго еще по одному коридору, в жутком напряжении, прежде чем находят этот проклятый сортир.
В тот же день Конрад снова получил предписание явиться в клинику к семи утра и поставить себе клизму. После этого персонал административного корпуса увидал, как невысокий молодой человек в ярости врывается в кабинет самого генерала Швихтенберга, размахивая, словно кнутом, огромной ярко-алой клизмой.
Клизма шлепнулась на письменный стол генерала. Внутри что-то булькнуло.
– Генерал Швихтенберг, – сказал Конрад, – перед вами человек, который поставил себе последнюю клизму. Если вам нужны клизмы, сами их и ставьте. Возьмите этот мешок, отдайте медсестре, и пусть идет…
– Вы…
– …Выполнять свои обязанности. Это моя последняя клизма. Или все изменится – или я отчаливаю.
Генерал посмотрел на огромную алую клизму, булькавшую на его столе, а затем перевел взгляд на Конрада. Генерал выглядел испуганным… В конце концов, мало хорошего для клиники, если один из кандидатов в астронавты уйдет, поливая грязью проект. Швихтенберг попытался успокоить Конрада.
– Лейтенант, – сказал он, – я понимаю, что это неприятно. Возможно, это самое трудное испытание из всех, через которые вам пришлось пройти в жизни. Но, как вы знаете, это проект высочайшей важности. Для него нужны люди вроде вас. У вас довольно плотное телосложение, а для «Меркурия» каждый лишний фунт может оказаться критическим.
И так далее, и тому подобное. Швихтенберг пытался затушить пожар.
– И все равно, генерал, это моя последняя клизма. Известие о клизменном бунте быстро распространилось среди кандидатов, и все очень обрадовались. Почти всем хотелось устроить нечто подобное. Не то чтобы сами процедуры были неприятны, нет – просто вся атмосфера тестирования казалась им оскорбительной. В ней определенно было что-то… неправильное. Летчики и врачи сделались врагами – по крайней мере, с точки зрения пилотов. Военный врач должен знать свое место. Его задача – лечить пилотов и готовить их к полетам. Следить за их здоровьем. Всегда поощрялось стремление врачей время от времени летать на заднем сиденье, чтобы понять, каким стрессам подвергается летчик Независимо от собственной самооценки, ни один военный врач до сих пор не осмеливался ставить себя выше пилотов эскадрильи и строить из себя эдакую важную птицу, как это делали обычные врачи.
В Лавлейс-клиник, где проходило тестирование для проекта «Меркурий», естественный порядок вещей был вывернут наизнанку. Эти люди, казалось даже не понимали, что имеют дело с пилотами. И добровольцев постепенно стала одолевать мысль: в этом соревновании за звание астронавта их качества летчиков не принимаются в расчет. Нужен всего лишь определенный тип лабораторного животного, чтобы следить с помощью прибора за его реакциями. Это соревнование нельзя выиграть в воздухе – победить можно лишь здесь, на смотровом столе, в царстве резиновых трубок.
Поэтому все очень обрадовались, когда Конрад наконец-то отчитал генерала Швихтенберга. Молодец, Пит! Но лучше, если ты останешься единственным подопытным кроликом-бунтарем.
На военно-воздушной базе Райт-Паттерсон, куда пилоты прибыли на психологическое тестирование и испытания в условиях стресса, атмосфера секретности была даже еще более подчеркнутой, чем в Лавлейсе. В Райт-Паттерсоне они проходили тестирование группами по восемь человек. Их разместили в квартирах холостых офицеров. Если нужно было куда-то позвонить, они не называли себя по имени. На такой случай у каждого имелся свой номер. Конрад был «Номер Семь». Если ему требовалась машина, он звонил в автопарк и говорил: «Это Номер Семь. Мне нужна машина…»
Сначала тестирование показалось им довольно приятным делом. Кандидату вручали кислородную маску и скафандр, помещали его в барокамеру и уменьшали давление, имитируя высоту в шестьдесят пять тысяч футов. От этого все тело словно бы стягивалось ремнями и добровольцу приходилось усиленно выдыхать, чтобы втянуть в легкие свежий кислород. Особенно неприятно было то, что ему не говорили, сколько времени он проведет в установке. Каждого из кандидатов усаживали в небольшую, совершенно темную и звуконепроницаемую комнату без окон – камеру потери чувствительности – и запирали дверь, опять-таки не сказав, сколько времени он там проведет. Оказалось, три часа. Каждого из них заталкивали в огромный аппарат вроде миксера, в котором тело вибрировало с чудовищными амплитудами и бомбардировалось звуками мучительно высокой частоты. Каждого клали на корпус машины, которую прозвали «ящиком идиотов». Это было что-то вроде тренажера. Подавалось четырнадцать разновидностей сигналов, и кандидат должен был отреагировать на них, нажимая нужные кнопки или двигая переключатели. Но лампочки начинали вспыхивать так быстро, что ни один человек на свете не успел бы отреагировать. Наверное, это был тест не только на реакцию, но и на настойчивость или на способность справляться с отчаянием.
В общем, тесты были нормальными. А вот атмосфера вокруг них – не вполне нормальной. Психиатры устраивали в Райт-Паттерсоне настоящие шоу. На каждом шагу здесь попадались психиатры и психологи, которые делали кандидатам замечания и предлагали им разные мелкие тесты. Прежде чем поместить пациента в «миксер», какой-нибудь сотрудник в белом халате показывал ему листок бумаги, приколотый к планшету. На нем были нарисованы пронумерованные точки. Нужно было взять карандаш и соединить точки линиями таким образом, чтобы цифры составили определенные числа. Потом, когда вы выходили из машины, белый халат снова предлагал вам тот же самый тест – наверное, чтобы увидеть, повлияла ли физическая нагрузка на ваши арифметические способности. Но это еще далеко не все. Здесь находились люди, которые постоянно следили за кандидатом и делали пометки в маленьких перекидных блокнотах. При каждом жесте, каждом тике, подергивании мышцы, при каждой улыбке, удивленном или нахмуренном взгляде, всякий раз, когда вы почесывали нос, – всегда рядом оказывался какой-нибудь белый халат и что-то быстро записывал в блокнот.
Одним из самых настойчивых наблюдателей была доктор Глэдис Дж. Лоринг, психолог, как узнал Конрад из приколотого к ее халату бейджика. Глэдис Дж. Лоринг раздражала его особенно сильно. Всякий раз, оборачиваясь, летчик видел, как она молча смотрит на него с полным безразличием белых халатов, словно он лягушка, кролик, крыса, тушканчик, морская свинка или какое-нибудь другое лабораторное животное, и что-то яростно черкает в блокноте. Уже несколько дней подряд психолог наблюдала за ним, а они даже не познакомились. Однажды Конрад посмотрел ей прямо в глаза и сказал:
– Глэдис! Что вы там всё пишете?
Доктор Глэдис Дж. Лоринг взглянула на него, как на ленточного червя. И сделала в блокноте еще одну заметку о поведении этой особи.
«Летучим жокеям» всегда не нравилось, когда вершителями их судеб были врачи. А уж если психологи и психиатры ставят себя выше их – это уже совсем ни на что не похоже! Военные летчики, все до единого, считали психиатрию псевдонаукой и относились к психиатрам как к современной чокнутой разновидности капелланов. Но с этими сморчками можно было справиться. Достаточно лишь пустить в ход чары: зажечь нимб нужной вещии задействовать какую-нибудь полезную ложь.
Во время собеседований, касающихся работы астронавта, как и в других ситуациях, психиатры сосредоточивались на опасностях этого занятия, на неожиданностях, потенциально повышенном риске, а потом оценивали реакцию кандидата. Опытные пилоты знали, что здесь требуется «запасная извилина». Нельзя говорить что-нибудь типа: «О, я люблю рисковать своей шкурой каждый день, потому что тогда чувствую свое превосходство над другими людьми». Психиатры всегда толковали такие высказывания как безрассудную любовь к опасности, как иррациональный импульс, связанный с позднефрейдистским понятием «смертельного желания». Правильный ответ, – а он за эту неделю прозвучал в Райт-Паттерсоне не раз – должен быть таким: «Ну, я не считаю «Меркурий» особенно рискованным предприятием, по крайней мере, по сравнению с обычной испытательской работой, которой я занимался в авиации (во флоте, в морской пехоте). Это проект высочайшего национального значения, поэтому я убежден, что к мерам предосторожности тут будут относиться гораздо серьезнее, чем когда испытывали F– 100F (F-102, F-104, F-4B)». Легкая улыбка, слегка выпученные глаза. Превосходно! Это показывало, что вы – здравомыслящий летчик-испытатель и относитесь к безопасности так же, как любой благоразумный профессионал. В то же время вы намекали, что изо дня в день рисковали своей жизнью, привыкли к этому и обладаете нужной вещью,так что полет на ракете станет для вас просто отдыхом. Так создавался эффект нимба. При откровенных намеках на собственную отчаянную храбрость психиатры смотрели на вас широко раскрытыми глазами, как маленькие мальчики.
Конрад и все остальные знали, как предусмотрительный офицер должен вести себя с этими людьми. Да и трудно было не знать. Каждый вечер ребята собирались и потчевали друг друга историями о том, как они бесстыдной ложью или еще каким-нибудь иным образом разрушали происки сморчков. И Конрад всегда старался добавить пару шуток для ровного счета.
Во время одного из тестов психолог вручал каждому кандидату чистый лист бумаги и просил внимательно рассмотреть его и описать, что на нем видно. В таких тестах не существовало правильных ответов, потому что суть их состояла в том, чтобы подвести кандидата к свободным ассоциациям и понаблюдать, где блуждает его сознание. Опытные пилоты знали, что в этом деле главное – оставаться на суше, а не пускаться в плавание. Некоторые потом с радостью рассказывали, что, рассмотрев лист бумаги, взглянули в глаза психологу и объявили, что видят лишь чистый лист. Но это был неправильный ответ, потому что сморчки наверняка делали пометку о «подавленной способности к воображению» или еще о чем-нибудь в том же духе, правда, из-за этого не стоило беспокоиться. Один астронавт сказал, что видит заснеженное поле. Что ж, можно было отвечать и так, но не заходить при этом дальше, то есть не начинать рассуждать о смерти в мороз, о том, как можно заблудиться в снегах, о встрече с медведями и тому подобных вещах. Но Конрад… Итак, сидящий напротив него за столом человек протягивает Питу лист бумаги, просит рассмотреть его и сказать, что Пит на нем видит. Конрад внимательно разглядывает листок, потом смотрит на человека и говорит подозрительным тоном, словно опасаясь подвоха:
– Но ведь онперевернут вверх ногами.
Психолога это настолько поражает, что он перегибается через стол и смотрит на абсолютно чистый лист, чтобы понять, так ли это, и лишь потом осознает, что над ним издеваются. Врач смотрит на Конрада и улыбается ледяной улыбкой.
Конечно, это не позволяло достичь эффекта нимба.
В другом тесте кандидатам показывали картины, изображавшие людей в различных ситуациях, и просили сочинить истории об этих людях. Картина, которая досталась Конраду, была выполнена в духе американского реализма: сцена из жизни странствующих сельскохозяйственных рабочих, вероятно, времен Великой Депрессии. На ней был изображен несчастный изможденный издольщик в комбинезоне, пытавшийся пахать ржавым плугом выветренную землю – скорее, какой-то овраг, а не пашню. Плуг тянул тощий мул с торчащими ребрами, а сбоку стояла жена издольщика – женщина с желтоватым цветом лица, ввалившимися глазами, изъеденная пеллагрой, с огромным животом (не меньше чем восьмой месяц беременности), в платье из мешковины. Она наклонилась в сторону, пытаясь опереться о стену лачуги, видимо, чтобы перевести дыхание. Конрад посмотрел на картину и сказал:
– Похоже, этот человек любит природу. Он не только пашет землю, но и любуется пейзажем – это видно по тому, как он смотрит на горы: чтобы увидеть, как бледно-голубая горная цепь вдали гармонирует с пурпурной дымкой над холмами возле его любимой усадьбы… – и так далее, и тому подобное, пока наконец до психолога не дошло, что этот коренастый умник с дырочкой между передними зубами просто посылает его вместе с тестом… подальше.
Это, конечно, тоже не произвело эффекта нимба.
Да, для Конрада теперь начались веселые времена. Но у него осталось одно незаконченное дело. И в тот же вечер он позвонил в автопарк:
– Это Номер Семь. Мне нужна машина – съездить в лавку.
На следующий день, после теста в тепловой камере, когда он провел три часа в нагретой почти до пятидесяти градусов комнате, Конрад вытер пот с кончика носа, поднял глаза – и, конечно же, рядом стояла доктор Глэдис Дж. Лоринг и делала заметки в перекидном блокноте шариковой авторучкой. Конрад полез в карман брюк и вытащил точно такой же перекидной блокнот и точно такую же авторучку.
– Глэдис! – сказал он.
Психолог взглянула на него и застыла в изумлении. Конрад что-то быстро записал в блокноте, а потом опять посмотрел на нее:
– Ага! Вы дотронулись до уха, Глэдис! Мы называем это «сдерживанием эксгибиционизма»! – Еще один росчерк в блокноте. – О-о! Вы опустили глаза, Глэдис! Подавленная гипертрофия латентности! Извините, но это нужно записать.
Весть о том, что ленточный червь вывернулся наизнанку… что подопытный кролик взбунтовался… что собака Павлова сама позвонила в его звонок и сделала об этом заметку… – эта весть разнеслась очень быстро, и все, от Номера Один до Номера Восемь, были очень рады. Правда, доктор Глэдис Лоринг ничуть не смутилась.
Когда Скотт Карпентер звонил по вечерам из Райт-Паттерсона домой, в Калифорнию, – а он всегда делал это вечером, чтобы меньше платить, – его жена Рене обычно сидела в гостиной. У них был дом в Гарден-Гроув – городке возле Диснейленда. В гостиной перед раздвижной софой стояли каплевидный кофейный столик из самана и два самановых откидных столика по бокам. Этим трем безвкусным кускам дерева с желтовато-коричневыми прожилками придавалось огромное значение. В 1959 году саманом увлекались все офицеры военно-морского флота и их жены.
Скотт был лейтенантом. Это означало, что его жалованье, включая пособия на жилье и питание, составляло всего около 7200 долларов в год, плюс небольшая дополнительная надбавка за полеты. Конечно, юные офицеры и их жены с самого начала понимали, что низкое жалованье – это одна из реалий служебной карьеры. Но существовало несколько видов компенсации: возможность летать, что очень нравилось Скотту; общество членов эскадрильи (когда было настроение общаться); что ты работаешь по призванию и занимаешься делом, недоступным штатским, и, наконец, дополнительные доходы, такие как надбавки за полеты, пособие на жилье и различные привилегии. При столь низком жалованье привилегии эти, не представлявшие, на первый взгляд, ничего особенного, приобретали чрезмерную важность. Вот почему гостиные молодых семейных офицеров в конце пятидесятых были забиты самой что ни на есть причудливой мебелью. Здесь стояли китайские столики «чань», на крышках которых были вырезаны сценки из деревенской жизни; полчища турецких стульев с высокими спинками, которые могли занять целый танцевальный зал; корейские диваны с деревянным корпусом, так ярко инкрустированные перламутром, что, казалось, вся комната щерится в отвратительной ухмылке; испанские шифоньеры – такие огромные и мрачные, что при одном взгляде на них разговор обрывался; и, наконец, цветистый саман. Ибо одной из привилегий была возможность по дешевке покупать деревянную мебель ручной работы в отдаленных уголках планеты, куда офицеров посылали с заданием. Наконец-то они могли обставить свои дома! – и военные привозили мебель в Штаты беспошлинно. Конечно, выбор был ограничен местными вкусами. В Корее, например, принято было покупать перламутр или китайское барокко. А на Гавайях, куда направили Скотта с женой, повсюду встречался саман.
В гавайском супермаркете первоклассный кофейный столик из самана стоил примерно сто пятьдесят долларов. Вообще-то недорого. Но если вам платят 7200 долларов в год, то есть только сорок восемь таких сумм… А у Скотта и Рене было четверо детей! Однако необработанные плиты этого изумительного дерева с ярко-желтыми прожилками продавались всего за девять долларов. Если вы готовы были потратить двадцать четыре часа на их шлифовку, полировку, натирку песком и маслом и еще десять-двадцать часов на сооружение ножек и корпуса, то вполне могли сэкономить сто сорок долларов. К счастью, Рене отличалась художественным вкусом, она могла придавать мебели изящество – а это встречается не так уж часто.
И Скотт, и Рене выросли в Булдере, штат Колорадо. По понятиям этого городка, Скотт принадлежал к высшему обществу. Он происходил из рода первых белых поселенцев штата. Отец его матери, Виктор Ноксон, издавал газету «Майнер джорнэл». Родители Скотта развелись, когда ему было всего три года. Вскоре его мать заболела туберкулезом и была вынуждена надолго уезжать в санатории, так что Скотт жил у дедушки, который, собственно говоря, его и воспитывал. Рене познакомилась со Скоттом в Университете Колорадо и бросила учебу на втором курсе, выйдя за него замуж. Первый год супружеской жизни они почти полностью провелина горных склонах, катаясь на лыжах. Они были необыкновенно красивой парой: оба светловолосые, элегантные, крепкие, веселые – такую парочку можно увидеть разве что на рекламе сигарет «Лаки страйк». Многие жены боевых пилотов лишь беспомощно наблюдали за тем, как мужья все больше и больше отдаляются от них, и говорили с кажущейся беззаботностью: «Я лишь его хозяйка – он женился на самолете». При этом они часто преувеличивали свой статус, потому что настоящей хозяйкой могла быть женщина, о которой жена ничего не знала Скотт, наоборот, был полностью предан Рене, двум своим сыновьям и двум дочерям. Часто по вечерам, во время тестирования для проекта «Меркурий», Скотт писал Рене длинные – по десять-пятнадцать страниц – письма, чтобы не накапливать телефонные счета. Он старался убедить жену, что занимается совершенно безопасным делом. Однажды ночью он написал: «В общем, не беспокойся. Ты знаешь, что для меня главное, и знаешь, что я не стал бы безрассудно рисковать тем, что у нас есть». Он писал также, что собирается прожить как можно дольше, чтобы любить ее и в роли бабушки.
Его чувства были столь глубоки, что однажды, восемь лет назад, Скотт совершил необычайную вещь. Завершив базовую подготовку в Пенсаколе и последующую в Корпусе Кристи, он вызвался летать на многомоторных патрульных самолетах PBY-4, хотя терпеть их не мог. И не только он. Это были большие, медлительные, неуклюжие грузовые машины. И все же Скотт сделал шаг вниз, с этой первой высокой точки огромного зиккурата. Если его спрашивали, он отвечал, что сделал это ради семьи, ведь из-за патрульных самолетов вдовами становилось не так уж много женщин. Вскоре началась корейская война. Скотт летал вдоль тихоокеанского побережья на патрульных самолетах P2V. Тем самым он отрезал себе путь в «высшую лигу», поскольку каждый истинный авиатор хотел записаться в эскадрилью истребителей и сражаться в небе над Северной Кореей. Но разведка тоже была рискованным и трудным делом, а Скотт считался очень опытным в ней: настолько опытным, что после окончания войны его направили в Патьюксент-Ривер – обучаться на летчика-испытателя.