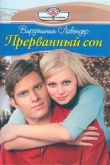Текст книги "Тощие ножки и не только"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 34 страниц)
Девчонка к этому времени уже сбросила с себя все, если не считать небольшого пурпурного платка, скрывавшего ей лицо. Ситуация явно попахивала чем-то противозаконным, но Абу и Спайк уже махнули на все рукой. Как бы то ни было, детектив Шафто вряд ли станет ее арестовывать. В некотором роде он сам надел на себя наручники. Никто даже не пошевельнулся, и помимо визгливых звуков оркестра и уханья барабана тишину в зале нарушало разве что прерывистое дыхание самой Саломеи. Она танцевала уже более двух часов подряд и была на грани полного изнеможения. Движения ее стали заметно медленнее, утратили стремительность. Теперь Саломея уже не кружилась волчком, а вращалась задумчиво и плавно, хотя это ничуть не сказывалось на впечатлении, которое производил ее танец, – казалось, девушка танцует по колено во фруктовой мякоти, или это злой чародей набросил на нее оковы; зрители следили за каждым ее движением затаив дыхание, отчаявшись ей помочь.
Чуть раньше – вернее, несколькими часами раньше, – Эллен Черри решила, что ей стоит испытать на Саломее зрительную игру, однако в конце концов передумала, потому что это то же самое что попробовать пририсовать Моне Лизе вторую улыбку. Она была бы не в силах контролировать себя, даже если бы очень того захотела. Ум ее оставался спокоен, хотя и кипел бурной деятельностью. Казалось, Саломея крепко сжимает его своими потными пальчиками – точно так же, как она сжимала бубен.
Когда с лица девушки наконец слетело последнее, седьмое по счету покрывало, со стороны могло показаться, будто это она слегка приоткрыла рот и выдохнула в зал мотылька размером с птицу. Первое, что при этом подумала Эллен Черри, было: «Как она хороша». Вторая ее мысль: «Каждый должен понять все сам».
Да, именно так. Правительство вам ничем не поможет, сколько бы налогов вы ни платили, сколько бы голосов ни купила ваша партия. Этому не учат в колледже. Более того, колледжи обычно предпочитают делать вид, что проблемы просто не существует. Церковь в отличие от колледжей пыжится, пытаясь думать за вас, лишь бы вы не утруждали себя размышлениями. Они только рады выдать вам ответ – гладкий, простой и ясный, как тот гороскоп в ежедневной газете, но, увы, бесполезный, потому что такой же пустой и умозрительный. Великие книги, полотна и музыкальные произведения могли что-то подсказать, чем-то помочь по части вдохновения; природа, пожалуй, еще в большей степени. Ценные подсказки то и дело слетали с уст философов, духовных наставников, гуру, шаманов, цыганок-прорицательниц в цирке, полубезумных бродяг на улице. Но это были лишь подсказки. Никто, даже самый мудрый из всех мудрецов, не сделает за вас то, что способны сделать только вы и никто другой. И если это настоящий мудрец, то именно это он вам и скажет. Как ничего не сделает за вас и некая болтливая бестелесная сила, которая якобы поступает откуда-то из потустороннего мира. (Надеюсь, вы не забыли, что мертвые смеются над нами.) Не научишься этому и на коленях у матери.
Иллюзия седьмого покрывала – это иллюзия, что кто-то другой может что-то за вас сделать. Думать за вас. Взойти вместо вас на крест. Священники, раввины, имамы, свами, романисты-философы – в лучшем случае все они нечто вроде дорожной полиции. То есть при необходимости они помогут вам проехать оживленный перекресток, но никогда не поедут следом за вами, дабы убедиться, что вы благополучно добрались до дома, не припаркуют за– вас вашу машину.
Есть ли для людей более трудный урок? Какой другой парадокс труднее принять, чем этот? Хотя великие чувства, великие истины универсальны, хотя всечеловеческий разум в конечном итоге един, все равно любой отдельно взятый человек вынужден устанавливать свои личные, уникальные, ни на что не похожие, непосредственные отношения с внешним миром, со Вселенной, с Божественным. Разумеется, это непросто. Более того, подчас чертовски непросто. И что самое главное, это весьма одинокое занятие – но в том-то и дело, что иначе и быть не может.
Для каждого из нас это происходит по-своему, и каждый человек – единственный хозяин собственной жизни, хозяин собственной смерти. Он сам создает свое собственное спасение. И когда вы пройдете свой путь до конца, вам незачем звать Мессию. Он сам позовет вас.
Ну что ж, подумала Эллен Черри, кажется, я все поняла. Только подождите минутку. Неужели это все? Наверное, все-таки должно быть что-то еще, верно? Что-то ведь должно быть и еще.
Танец подходил к концу. Саломея сделала последний страстный пируэт, громко стукнула обеими босыми пятками по полу, после чего замерла на месте. Она стояла, повернувшись к публике, но не глядя на нее. Глаза ее были опущены, изо рта вырывалось частое дыхание, грудь высоко вздымалась от огромной физической нагрузки, ноги подкашивались – казалось, она вот-вот рухнет в изнеможении. Странно, но никто, даже сопровождавшая ее матрона, не сделали попытки поддержать девушку или прикрыть ее наготу. В комнате воцарилась тишина; все как завороженные не сводили глаз с юной танцовщицы.
Состояние Эллен Черри было не намного лучше состояния Саломеи. Она раскраснелась, слегка дрожала и пребывала в каком-то легком трансе. Словно одновременно находилась и в зале, и вне его. Мысли ее беспрестанно кружились над танцполом идей. Эллен Черри нутром догадывалась, что, как только упадет последнее из покрывал, взорам присутствующих откроется некая великая, всеобъемлющая тайна, и, чтобы получше рассмотреть очертания этой Тайны, ей следовало бы прищуриться. Поэтому она и прищурилась, разглядывая юную Саломею, которая продолжала стоять на том же месте, вся дрожа и тяжело дыша, одетая в ангельские кружева из капелек пота. И тогда Эллен Черри подумала: «Ну давай! Что там у тебя осталось? Живо говори, ведь должно же быть что-то еще».
И внутренний голос произнес:
– Мы творцы.
Кто? Чего?
– Мы. Все вместе. Мы все творим сами. Мир, вселенную, жизнь, реальность. Особенно реальность.
Мы все творим сами?
– Мы все творим сами. Мы все сотворили сами. Мы все сотворим сами. Мы все творили сами. Я творю. Ты творишь. Он, она, оно – все творят.
Ну хорошо, я – художница, я могу принять это. Теоретически. Но как мне применить все это в моей повседневной жизни?
– Тебе придется придумать как…
Значит, все придется самой. Одну секунду, погоди, не исчезай! Ты хотя бы можешь напоследок дать мне совет?
– А тебе нужен еще и совет? (усомнился внутренний голос)
Да, пожалуйста. Небольшой. Хотя бы самый маленький практический совет.
– Ну хорошо. Фишка тут вот в чем: не упускай из виду мяч. Даже когда ты мяча не видишь.
Хватит прикалываться, подумала Эллен Черри Чарльз.
Эллен Черри направилась к выходу. Ей требовалось выйти наружу, и как можно быстрее. Все, что она узнала, казалось ей совершенно естественным, столь же естественным, что и грезы наяву, или озарения, или зрительные игры. Нет, она, конечно, была до известной степени ошеломлена, однако вряд ли напугана или растеряна. Сказать по правде, она пребывала в состоянии, близком к «ух ты!». И все же ей необходимо было сменить место, глотнуть свежего воздуха.
Вместе с ней на улицу вышли еще человек двадцать. И когда Эллен Черри завернула за угол по направлению к Восточной Сорок девятой улице, они последовали ее примеру. И вовсе не потому, что она чем-то привлекла их внимание. Скорее люди пошли за ней, потому что она оказалась во главе группы, которая образовалась сама собой, под воздействием некоего бессознательного импульса.
Эта стайка людей ушла далеко вперед и поэтому не могла слышать того, что происходило в «И+И».
Как раз в тот самый момент, когда вышеназванная стайка сворачивала за угол, Бадди Винклер протолкался сквозь толпу ко входу в ресторан. Когда он оказался внутри и увидел Саломею – она по-прежнему стояла голой (сопровождавшая ее матрона как раз собиралась набросить ей на плечи пальто), – то ринулся к эстраде, едва не сбив с ног Роланда Абу Хади. Последний по какой-то причине стоял на четвереньках, подбирая с пола разбросанные покрывала. «Тварь! Великая любострастница! Блудница вавилонская!» – якобы закричал преподобный Бадди Винклер по свидетельству одного из очевидцев. Другие свидетели происшедшего уверяли, что Винклер просто что-то рычал и брызгал слюной. Все сходились в одном – проповедник набросился на девушку и вцепился ей в горло.
Детектив Шафто пристрелил его из пистолета.
В ресторан, размахивая оружием, вбежали два охранника. Они в точности подражали героям боевиков. Саломею подстрелили случайно, Шафто – более или менее намеренно.
Оба – детектив, и танцовщица – получили довольно серьезные ранения, однако и тот и другая остались живы.
Джеки Шафто, после того как снова встал на ноги, уволился из полиции, вышел на пенсию и посвятил себя – хотя и с умеренным успехом – живописи. Как он любил подчеркнуть, в своем творчестве он испытал значительное влияние Эллен Черри Чарльз. А еще Шафто навсегда перестал ходить на футбольные матчи и больше никогда не смотрел их по телевизору.
Как только девушка-танцовщица арабо-израильского происхождения, именовавшая себя Саломеей, научилась дышать самостоятельно, без помощи аппарата «искусственное легкое», родственники быстренько вывезли ее из страны – предположительно в Ливан, это продолжение земли Ханаанской, некогда называвшееся Финикией.
* * *
В вечернем воздухе кружились редкие снежинки размером с почтовую марку. Было не слишком холодно, что в общем-то радовало Эллен Черри, которая поленилась надеть пальто. Проходя мимо собачьего салона красоты Мела Дэвиса, она слегка поежилась, однако причиной тому была вовсе не погода. Если мы творцы всего на свете, думала она, то почему творим салоны красоты для собак? Суши-бары – это еще куда ни шло. Что, кстати, вполне понятно, потому что Эллен Черри и пестрая экзальтированная толпа, что шла за ней по пятам, миновали их несколько десятков, закрытых на выходной день. Казалось, зеленые печурки для приготовления васаби[xi] [xi] Васаби – японское кушанье – паста из зеленой редьки. – Примеч. пер.
[Закрыть] выстроились шеренгой вдоль ночной улицы.
Когда группка приблизилась к Лексингтон-авеню, до их ушей донеслось гудение клаксонов бессчетных автомобилей, что было не вполне обычно для воскресного вечера. Так что не пребывай «пилигримы» в состоянии великого блаженства, кое-кто из них наверняка принял бы звуковые сигналы на свой счет. На обычно сонной в это время суток Парк-авеню гул автомобильных сигналов раздавался еще громче, а на Мэдисон-авеню люди что-то кричали из открытых окон отелей и автомобилей. На подходе к Пятой авеню Эллен Черри остановилась, чтобы разобрать, что же, собственно, кричит народ. Те, что шли за ней, тоже остановились, последовав ее примеру. Удалось различить настоящий гул. Он доносился откуда-то издалека – невнятное пение, радостные возгласы и какой-то ритмичный грохот, как будто на автомобильной стоянке на расстоянии нескольких кварталов отсюда возродился вудстокский фестиваль рок-музыки. Наконец у «пилигримов» появилась конкретная цель. Они пересекли сначала Пятую, потом Шестую авеню и повернули на юг, откуда доносился шум. Во главе по-прежнему шагала, ведя за собой, официантка Эллен Черри.
На Таймс-сквер бушевало ликующее людское море. Вся площадь была запружена тысячами, а возможно, и десятками тысяч людей. Огромная шумная людская масса, подобно обретшему душу холестерину, на протяжении нескольких кварталов во всех направлениях закупорила каждую транспортную артерию. Водители что было сил жали на клаксоны, правда, скорее от злости и раздражения, нежели от радостного воодушевления. Что касается большинства пешеходов, то они, как древние воины, истошно вопили, пританцовывали, подпрыгивали, ритуально ударяли друг друга в ладони и показывали небесам средний палец. Блаженно улыбающиеся юноши всех цветов кожи потягивали пиво из квартовых бутылок, захорошевшие от алкоголя девушки устраивали сеанс блиц-стриптиза, демонстрируя окружающим бюст, как то обычно водится на маскараде Марди-Гра в Новом Орлеане. Кстати сказать, все это здорово напоминало этот самый маскарад, разве что в воздухе порхали снежинки, а на празднующих не было карнавальных масок. Это действительно было шумное празднество – мощное, безудержное, бесшабашное, и ошеломленная стайка тех, что пришли сюда из ресторанчика «Исаак и Исмаил», мгновенно поняли: в эти мгновения на Таймс-сквер празднуется конец иллюзии, разоблачение – в буквальном смысле – великой Тайны, рождение прекрасного нового века.
Даже Эллен Черри на миг подумала, что этот спонтанный выброс неукротимой человеческой энергии вызван к жизни Танцем Семи Покрывал. Однако в следующий миг до нее дошло, что же именно столь бурно и бесшабашно празднует народ. А праздновал он победу Нью-Йорка в финальной игре на Суперкубок.
Работая локтями, Эллен Черри направилась против людского потока, с трудом пробиваясь к выходу с Таймс-сквер, в то время как сотни других людей двигались как раз ей навстречу. В какой-то момент ее движение блокировала группка парней из Нью-Джерси.
Протиснуться сквозь них ей не удалось, и она воспользовалась временной задержкой, чтобы пробежать глазами первые полосы газет в киоске. Одна весьма внушительных размеров статья описывала ситуацию в Иерусалиме. В первом абзаце сообщалось о том, что отряд израильских солдат при помощи бульдозера заживо похоронил под обломками дома с полдесятка молодых арабов с Западного берега (одному из детей было одиннадцать лет), которые, как им показалось, закидали камнями армейские грузовики. Во втором абзаце описывалось то, как в уличном кафе в Иерусалиме пара палестинцев заколола ножами четверых ни в чем не повинных мирных израильских граждан и одного американского туриста. Нанося своим жертвам ножевые удары в живот, сердце и легкие, они кричали: «Аллах Акбар!»
Эллен Черри пришла в ужас от прочитанного и поспешила отвести взгляд. Отвернувшись, она заметила небольшую прогалину в толпе, в которую и поспешила юркнуть. Она толкалась, ее толкали, и вскоре человеческий поток снова вынес ее на Пятую авеню. Здесь она зашагала в северном направлении, где толпа значительно поредела, а гул с каждым шагом звучал все глуше. Когда она добралась до собора Святого Патрика, то была на улице едва ли не единственным пешеходом, хотя Таймс-сквер за ее спиной гудела, как отдаленный водопад попугаев и суповых кастрюль, а каждый второй проезжающий мимо автомобилист от всей души давил ладонью на клаксон.
Возле собора Эллен Черри замедлила шаг. Совершенно неожиданно за решеткой на уровне лодыжек мелькнуло – или ей только показалось, что мелькнуло, – нечто похожее на пурпурный лоскут. Это настолько напомнило ей одно из покрывал Саломеи, которые та роняла на пол, что Эллен Черри решила, что в данную секунду стала жертвой обычной галлюцинации.
«Похоже, теперь они будут мне мерещиться повсюду, – подумала она. Я действительно как под гипнозом».
Она прошла еще несколько ярдов и остановилась на том месте, где когда-то выступал Перевертыш Норман. Намеренно, с максимально возможной точностью, поставила ноги на то место, где обычно стоял он. Затем зажмурилась и попыталась на какую-то долю дюйма повернуться налево. Однако ее, казалось бы, предельно медленное вращение на самом деле было чересчур быстрым и доступным глазу.
– Перевертыш Норман, – произнесла она вслух. – Куда исчезают волшебство и красота, когда их изгоняют из нашего мира?
Возле решетки снова мелькнуло что-то пурпурное. Однако выяснять, что же это такое, у Эллен Черри не было никакого желания. Она продолжала стоять на прежнем месте, чувствуя, что ей на лоб налипла снежная почтовая марка (как будто ее собирались отправить почтой на Юкон), и размышляла о Перевертыше Нормане до тех пор, пока думать стало не о чем. Затем, вспомнив о газетах, которые она только что пробежала глазами, Эллен Черри задумалась: «Почему мы превращаем нашу жизнь в такой же кошмар, какой творится на Ближнем Востоке?»
Танец закончен. Все покрывала Сброшены. Каскад прозрений завершился. Внутренний голос стих, и это было прекрасно, он и так дал ей больше чем достаточно советов, более чем достаточно понимания, более чем достаточно того, что можно было постичь самой. Тем не менее Эллен Черри подумала, что еще когда-нибудь обратится к нему. Стоя на следах Перевертыша Нормана, она снова зажмурилась и принялась мычать что-то невнятное, имитируя музыку, которая весь день наполняла помещение «И+И».
Йе йе йе йе йе
Нина Нина, йе, хей.
Как там дела на Ближнем Востоке? Почему от них все сходят с ума? Почему все это так ужасно? Неужели все это настолько безнадежно? Хотелось бы знать.
Довольна долго Эллен Черри не слышала ничего, кроме звуков беснующейся толпы, праздновавшей победу в футбольном матче. Это не удивляло ее. Она стряхнула с носа снежинку (Антарктика, двадцать два цента). Что, собственно, ей ожидать? Но неожиданно в ее сознании начал оформляться ответ – медленно, органично, подобно пчелам, строящим свои соты.
Задумайся над анатомией Ближнего Востока, сказал ей внутренний голос. Разве не называли его Плодородным Полумесяцем, первобытным чревом, давшим жизнь всему человечеству? Посмотри же на него сегодня, подумай о нем. Из всех мест на нашей планете Ближний Восток – самое лихорадочное, самое жгучее, самое болезненное, самое измученное, самое напряженное, самое кровавое, самое травмированное, растянутое до такой степени, что может порваться в любую секунду. Оно тебе ничего не напоминает? Проблема Ближнего Востока есть не что иное, как нескончаемые родовые схватки. Мир рожает, а Ближний Восток, очевидно, – та самая утроба, из которой, если не произойдет выкидыша, должно родиться новое мироустройство для всего человечества. Роды эти затяжные и трудные, и состояние может ухудшиться прежде, чем будет услышан первый крик, однако за Ближний Восток переживать не стоит: нечто великое, нечто волшебное, нечто совершенно невообразимое нарождается там на свет.
Ты что, прикалываешься надо мной? – спросила Эллен Черри, однако в этот самый момент мимо промчалась машина, битком набитая молодыми громкоголосыми глотками, из которых вырывался счет только что завершившегося матча, и она больше ничего не услышала, как и не произвела на свет никакой другой подходящей мысли.
* * *
Наследующий вечер она вылетела в Иерусалим. Часть расходов ей оплатила Пэтси, часть – Спайк Коэн. Оба благодетеля отвезли ее в аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди и проводили на самолет.
По пути из аэропорта домой сидевшие на заднем сиденье лимузина Пэтси и Спайк влюбились друг в друга. Немного позднее они поженились и перебрались жить в Бруклин-Хайтс, где Пэтси стала брать уроки танца живота и где ее знаменитые белые сапожки удостоились вполне заслуженного внимания.
Сама мысль об этом в один прекрасный день вынудила Эллен Черри расстаться со своим давним пристрастием к хорошей обуви.
* * *
Ржавый металл привлек внимание утреннего солнца – точь-в-точь как брошка с рубином притягивает к себе вожделенные взоры грабителя. Будь Жестянка Бобов человеком, он(а) потянулся(ась) бы и зевнул(а). Над Иерусалимом – городом, который, то в одном состоянии отчаяния, то в другом, повидал на своем веку уже немало самых разных дней, – занимался новый день. Примерно в двух сотнях ярдов западнее Яффских ворот, в груде камней, жестянка с консервированными бобами, или, вернее, то, что от нее осталось, приветствовала новый день проржавевшим, неодушевленным эквивалентом улыбки.
Раковина не сумела уберечь Жестянку от соленых вод Атлантики, и те сделали свое недоброе дело. Процесс окисления обволок поверхность консервной банки подобно тому, как оранжевая варежка обволакивает руку, после чего за дело взялось разложение.
– Я как тот старый усталый бродяга, сидящий возле железнодорожной колеи, – пояснил(а) Жестянка Бобов своей славной спутнице Раковине. – Старый ржавый хлам, ни на что не годный, разве что исполнять на губной гармошке дрянной блюз.
Эта жалоба, конечно же, была в лучшем случае неискренней, в худшем – полностью притворной.
Надежда на то, что сухой и жаркий климат Израиля продлит жизнь Жестянки этак еще как минимум на полгода, не могла изменить печального факта: консервная банка доживала свои последние дни – ржавая, треснутая, мятая, давленая, жиденькая, как бакенбарды козла. И все-таки последнее местообитания пришлось Жестянке Бобов очень даже по вкусу. Дело в том, что Жестянка полюбил(а) – да что там! – проникся(лась) обожанием к статуе Палеса.
Как только оба оказались на родной земле, Раскрашенный Посох и Раковина без особого труда нашли друг друга. Талисманы пригласили Жестянку перебраться вместе с ними к Куполу на Скале, где они теперь тем или иным неофициальным образом устроились в ожидании грядущего строительства Третьего Храма, какую бы форму тот ни принял. Хотя Жестянка Бобов и был искренне благодарен(на) им за участие в его(ее) судьбе, тем не менее приглашение он(а) отклонил(а):
– Я буду тут, поблизости. Какая вам от меня польза? А Мессии, вздумай он или она принять телесный образ, совершенно не нужен под ногами ржавый хлам вроде меня. Да и вообще мне здесь, на площади, очень нравится. Вы только посмотрите на эту статую! Как она игрива, как причудлива, как полна жизни! А главное, она двуполая! Настоящий бисексуал! Этот осел побил все рекорды. Это мой иерусалимский храм!
Солнце поднималось все выше и выше над самым почитаемым, самым кровавым городом мира. В Иерусалиме солнце чувствовало себя как дома. Здесь у солнца были некие связи. И хотя Жестянка Бобов проделал(а) долгий путь через всю Атлантику, он(а) тоже чувствовал (а) себя здесь, как дома. Жестянка сидел(а) на камнях, как то и полагается неодушевленному предмету, – наслаждался-(ась) солнечным теплом, восхищался(ась) Палесом, наблюдал за людьми, пришедшими сфотографировать андрогинного осла или ткнуть в него пальцем. Надо сказать, что кое-кто делал это с явным возмущением.
Примерно в это же самое время Жестянка увидел Бумера Петуэя. Он(а) заметил(а) его не потому, что ему(ей) вспомнилось их совместное путешествие в индейкомобиле – тем более что сейчас Бумер был загримирован, и в нем едва ли можно было узнать того парня, который, основательно и немного комично отведав жены, бросил Жестянку на произвол судьбы в пещере, – а скорее обратил(а) внимание на его походку.
– Ну разве не странно, – сказал(а) он(а) своей сиделке и компаньонке, – каждое утро примерно в одно и то же время сюда приходят и бродят вокруг памятника самые разные люди, а вот походка у них совершенно одинаковая. Чудеса, да и только! Где еще такое бывает?
Эллен Черри Иерусалим показался довольно обычным местом. Там, где она сидела – в разросшемся саду вокруг небольшого каменного домика, который Бумер делил с Амосом Зифом, – векторы культов Смерти, прошлых или нынешних, ее не достигали. Для февраля солнце грело довольно сильно, приятно будоража кровь. Свет же был просто невероятно прозрачен. Из поросшего травой дворика открывался вид на поле розмарина и чертополоха. Медуница самым что ни на есть бюрократическим образом оплела кусты персидской сирени и искривленные стволики сосен. Птицы своим жизнерадостным чириканьем доносили до ее слуха послания куда более древние, чем пророчества, куда более древние, чем туризм, и даже мохнатые черные сороконожки, ползавшие по осыпающейся каменной кладке, которой был обнесен сад, казались милейшими созданиями. Эллен Черри потихоньку попивала чай, перелистывала страницы своего мысленного блокнота для эскизов и каждой порой, которую могла открыть, Впитывала древний золотистый свет.
Эллен Черри ожидала возвращения мужа. Каждое утро, после любовных утех и завтрака, Бумер, порывшись в своей шпионской сумке, извлекал оттуда новый маскировочный комплект и отправлялся к площади перед Яффскими воротами Старого города – дабы убедиться в том, что за минувшую ночь никто не взорвал, не осквернил и не подверг официальному запрету его детище.
– С самого момента открытия монумента – а оно состоялось двумя неделями ранее – творение Бумеровых рук вызвало настоящую волну негодования. Негативную реакцию вызвала главным образом двойственная половая принадлежность статуи (к тому же демонстративно выставленная напоказ!), однако многих оскорбила и покоробила «национальная» принадлежность памятника, сочетавшего как арабские, так и еврейские черты. Тем Не менее лишь немногие из членов правительства (да и прочей публики) уловили то, что напоминающее осла существо – это древнее, общее как для арабов, так и для евреев божество. И все потому, что лишь немногим из них в свое время доводилось слышать от учителей, что их древняя, растерзанная распрями и столь любимая страна была названа – удачно или нет, судить не нам, – в честь этого несуразного повелителя ослов, в честь этой уродливой императрицы ослиц. Когда же эта информация станет всеобщим достоянием, то либо сердца иерусалимцев должны смягчиться, либо на иерусалимских улицах вновь засвистит фалафель, то есть свинец. Предполагая второй исход, Зиф предпочел от греха подальше отправиться в долгое путешествие по Франции. Бумера же это не тревожило. Да и что могли с ним сделать? Ему в любом случае было приказано в течение тридцати дней покинуть страну – и все из-за посылки со взрывоопасной армагеддоновской начинкой, которую ему прислал покойный Бадди Винклер.
Несмотря ни на что, Бумер лелеял надежды, что его скульптура останется стоять. Вот почему он каждое утро отправлялся проверить, в каком она состоянии и вообще на месте ли. По возвращении домой ему нравилось, не снимая грима, заняться любовью с Эллен Черри. Она призналась ему, что порой это ужасно ее возбуждает, как, например, в тот раз, когда он переоделся монахиней. А вот сегодня он щеголял в наряде муниципального служащего, и она знала, что пора подвести черту под подобными забавами.
А вообще будущее представлялось неопределенным. Она, вне всяких сомнений, покинет Иерусалим вместе с Бумером, хотя ее по-прежнему терзало любопытство относительно нового миропорядка, который здесь сейчас зарождался. Они с Бумером не раз заводили разговор о том, а не построить ли им дом где-нибудь неподалеку от Сиэтла – этакое сельское жилище со множеством комнат на склоне поросшей лесом горы, – при условии конечно, что им удастся найти такую гору, не ободранную заживо лесоперерабатывающей компанией. Уж там-то она вволю будет заниматься живописью. Она будет рисовать, рисовать и рисовать. Она посвятит себя… тому, что за неимением лучшего слова ей придется назвать Красотой. Нет, она не собирается впадать по этому поводу в сентиментальность или самодовольство. Духовность и чистота ей тоже ни к чему. А еще она не станет ощетиниваться, если над ней будут посмеиваться, если ее творчество не найдет у кого-то понимания. Она не собирается нести Красоту высоко, как знамя, как не будет искать в ней убежища от окружающего мира, как какой-нибудь отшельник в лесной хижине. Красота станет для нее ежедневным занятием.
А пока очень многое предстояло обдумать. Все это открылось ей – кто знает, еще скольким другим людям? – когда Саломея танцевала Танец Семи Покрывал. Быть может, эти откровения потребуют от нее вырасти в самых неожиданных направлениях. И другие могут вырасти подобным же образом. Какой эффект, если подобное все же свершится, этот необычный рост может оказать в Последние Дни на культуру в целом – это мы еще поглядим. А пока есть этот сад в Иерусалиме, залитый солнцем дворик в самом чреве мира, в котором так приятно предаваться размышлениям.
Эллен Черри испытывала блаженное спокойствие и умиротворение. Взлеты-падения на американских горках кончилось. Годы, когда одну неделю казалось, будто паришь в облаках, а в следующую – будто раздавлен грузом жизни, завершились, отлетели, как последние листки отрывного календаря. Причудливые события, которые преследовали ее в Нью-Йорке, превратились в воспоминания и начали постепенно меркнуть. Отныне – Эллен Черри прекрасно ощущала это – ее жизнь обретет стабильность, станет, быть может, размеренной жизнью относительно нормального художника, в которой происходят относительно нормальные события. Эллен Черри вздохнула, как перьевая подушка, взбиваемая рукой старой служанки-норвежки. Затем медленно сделала большой глоток чая.
Через несколько секунд в сад ворвался Бумер. Его было трудно узнать, но это был именно он. В руках у него было нечто такое, что он держал с важным видом, как какой-нибудь подарок. Эллен Черри выразила надежду что это случайно не крысиный хвост.
– Смотри-ка сюда, моя куколка! – едва ли не прокричал создатель Палеса. – Смотри, что я нашел для тебя в куче мусора на краю площади с моей скульптурой! Это ложечка! Старая добрая ложечка! Точно такая, как та, что мы потеряли тогда в пещере! Я хочу сказать, абсолютно такая же!