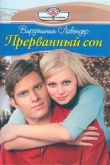Текст книги "Тощие ножки и не только"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Примерно в четыре часа утра Посох, вращаясь подобно пропеллеру, двинулся по старому маршруту в обратном направлении. Немного не дойдя до улицы, называвшейся Сорок девятой, он «услышал» робкий, еле слышный голосок Ложечки-американочки. Она несколько раз окликнула его по имени. Раскрашенный Посох не выказал удивления – не того он типа предмет, – однако Ложечка все же распознала в нем любопытство. Оно сквозило буквально во всех вопросах, которыми ее засыпал древний талисман. Ложечка даже не подозревала, что Посох может быть таким несдержанным.
– Ах, сэр, помогите мне, пожалуйста, добраться до собора! – попросила она своего старого знакомого. – Только ничего не спрашивайте, объяснения займут слишком много времени. Кстати, все остальные тоже здесь? И Жестянка Бобов тоже?
Раскрашенный Посох отправил ее вперед перед собой.
– Ты двигаешься чересчур медленно, тебя легко могут схватить. Советую тебе передвигаться в канаве и с самой большой скоростью, на какую ты только способна. Держись поближе к тротуару и знай, что я буду тебя всегда охранять с фланга.
Вот так они и рискнули отправиться вперед. Ложечка передвигалась мелкими перебежками в водосточной канаве между припаркованными автомобилями и бордюрным камнем. Раскрашенный Посох следовал за ней по мостовой на расстоянии примерно в полквартала, вращаясь с такой быстротой, что сливался в вертящийся круг. Таким образом, он оставался невидим окружающим и при этом старался внимательно следить за перемещением своей спутницы. Такая методика оказалась в данных обстоятельствах вполне разумной, однако проделать большое расстояние им так и не удалось по причине внезапно возникшего кризиса.
Дверь магазинчика с вывеской «Собачий салон красоты Мела Дэвиса» неожиданно распахнулась, и на улицу выскочил какой-то детина в футболке и джинсах. В руках он держал огромную охапку собачьих ошейников. Часть из них была инкрустирована бриллиантами, часть рубинами, сверкавшими в свете уличного фонаря кроваво-красным цветом – точно таким, как и следы инъекций у него на руках. Грабитель бросился к тротуару, явно собираясь заскочить в автомашину, в которой его поджидал сообщник, но тут заметил пробегавшую мимо Ложечку. Он инстинктивно остановился, чтобы получше разглядеть привлекшую его внимание диковинку, полагая скорее всего, что это какая-нибудь дорогая игрушка с дистанционным управлением. Ложечка продолжала двигаться вперед. Ворюга в футболке попытался преградить беглянке дорогу, придавив ее ногой. Грязная потрепанная кроссовка уже нависла над бедной Ложечкой, грозя через долю секунды припечатать несчастную беглянку к мостовой, но тут на помощь пришел Раскрашенный Посох. Он с силой нанес грабителю удар в пах, а когда тот от боли согнулся пополам, ткнул одним своим концом в глаза. Грабитель полетел в канаву. Сверкая драгоценными камнями, собачьи ошейники разлетелись во все стороны, как побрякушки с мумии фараона.
Никогда прежде Раскрашенный Посох не нападал на людей. Ни один неодушевленный предмет, насколько ему было известно, случайно ли, намеренно ли, не нападал на человека. У Посоха возникло ощущение, будто он совершил тяжкий грех – нарушил основной закон, вторгся в запретные для него пределы, и содеянное может возыметь самые серьезные последствия. Что, если его поступок станет прецедентом для подобного рода действий в дальнейшем? Что, если он неким образом разорвал ткань миропорядка? Терзаясь сомнениями и раскаянием, Посох размышлял над этической стороной своего опрометчивого поступка, пока внезапно не ощутил, что содеянное придало ему сил. Он словно прозрел и понял: никто и ничто не в силах помешать его замыслу – отвести своих друзей к морю.
Потрясенный до глубины естества, но тем не менее уверенный в своей правоте, Посох и истерически дрожащая Ложечка продолжили свой путь по Восточной Сорок девятой улице. И хотя переход через Лексингтон-авеню оказался непрост – более того, полон опасностей, – они успели добраться до собора Святого Патрика еще до рассвета.
* * *
…Он избавит тебя от сети ловца,
От гибельной язвы,
Перьями Своими осенит тебя,
И под крыльями Его будешь безопасен…
Девяносто первый псалом был длинным и исполненным драматизма. Спайк Коэн читал его с задумчивой величавостью. Эллен Черри поймала себя на мысли о том, как бы мощно выдул его саксофон Бадди Винклера. Однако уже на третьей строфе она перестала об этом думать. Быть может, виной тому ром, а может статься, поздний час, но Эллен Черри незаметно для себя самой предалась своим излюбленным зрительным играм, мысленно смешивая рисунок и оттенки на одежде Спайка (на нем был салатовой расцветки джемпер с вырезом в виде буквы V, рубашка в белый и фиолетовый горошек, сливово-оливкового цвета клетчатый костюм), пока они не начали сменять друг друга с калейдоскопической быстротой. Погрузившись в зрительную игру, Эллен Черри вспомнила, как играла в нее в предыдущий раз. Тогда она рассматривала Ложечку, и это позволило ей разглядеть иной уровень бытия, некий иной слой, который скрывается за воспринимаемой реальностью. Обретенный ею в ходе этого опыт произвел на нее неизгладимое впечатление, и теперь Эллен Черри догадывалась, что на самом деле мир гораздо шире, чем кажется. Но одновременно он был и более внутренним, более личным.
В целом рассмотрение Ложечки подарило ей новый, только ей известный взгляд на мир, вне обыденного порядка вещей. Это было что-то вроде Перевертыша Нормана, только гораздо более сокровенное.
Спайк около четверти часа проникновенно заверял ее, что существует простое и рациональное объяснение появлению и исчезновению Ложечки, и то, что сегодня кажется таинственным и мистическим, в один прекрасный день станет привычным и земным. Но в таком случае, подумала Эллен Черри, она будет чувствовать себя обманутой. Разве в жизни не хватает в избытке скучного, обыденного, рутинного, ординарного, банального? Может, ей следует радоваться, быть благодарной за это вторжение в ее жизнь неожиданного и необъяснимого? И если она никогда не узнает разгадки, что ж, тем лучше. Изумление, шок от чего-то экстраординарного, пусть даже воплощенные в столь малом происшествии, как таинственное исчезновение Ложечки, могли стать для нее неким душевным тоником, лечебным сиропом, исцеляющим от обыденности. Эллен Черри даже поймала себя на мыслио том, что с удовольствием прописала бы дозу такого лекарства – и к черту побочные эффекты! – каждому, кого знала.
…долготой дней насыщу его
и явлю ему спасение Мое.
Закончив читать, Спайк оторвал взгляд от страницы и увидел, что, подобно тому, как цыпленок переходит дорогу, лицо Эллен Черри перешла улыбка; правда, улыбка эта напоминала не столько цыпленка, сколько красные подтяжки пожарника.
– Охо-хо! – вздохнул он. – Похоже, что какого-то диббука я из тебя все-таки изгнал. Я разве не сказал тебе, какой это замечательный псалом? – Спайк допил остатки рома из своего бокала. – И искусственный шофар, который я захватил с собой, тоже пришелся кстати, верно?
Эллен Черри испросила совета у своего бокала и хихикнула.
– Значит, ты все-таки немного расслабилась, верно? Теперь ты можешь спать спокойно. Вот увидишь, вместо всяких там бродячих серебряных ложек тебе приснятся приятные вещи. А эта ложечка, она кошерная или какая? – Спайк поднялся с кресла, как будто собирался уходить, и оглядел комнату. – Надеюсь, когда-нибудь ты покажешь мне эти картины, которые какой-то гониф тайком переставляет в твоей квартире.
– Обязательно. Когда-нибудь обязательно покажу. – Эллен Черри почувствовала себя чуточку виноватой, что не показала Спайку картины с изображением Ложечки. Ведь они, что ни говори, неким образом, связаны с ее, Ложечки, исчезновением.
Плотнее закутавшись в кимоно, Эллен Черри тоже поднялась с места.
– Хотя зачем же откладывать, прямо сейчас и покажу, – сказала она. – Только не картины, а кое-что из обуви, одни замечательные туфельки? Хорошо?
– Туфельки? – невинно переспросил Спайк, как будто тема обуви была ему абсолютно безразлична.
– Угу. На работе я всегда ношу туфли на плоской подошве, так что вы вряд ли когда видели мои самые отпадные, выходные каблучки. То есть я не хочу сказать, что у меня их много, до Имельды[ix] [ix] Имельда Маркос (р. 1929) – жена бывшего филиппинского президента Фердинанда Маркоса (1917–1987), известная своей огромной коллекцией обуви.
[Закрыть] мне пока далеко. Но у меня найдутся три-четыре пары, которые точно разорили бы казну любой банановой республики. Так что пусть ее жители скажут мне спасибо. Например, мои стильные, с розовенькими ленточками лодочки от Кеннета Коула обобрали бы Манилу до нитки всего за час.
Застигнутый врасплох Спайк совершенно не знал, что на это ответить.
– Я помню, когда мы повторно открылись, на тебе были красные туфли от Кассини, – только и смог он сказать. Неожиданно в его тоне и манерах проклюнулась какая-то робость.
– Верно. Эти туфли могут жечь, но не способны грабить. Позвольте я покажу вам пару туфелек – эти уж точно совершенно беспощадны и не берут никаких пленных.
Эллен Черри сделала еще один глоточек рома и скрылась в платяном шкафу спальни. Когда она вынырнула из него, то держала перед собой на вытянутых руках – осторожно, как две Чаши Грааля – пару лодочек. Украшенные помпезными бантами, с вырезанным подъемом, с ремешками-ленточками и каблучками-рюмочками, они, казалось, были сотворены из плода сладострастия и алых внутренностей обезьянки.
– Вот, – произнесла она негромко и без всякого выражения. – Ну разве не эти туфельки носил бы эстроген, будь у эстрогена ножки?
– О, что за шоу! Очень женственные, очень – у меня есть друзья, которые, если быть честным, наверняка сказали бы, что, мол, эти туфельки онгепочкет: безвкусные, чересчур кричащие, вызывающие, миш-мош, но мне они нравятся. – Спайк отступил на пару шагов назад. – Да, я думаю, что они тебе очень идут. Их отличает… впрочем, трудно что-то сказать, когда ты держишь их в руках. Ты не могла бы?… – Спайк на мгновение заколебался, и сразу же стало заметно, что у него пусть слегка, но все-таки участилось дыхание. – Ты не могла бы примерить их?
Эллен Черри снова улыбнулась и пристально посмотрела на своего гостя. У нее были знакомые – хотя в данное время в ее жизни не было настоящих друзей, – которые, будь им известно это комичное слово, наверняка бы сказали, что Спайк и сам несколько онгепочкет. Однако ее творческая натура художника одобрила эту портновскую избыточность, а женская натура не обратила на нее внимания. По-прежнему улыбаясь, Эллен Черри ответила:
– Я сейчас вернусь.
За дверцей шкафа она надела туфельки. И сняла с себя кимоно.
Ее опасения относительно того, что ее шаг выбьет Спайка из колеи, шокирует или даже вызовет у него отвращение, оказались беспочвенными. За последние тридцать лет, с тех пор, как жена оставила его, Спайк ложился в постель только с проститутками, девушками по вызову из Верхнего Вест-Сайда, если быть более точным. Так что когда Эллен Черри появилась на пороге спальни в чем мать родила – голая как сокол, по выражению Пэтси, за исключением туфелек от Кеннета Коула, – он отреагировал самым прямым, предсказуемым и совершенно разумным образом. Ну, нечто неразумное все-таки произошло, однако случилось это чуть позже. В какой-то момент Эллен Черри была совершенно не против продолжения беседы и предварительных любовных игр. Однако никакой необходимости не возникло.
Теми же плавными движениями, которыми он, по словам Абу, подавал теннисный мячик, а затем отбивал подачу противника, Спайк снял с себя одежду до самой последней онгепочкет-мелочи. После чего подвел Эллен Черри к кровати, положил ее, раздвинул ей ноги – на которых все еще оставались розовые туфли-лодочки – и проворно взобрался на нее.
Крики ее первого оргазма огласили комнату едва ли не в следующее мгновение. В ящике гардероба, где хранилось нижнее белье, трусики понимающе захихикали и поддразнили Даруму, который мудро возразил им: «На мохнатой гусенице много капелек росы сверкает».
В небольшой перерыв, который последовал за ее второй кульминацией, пока Спайк с медленной, но ни в коем случае не бесстрастной эффективностью подбрасывал ей в топку топливо, пока она сама, летя с горы наслаждения вниз, изучала свет начинающегося дня, пока этот свет отражался в капельках пота на его двигающихся вверх-вниз лопатках, Эллен Черри испытала легкий укол вины. Принимая во внимание события двух последних лет, это было абсурдно и иррационально. И тем не менее это было так – наверно, ей как женщине-южанке был присущ своего рода условный рефлекс; тот самый, что препятствует выражению истинных эмоций, лишает физическое наслаждение подлинного сияния.
Однако в следующий момент ей вспомнилось, что Ультима в понедельник улетает в Иерусалим, и потому она немедленно возобновила соитие с энтузиазмом и рвением.
Стиснув пальцами ягодицы Спайка, Эллен Черри направила свое тело ему навстречу, но не для того, чтобы он вонзился в нее еще глубже – Спайк и без того погрузился в нее настолько глубоко, что она ощущала волшебный жезл едва ли не языком, – но для того, чтобы подарить ему еще больше себя, подарить ему как можно больше своего женского естества, насколько это вообще позволяет женская анатомия, без всяких оговорок, смущения и стыда. Легкие обоих начали исторгать звуки, похожие на те, что производит огромное морское млекопитающее: стон борьбы с мощным давлением океанской толщи, всасывание нежной мякоти из открытых створок моллюска, шлепанье мокрых плавников, выдыхание влажных, солоноватых паров, ревущий фонтан моби дика.
Вы думаете, Эллен Черри откатилась, когда Спайк выскочил из нее, чтобы кончить ей на ступни? Напротив. Она не только не дрогнула, когда нечто горячее заструилось между большими пальцами ее ног, но вообще не стала упрекать Спайка за то, что он превратил одну из ее шикарных новеньких туфелек в подобие соусника. Нет, Эллен Черри вовремя удовлетворила некое необычное личное пожелание и теперь имела полное право сказать, что симпатяга Спайк Коэн оказался именно тем мужчиной, который содействовал его осуществлению, пусть даже несколько через край.
Эллен Черри проснулась утром, чувствуя, что отныне жизнь ее изменилась. Вне всякого сомнения, все зависело от того, как на это посмотреть. Когда человек принимает более широкое определение реальности, то на воды фортуны набрасывается и более обширная сеть.
И точно, в тот же день, где-то после полудня, вскоре после того, как они со Спайком предприняли еще один дельфиний заплыв, к ней в квартиру поднялся дневной портье с конвертом, который был доставлен посыльным. Внутри оказался чек и записка, начертанная на листке розовой бумаги фиолетовыми чернилами.
«Прошлой ночью – вернее, уже этим утром, – забыла упомянуть о том, что ваша оставшаяся картина продана. На этот раз коллекционеру из Корнинга. Моя дорогая, в провинции вас обожают! Как только я вернусь из этого жуткого Иерусалима, вы просто обязаны принести мне еще одну вашу новую работу».
– Это мы еще посмотрим, малышка Ультима, – сказала Эллен Черри, почесывая попку широким обезьяньим жестом. – Может, принесу, а может, и нет.
Спайк отправился поиграть в теннис с Абу, насвистывая, как волнистый попугай на конопляном поле, а Эллен Черри снова погрузилась в сон о волнах с белыми барашками пены. Очевидно, это были скорее сексуальные, а не созидательные, креативные волны, однако позже она вспомнила, что как раз перед тем, как проснуться, некая кисточка в ее воображении, чтобы слегка ослабить белые тона, добавила мазок неаполитанского желтого (святого покровителя неаполитанских заядлых курильщиков).
Serpent a sonettes. Rattleslang. Culebra de cascabel. Skallerorm. Klappperschlange. Гремучая змея.
Когда Эллен Черри направлялась мимо импровизированной эстрады на кухню, чтобы повесить там свой легкий жакет – она вовсе не собиралась повторять ошибку прошлой ночи и замерзнуть, – то случайно задела ногой бубен Саломеи. Он гулко ухнул и одновременно тоненько звякнул. От неожиданности Эллен Черри инстинктивно подпрыгнула, словно наступила на гремучую змею, что вибрирует хвостом, когда ее что-нибудь потревожит. Абу стал свидетелем этой забавной сценки и рассмеялся вслух.
Serpent a sonettes
Rattelslang
Culebra de cascabel
Skallerorm
Klapperschlange
Гремучая змея
Вместе или по отдельности, но это все равно звучит музыкально. Крошечная поэма.
* * *
По обоюдному согласию Эллен Черри и Спайк решили не афишировать перед окружающими ту новую грань, которую алмазные стеклорезы судьбы нанесли на их отношения. Они старательно избегали обмениваться многозначительными взглядами, не прикасались друг к другу и не улыбались при встрече. Чтобы еще дальше отвести возможные подозрения, Эллен Черри решила в тот вечер как можно больше внимания оказывать Абу, а не Спайку. Столкновение с бубном предоставило ей первую такую возможность. Телефонный звонок матери – вторую.
Поскольку в ее квартире в «Ансонии» телефона по-прежнему не было, родители звонили Эллен Черри на работу, иногда даже еженедельно. Помня о том, что телефон предназначается в первую очередь для посетителей ресторана, они обычно старались звонить рано утром, в самом начале рабочей смены.
– Извини меня, дорогая, но голос у тебя какой-то ясноглазый и пушистый, – сообщила Пэтси.
– В самом деле? – Эллен Черри тотчас расстроилась. Оказывается, ее, как она полагала, тайная радость на самом деле вполне очевидна.
– О Боже, да конечно же, дорогая! Скажи-ка ты мне, неужели старина Бумер вернулся? Я угадала?
– Нет, конечно, мама, нет! С чего это ты взяла?
– Да ни с чего. Мелькнула случайно такая мысль и больше ничего. Просто удивилась, с чего это у тебя такой веселый голос. И не пытайся меня обмануть, старушка Пэтси женским нутром чувствует, тут явно не обошлось без мужчины, – сказала мать и сделала паузу. – Вообще-то я вроде бы как надеялась, что Бумер вернулся. По ряду причин, а не только по одной.
– Это почему же? – спросила Эллен Черри, главным образом для того, чтобы не показаться матери невежливой. Впервые за долгие месяцы стремление перетянуть на свою сторону этого идиота-сварщика перестало быть для нее главнейшим делом жизни.
– Потому, – ответила Пэтси. – Потому, что твой Дядюшка Бадди, хорошо тебе известный, собрался в Иерусалим. Он улетает в понедельник. Дорогая, я подозреваю, что он собирается сделать то, о чем говорил под Рождество. Ну, это самое дело с арабским куполом.
– Можешь не продолжать, мама, я понимаю, о чем ты. Мистер Хади утверждает, что в результате этого может быть развязана Третья мировая война.
– Об этом мне ничего не известно, но Бад сказал твоему папочке, что хочет нанести удар по мечети во время какого-то большого религиозного праздника, который вот-вот наступит. В следующем месяце, что ли. По словам Бада, Храмовая гора будет заполнена молящимися, и его удар получится гораздо более эффективным, чем в любое другое время.
– Что можно расшифровать как «множество людей погибнет или будет сильно изувечено». У меня от этого кровь в жилах закипает.
– Я вовсе не хотела испортить тебе настроение. Знаю-знаю, вы с Бадом давно и много об этом спорили. Я просто вот что подумала: тебе следует каким-то образом вцепиться в Бумера и отговорить его. Готова спорить на что угодно – Бадди наверняка подговаривает его поучаствовать в этом деле.
– Вот уж даже не представляю себе, как Бумера можно на что-то подговорить. Он, может, и туповат, но все равно добрый малый. Не такой он чурбан, каким притворяется.
– Все равно…
– Я над этим подумаю, мам. Очень серьезно подумаю. Как вы там поживаете? Как папа? Что он поделывает, кроме того, что водит дружбу с баптистами-террористами?
– У нас все в порядке. Правда, Верлина по-прежнему беспокоит спина. Он уверяет, что потянул ее прошлым вечером, но я думаю, что это все из-за того, что он слишком много времени проводит перед телевизором, глядя спортивные передачи. Садится скрючившись в кресло, как та овчарка, которая силится выкакать персиковую косточку. Я пытаюсь время от времени заставить его заняться вместе со мной аэробикой, но он лишь фыркает в ответ. Если бы твой папочка увидел, что я делаю упражнения под кассету с Джейн Фондой, представляю, как он распсиховался бы. Верлин говорит, что женская гимнастика – это примерно то же, что и косметика, мол, мы, женщины, делаем это для того, чтобы соблазнять мужчин. Ха! А когда-то я мечтала стать профессиональной танцовщицей, – со вздохом подвела итог Пэтси. – Но потом все мои планы рухнули, – добавила она и снова вздохнула.
– Мама, пожалуйста, не надо. Прошу тебя, не нагоняй на меня тоску.
– Я отказалась от танца, и все потому, что один мужчина любил меня так сильно, что не хотел, чтобы я танцевала. И вот теперь моя дочь отказывается от занятий живописью, потому что некий мужчина… ну хорошо, хорошо, я умокаю. Я действительно не знаю, что заставило тебя бросить живопись.
– Я тоже не знаю.
– …мне очень хотелось бы, чтобы ты снова взялась за краски и кисть.
– Кто знает, может, я еще и возьмусь за них. Кстати, тебе тоже ничто не мешает вернуться к танцам. Нет, я серьезно, мама. Ты вполне могла бы. Тебе всего лишь сорок с небольшим, и ты в хорошей форме. Хотя, конечно, говорят, что танец – это лишь для молодых женщин, но опять-таки это всего лишь чье-то мнение, а не твое. Зрительная игра кое-чему меня научила – кстати, думаю, что и Бумер тоже приложил к этому руку, – либо ты готовишь себе свой собственный салат в отдельной тарелке, либо ешь вместе со всеми остальными из узкого корыта.
– Тогда почему бы тебе не вернуться и не помочь мне в приготовлении салата? В Колониал-Пайнз мы могли бы установить свои собственные правила. Вот было бы здорово. Ты помнишь, как прекрасна Виргиния весной?
Мать и дочь обменялись комментариями относительно погоды, затем Эллен Черри извинилась и закончила разговор. Ей нужно было приступать к служебным обязанностям. Когда они обе повесили трубки, жизнерадостная натура Пэтси снова вынырнула на поверхность. Правда, кое-что все же вызвало у нее некоторое беспокойство: в разговоре дочь снова вернулась к какому-то забавному случаю, связанному с некой серебряной ложечкой.
Эллен Черри шумно распахнула кухонную дверь и заглянула внутрь. С десяток посетителей бара следили по гигантскому телевизору за футбольным матчем с участием «Янки». Ресторанный зал был пуст. Часов до восьми тут, пожалуй, никого не будет. Представление начнется лишь в девять. Эллен Черри закрыла дверь и через всю кухню направилась к раковинам, где Абу колдовал над водопроводным краном.
– Мистер Хади, как вы думаете, люди вроде Бадди Винклера действительно опасны?
Погруженный в сантехнические работы – он хотел завершить ремонт прежде, чем придет некомпетентная посудомойка, – Абу ответил не сразу. Когда же он наконец поднял голову, то произнес следующее:
– Опасен любой человек, который придерживается абсолютных стандартов добра и зла. Причем столь же опасен, как и маньяк, вооруженный заряженным револьвером. Вообще-то любой, кто достиг абсолютных стандартов добра и зла, и есть фанатик, вооруженный заряженным револьвером.
Его внимание снова переключилось на водопроводный кран, который вращался примерно с той же скоростью, что и Перевертыш Норман. Наконец удалось выяснить, что тут не в порядке. Абу выпрямился, чтобы поискать машинное масло.
– Кстати сказать, Набила видела вчера вечером Бадди Винклера по телевизору. Он обращался с призывом к участникам большого ралли республиканской партии в «Мэдисон-сквер-гарден». Если не ошибаюсь, когда его представили собравшимся, он удостоился настоящей овации.
Эллен Черри возмущенно тряхнула своими кудряшками, после чего специально проверила, не упал ли хотя бы один ее волосок на блюдо с фалафелем.
– Представьте себе, что его разоблачили как лидера – одного из лидеров – заговора, имеющего целью уничтожение некоего знаменитого общественного достояния и убийство невинных людей?
– Что?
– Ведь тогда все с негодованием набросились бы на него, верно?
Абу бумажным полотенцем вытер с шейки водопроводного крана капли машинного масла. Смех его прозвучал сухо и жестко. У Эллен Черри он почему-то вызвал ассоциацию с ногтями больших пальцев ног профессионального спортсмена-бегуна.
– Я бы не стал на это рассчитывать, – сказал Абу. – Все зависело бы от многих причин. Если подобное совершено во имя Бога или страны, то нет такого преступления, даже самого отвратительного, которое общественность не могла бы простить.
К девяти часам «И+И» если и не прыгал от радости и не раскачивался, то уж по крайней мере подскакивал, как Бумер Петуэй на своей здоровой ноге. Вернулись многие из тех, кто побывал в ресторане в пятницу вечером, причем некоторые привели с собой своих друзей. И хотя ресторан и не был заполнен до отказа, он тем не менее вместил максимальное количество людей по сравнению с воскресеньем, когда проходил Суперкубок. Причем в помещении царила присущая Суперкубку атмосфера напряженного ожидания.
Когда стрелки часов приблизились к десяти, все мужчины были уже на ногах, как будто в зале ожидалось вбрасывание мяча. Однако ожидали они отнюдь не вбрасывание, а прибытие шестнадцатилетней девушки, которую руководитель ближневосточного оркестра обычно неохотно представлял как Саломею.
Она появилась без всякого предупреждения и с минимумом фанфар. На ней были просвечивающие гаремные шаровары из шифона кричащей расцветки, на которые был надет куда более непрозрачный мета-костюм, состоявший из двух предметов – миниатюрного бюстгальтера и пояса, парчового, расшитого серебром и золотом и усеянного позвякивавшими дисками и цветочками. Сидевший низко на бедрах пояс представлял оптимальную возможность Лицезреть кожу нежного девичьего животика, при том, что пупок ее был замаскирован отдельной парчовой розеткой, этаким колючим каштаном, чьи шипы защищали нечто округлое и сладостное и вместе с тем плодородное, некий месопотамский орешек, еще не давший побегов.
Запястья девушки украшали алебастровые и металлические аэродромы, вмещавшие жужжавшие эскадрильи незримых пчел, лодыжки поблескивали бисером и позвякивали колокольчиками. Шею Саломеи опоясывал небольшой атолл стразов, к которому был подвешен более крупных размеров островок золота.
По мнению Эллен Черри, наряд это был онгепочкет – кричащий, банальный, что называется без изюминки. Однако присутствующим мнение Эллен Черри было совершенно неинтересно, даже Спайку Коэну.
Кроме всего прочего, следует отметить тот факт, что Саломея была босиком.
Ее рост от покрытых лаком ногтей на ногах и до макушки, которую венчали черные кудряшки волос, составлял пять футов три дюйма или пять футов и четыре дюйма. Вообще-то говоря, тело ее было стройным и по-змеиному гибким. Грудки девушки были маленькие и еще не до конца сформировавшиеся, а вот бедра отличались пышностью, таз широк и вполне приспособлен для того, чтобы рожать.
Несмотря на довольно густые брови, на лице Саломеи лежал отпечаток знойной красоты. Своей бледностью оно походило на цветущую ночами лилию; пухлые губки, казалось, были сделаны из мякоти мускусного арбуза. Длинный орлиный нос своим изящным изгибом напоминал завиток маленькой скрипки. На щеках и подбородке соседство тонкой кости с беззаботным детским жирком сочетало в себе грациозность скаковой лошади с выносливостью мула. Огромные влажные карие глаза излучали такое сияние и жар, что могли бы убедить любого химика в том, что шоколад, хотя и не является живым организмом, по меньшей мере – ископаемое топливо.
То, как она держала себя, не в меньшей степени, чем и ее внешность, превращало мужские сердца в беличьи клетки. Впервые оказавшись на сцене, Саломея смотрелась этаким испуганным олененком, пойманным лучами фар мчащегося на полной скорости грузовика. Чувствуя себя крайне смущенно и неуютно, она беспрестанно поправляла волосы, закатывала глаза, нервно сжимала в руке бубен, одергивала пояс и попеременно то неодобрительно оглядывала публику, то сама поеживалась под взглядами присутствующих. Однако эта ее застенчивость и смущение никоим образом не сдерживали свободных движений ее тела, стоило ей только начать свой танец. Со стороны складывалось впечатление, что она – жертва обольщения, девственница, которая, будучи обручена с другим мужчиной, испытывает к своему соблазнителю одно лишь презрение и потому пытается мысленно отгородиться от его ласк, но неожиданно обнаруживает, что, несмотря на внутреннее сопротивление, ее тело радостно откликается на них. Если и существует где-нибудь во вселенной иное явление с более мощной гарантией воспламенения мужского либидо, то его еще не занесли в соответствующие каталоги.
По мнению Эллен Черри, Саломея была всего лишь нескладной маленькой школьницей, которая «трогает свою попку, проверяя, не врезались ли в нее трусы». Но опять-таки окружающим ее мнение было совершенно неинтересно, и уж тем более детективу Шафто, который, вернувшись на свое место за столиком возле самой эстрады, возбудился настолько, что заключил сам себя под арест.
К Саломее никакие мнения не имели отношения. В отношении императрицы, поэтессы, поп-звезды мнения выражать не возбраняется, потому что такие женщины либо застыли навеки в янтарной капле истории, либо на всех парах мчатся к ней по иллюзорной дороге своего собственного времени. Саломея, с другой стороны, обладала качеством, которое было безвременным. Хотя она была невинна и молода, могло показаться, что у нее за плечами немалый опыт прожитых лет. Она производила впечатление умудренной жизнью, но не из желания сразить вас, произвести впечатление. Скорее нечто необычайное и значительное было присуще ей изначально – некое тайное знание или потаенная мудрость, светлая созидательная мощь или темная разрушительная сила, причем ни о той, ни о другой она никогда не задумывалась, поскольку не слишком обременяла себя какими-либо раздумьями.
Саломея встряхнула ожерельем: serpent a sonettes. Звякнула браслетами: rattleslang. Потрясла браслетами на лодыжках: culebra de cascabel. Ударила в бубен: skallerorm и Klapperschlange. И всем до единого собравшимся в ресторане мужчинам независимо от национальности и вероисповедания стало ясно: она из тех, кто водит дружбу со Змеем, это ему она позволила слизать кровь ее первых месячных, что она… о-о-о-у-у-у, что она… о-о-о-у-у-у, что она… о-о-о-у-у-у, что ей было ведомо то, что ведомо и Змею.
Чем более неистов становился ее танец, тем зримее становился образ пассивной, слегка неподатливой жертвы мужской энергии. И в то же самое время – хотя само время перестало существовать – она представляла собой ловушку, коварную опасность для всех мужчин. Сквозь завесу сизого табачного дыма и красного света, сквозь завесу белесого пара, поднимавшегося над подносами с фалафелем, каждое бесстрастное лицо – запертое в зоне между эго и наслаждением, тревогой и экстазом, – каждое лицо было устремлено на нее.