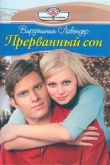Текст книги "Тощие ножки и не только"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 34 страниц)
Безусловно, у религии тотчас отыщутся защитники, которые укажут на то, какое утешение она дарит больным, слабым духом, разочаровавшимся в жизни. Что ж, согласимся. Но Всевышний не обязан заниматься одними страждущими! И если кто-то желает узреть лик Божества, он должен разбить стенку аквариума, вырваться на свободу из рыбопитомника, попробовать, преодолевая коварные пороги, плыть против течения, нырять в глубокие фиорды. Нужно исследовать лабиринты рифов, темные, поросшие лилиями заводи. Как это ущербно, как оскорбительно – и для человека, и для самого Бога, – думать о нем как о добром стороже; видеть в нем некоего вечно отсутствующего хозяина рыбопитомника, который держит нас под замком «утешения» тесных искусственных водоемов, куда посредники время от времени сыплют нам тщательно дезинфицированные и прошедшие предварительную обработку хлопья духовной пищи.
Стремление к Божеству заложено в самой природе человека. (Насколько нам известно, оно также присуще белкам, одуванчикам и бриллиантовым кольцам.) Поиск путей к Всевышнему облагораживает наши души и просветляет наши мозги. Возможно, что именно эти две вещи и есть конечная цель нашего бытия.
Что ж, пока никто не спорит. Но подобного рода деятельность нередко вступает в конфликт с принципами политики и коммерции. Политика – это наука о подавлении человека человеком, а как известно, личность в процессе облагораживания души и просветления мозгов с трудом поддается контролю. Вот почему для защиты своих корыстных интересов политики уже давным-давно узурпировали религию. Короли подкупали священников землей, задаривали щедрыми подношениями. После чего совместными усилиями осушили илистые пруды, устроив на их месте аквариумы. Стенки аквариумов были сделаны из невежества и суеверий, скреплены страхом. Эти аквариумы получили называния «синагог», «церквей», «мечетей».
После того, как аквариумы были готовы, уже никто не заводил речь о душе. Зато заговорили о духе. Душа – она горячая и тяжелая. Дух же прохладен, бесплотен и абстрактен. Душа привязана к земле и ее водам. Дух устремлен к небесам и их газам. Из газов рождается огонь. Силен тот, у кого мощнее артиллерия. Уже давно было замечено, что война является логическим продолжением политики. Как только религии стали частью политики, то отправление религиозных культов также рано или поздно должно привести к войне. «Война – это ад». Таким образом, религиозные воззрения ведут нас прямиком в преисподнюю. Причем история однозначно свидетельствует в поддержку этого суждения. (Любая современная религия бахвалится тем, что только ей, и ей одной, принадлежит истина, только она ведает Бога, а ее последователи готовы умирать – или убивать – во имя этого весьма самонадеянного мнения.)
Однако не каждый прудик, не каждую мутную заводь удалось осушить. Душевные рыбешки, что тихо себе пускали пузыри и гонялись друг за дружкой в нескольких уцелевших лужах, получили «ярлык» мистиков. На них смотрели как на экзотику, как на чудаков или нечто второсортное. Когда они начинали плескаться слишком шумно, поднимался оглушительный хай, что они, дескать, представляют опасность и их нужно уничтожать. Робкие камбалы в аквариумах, не мыслившие теперь своего существования без хлопьев духовности, начисто позабыли, что и они когда-то точно так же плескались на воле, как и эти мистики.
Религия – не что иное, как узаконенный мистицизм. Но фишка в том, что мистицизм не поддается узакониванию. Стоит нам попытаться загнать мистицизм в организованные рамки, как мы тотчас же разрушаем его сущность. Таким образом, религия – это тот же мистицизм, только в мертвом виде. Или, на худой конец, в ослабленном.
И те, кому доведется стать свидетелями того, как падет четвертое покрывало, возможно, со всей ясностью увидят то, о чем Спайк Коэн и Абу Хади смутно догадывались уже давно: что религия не только разделяет людей и порабощает их. Более того, она отрицает в них все, что есть в них божественного. Она губит, иссушает душу.
* * *
Ночь, как на пуговицы, застегнула свою темную блузку на шпили собора Святого Патрика, и Бадди Винклер крепко, но как-то нервно обнял Эллен Черри.
– Буду молиться за тебя, моя куколка, – крикнул он, торопясь на какую-то встречу со своими евреями. – А ты смотри у меня, я еще вернусь и проверю, как ты себя ведешь. Ты меня слышишь?
Эллен Черри без особого энтузиазма помахала ему в ответ. После чего повернулась и зашагала своей дорогой. Перевертыш Норман уже успел испариться. Да, вращался он медленно, зато слинял в два счета. Эллен Черри даже не успела бросить ему в коробочку деньги.
Ладно, она все равно еще придет сюда завтра. «Завтра я дам ему двадцать баксов», – подумала она. Широкий жест, но Эллен Черри чувствовала, что просто обязана как-то поддержать уличного артиста. Ведь он, в конце концов, единственный в своем роде, подумала она. И вообще вряд ли кому есть дело до его существования.
Насколько ей известно. На самом же деле на Перевертыша Нормана в течение всего дня были устремлены пять пар глаз. Возможно, слово «глаза» здесь не совсем уместно – потому что сквозь решетку над шахтой, что вела в подвал собора Святого Патрика, за номером Перевертыша Нормана пристально и с неподдельным интересом следила странная пятерка неодушевленных предметов, притаившихся в подвале.
Среди тех, кто наблюдал на Норманом, была томного вида раковина. Далее – раскрашенный посох. Небольшая серебряная ложечка. Драный мужской носок. И помятая до неузнаваемости консервная банка, с которой свисали клочки бумаги. Кстати, если поднапрячь глаза, можно было прочесть, что эту перекореженную посудину некогда величали консервированной свининой с бобами.
Пятое покрывало
* * *
Однажды Матерь Волков отправилась на базар, чтобы купить обои. И купила – с рисунком из спиралей и молекулярных цепочек. А по бордюру тянулись электроны и изгрызенные кости. Матерь Волков лизнула шнурок на ботинке продавца, и тот превратился в яшму. Так она расплатилась наличными.
Однажды в Нью-Йорк прибыли Раскрашенный Посох и Раковина. Раковина была теплой, тяжелой и влажной – как земля, как море. Посох был устремлен в небо. На его конце подрагивала конфигурация газов. И хотя они проделали долгое и утомительное путешествие, в Нью-Йорке их прибытие не вызвало ничьих восторгов. Зная, что в случае чего можно искать защиты в святилищах, путники спрятались в подвале собора в самом центре города. Они решили передохнуть здесь немного и тем временем обдумать, как им пересечь Атлантику. Тем не менее они успели про себя отметить, насколько изменился бы внутренний вид помещения, если правильно подобрать обои.
* * *
В течение той недели в ресторан поступило два звонка о якобы подложенной бомбе. И первый, и второй раз это произошло в вечернюю смену, поэтому Эллен Черри напрямую не пострадала. Но паблисити она испытала и на себе. По пути на работу или домой ей приходилось пробиваться через толпу репортеров и просто любопытных. Подобно иным кинозвездам, она накидывала на голову шарф, прятала лицо за темными очками и упорно смотрела себе под ноги, словно получила исследовательский грант от Фонда Разбитых Пальцев. Больше всего она боялась наткнуться среди пикетчиков на Бадди Винклера. Или же, не дай Бог, он узнает ее на каком-нибудь газетном снимке. Хуже всего, когда склоки возникают в семье. Про некоторые семьи вообще можно сказать, что у них там свой небольшой Ближний Восток. Ведь если подумать, что такое, в сущности, ситуация на Ближнем Востоке, как не грызня родственников, зашедшая чересчур далеко. Исаак против Исмаила.
Родители позвонили ей на работу.
– Мне некогда, – солгала Эллен Черри. Единственными посетителями самого знаменитого ресторана в Нью-Йорке на тот момент был и японские туристы, уместившиеся за двумя столиками. Японцы потягивали египетское пиво и почему-то жутко хихикали над баба-ганугом.
– Интересно, сколько ресторанов здесь, в Нью-Йорке? Десять тысяч? Двадцать тысяч? Больше? Твоя мама говорит, что больше. Так почему ты выбрала именно тот, который…
– Успокойся, папа. Худшее позади. Больше никаких взрывов не будет.
И верно, неделя прошла тихо и мирно, и в результате любопытных поубавилось – еще одно доказательство неспособности горожан долго забивать себе головы одним и тем же. Но взрыв все-таки прозвучал. Причем не где-нибудь, а в квартирке Эллен Черри, и хотя этот взрыв был до некоторой степени предсказуем, Эллен Черри тем не менее едва не совершила кувырок назад. «Бомбой» стало для нее приглашение на персональную выставку работ Бумера Петуэя в галерее Ультимы Соммервель.
* * *
Как только молодожены въехали в Нью-Йорк, их индейка тотчас взяла курс на пересечение Семьдесят третьей улицы и Бродвея, где в отеле «Ансония» их уже ждали двухкомнатные апартаменты. Их сдал молодоженам один скульптор, который на три года уехал во Флоренцию и которому, в свою очередь, их сдавал новый куратор отдела современного искусства Сиэтлского художественного музея. Куратор этот искренне восхищался талантом Эллен Черри и снабдил ее рекомендательным письмом влиятельному дилеру Ультиме Соммервель.
Как только молодожены обустроились, застелили постель, исследовали ванную комнату и заставили полки на кухне лапшой быстрого приготовления, полуфабрикатами пиццы, банками пива «Пабст» и шестью видами тараканьей морилки, Эллен Черри отправилась в галерею Ультимы Соммервель показать слайды со своими работами. Нельзя сказать, что, посмотрев их, владелица галереи от восторга упала со своего модернового кресла работы Йозефа Хоффмана, однако проявила интерес и даже пообещала приехать в «Ансонию», чтобы воочию взглянуть на сии творения. И через три дня действительно приехала.
Что касается Бумера, то он, к своему разочарованию, обнаружил, что практически все сварочные мастерские располагались в дальних районах города. И пока ждал, не подвернется ли ему работа на Манхэттене, валялся дома, почитывая шпионские романы. За этим занятием и застала его Ультима Саммервель, когда явилась к ним. Ультима аж вся запыхалась, и Эллен Черри с Бумером решили, что не иначе как она поднималась к ним на одиннадцатый этаж пешком. Нет, просто на автомобильной стоянке ей в глаза бросилась гигантская жареная индейка, при виде которой владелица галереи испытала нечто вроде художественного потрясения.
– Так это же Бумер ее сделал! – по-детски раскрыла секрет Эллен Черри и кивнула в сторону крепкого парня, что – в футболке, спортивных шортах средней школы Колониал-Пайнз и одном-единственном фиолетовом носке – валялся на диване в гостиной.
– Ах вот как? Неужели, моя милая? О, magnifique!
Ультима Соммервель была высокого роста, темноволосая и импульсивная, на вид тридцать с хвостиком. Лицо ее имело форму клубники и оливковый цвет, отчего казалось одновременно и нежным, и дерзким. Одета и причесана она была просто, но элегантно. Эта женщина вполне могла быть творением архитектора, работающего в стиле «Баухаус», если бы не бюст, чьи свободные формы вступали в противоречие с резко очерченными плоскостями остальных частей ее тела. Бюст этот нарушал равновесие фигуры, создавал столь вопиющий контраст, что, с эстетической точки зрения, его владелице пошла бы на пользу двухсторонняя мастектомия. Словно ее в самом начале создал скупой на линии Гропиус, после чего предоставил Гауди возможность добавить пышные дамские выпуклости. Говорила Ультима с отрывистым британским акцентом, чем тотчас напомнила Эллен Черри школьницу, пытающуюся подражать Альфреду Хичкоку. И вместо того чтобы оценивать творения начинающей художницы, она то и дело отвлекалась, задавая вопросы по поводу четырехколесной Бумеровой индейки.
– Что я нахожу в ваших картинах – так это неуклюжую дихотомию иллюзии и абстракции. Согласна, в них чувствуется энергия; в них есть свое очарование, но, как я уже сказала, они неуклюжи. Они – типичные образчики отстраненной эксцентричности современного искусства до того момента, как оно созрело и развило в себе интерес к социальным проблемам. – С этими словами Ультима повернулась к Бумеру. – И что вы пытаетесь сказать своей гигантской серебряной индейкой, мистер… э-э-э… Бумер. По-моему, она просто исполнена смыслом, и причем глубочайшим.
Заявив, что «социально малозначимые картины» сейчас практически не пользуются спросом, Ультима тем не менее согласилась выставить Kоe-что из работ Эллен Черри. Она выбрала три холста, попросив при этом, чтобы их доставили ей в галерею. Нет, не в Сохо, где, как было известно Эллен Черри, собственно, и бурлила художественная жизнь, а в небольшой филиал где-то ближе к Гарлему. Затем Ультима спросила Бумера, нельзя ли ей поближе осмотреть его «священного монстра».
Тот, казалось, был рад ей услужить: слез с дивана и влез в тесные джинсы.
Когда они ушли, Эллен Черри не знала, радоваться ей, огорчаться или злиться. Нет, в принципе ей удалось просунуть ногу в дверь известной галереи – что, надо сказать, немалое достижение для никому не известной художницы, явившейся невесть откуда. По идее, она должна была прыгать на одной ножке от счастья. Зато Эллен Черри совсем не понравилось, как раскудахталась эта Ультима Соммервель, восторгаясь дурацкой Бумеровой индейкой. А еще меньше ей понравилось, каким взглядом пожирал дилершу сам Бумер, вернее, ее молочные железы.
– Неужели, дарлинг? – Эллен поймала себя на том, что передразнивает гостью, когда та вместе с ее супругом скрылись в лифте. – О, magni-фигский-fique!
Первый удар топором по персиковому дереву был нанесен, когда Бумер сообщил жене, что Ультима собирается продать его индейкомобиль.
– Я думала, это моя индейка. Если не ошибаюсь, это твой свадебный мне подарок.
– Так оно и есть. Но, моя прелесть, ты не врубаешься. Я же не продаю его, как какую-нибудь подержанную тачку. Ультима продаст его как произведение искусства. А я художник, творец. Тот самый, что создал эту штуковину.
Ну не прикол ли? Это произведение искусства, а я его создатель! Ну да Бог с ним, пусть пребывает в наивном заблуждении. Никто не спорит, все-таки призналась самой себе Эллен Черри, индейка на колесах – это, безусловно, свежая идея. Кроме того, чтобы держать сей шедевр на автостоянке возле дома, уходило целое состояние. Так что, если индейкомобиль удастся продать, ей положена часть вырученных денег, и тогда она купит себе новые кисти, холсты и краски. И Эллен Черри решила, что ей нет повода огорчаться.
Однако вскоре из-под топора во все стороны полетели новые щепки – это Бумер взялся регулярно сопровождать Ультиму на «презентации». Два-три раза в неделю Ультима расхваливала индейку перед потенциальными покупателями, а Бумер стоял с ней рядом. Вернее, рядом с ее бюстом, думала Эллен Черри, разглядывая в зеркале ванной комнаты свои более чем скромные выпуклости. Подозревая, что у нее за спиной полным ходом идут шуры-муры, она начала испытывать Бумера в постели. Но оказалось, что либо отношения супруга с дилершей были чисто деловыми, либо ей достался образчик редкостной мужской выносливости.
Однако вскоре после того, как Музей современного искусства приобрел Бумерово четырехколесное блюдо, с персикового дерева на их супружеское ложе посыпались недозрелые падалицы. Эллен Черри пребывала в уверенности, что продажей индейки дело и закончится – что на свою часть вырученных денег Бумер откроет сварочную мастерскую и они оба вернутся к той жизни, о какой мечтали и какую планировали. Но нет, по словам Ультимы, на Бумера возник спрос. Индейка стала гвоздем сезона, а его самого вечно приглашали на какие-то вечеринки и открытие выставок. Первое время Эллен Черри сопровождала супруга на эти мероприятия. Она была даже благодарна Бумеру, что благодаря ему получила доступ, пусть и с черного хода, в нью-йоркский мир искусства, но вскоре ей стало казаться, что это все равно что войти в павлина через задний проход. И она бросила это дело.
– В былые времена, – жаловалась она, – кстати, не так уж и давно, у художников был и самые лучшие вечеринки. Полные безумств и фантазии. Там было все – страсти, эксцентричные выходки, искрометные беседы. А взглянуть на эти нынешние соревнования в позерстве, на которые мы с тобой таскаемся! Взглянуть на этих «художников», от которых тянет на зевоту! Они тщеславны, как фотомодели, мир их интересов мелок и узок, как у агентов по торговле недвижимостью. Все их разговоры сводятся к деньгам. Карьере. И хотя бы один из них посмотрит вам в глаза? Нет, сэр-р. Потому что они все время смотрят вам куда-то через плечо, вдруг там появится что-нибудь новенькое, чтобы – не дай Бог – никто их не опередил, ведь иначе им потом не достанется.
– Именно это мне в них и нравится, – возразил Бумер. – Что они не какие-нибудь там парящие в облаках великие орлы гениальности, как мне когда-то казалось, а самые обыкновенные люди. Такие, как все.
– Но раньше было иначе! Художники всегда отличались от других. Это была особая порода людей. Кстати, так было до недавнего времени.
Эллен Черри искренне переживала из-за того, что увидела в нью-йоркском мире искусства. Для нее стало неприятным открытием, что этот мир мало чем отличается от мирка, который она видела в Сиэтле, разве что большими размерами. Однако частично ее разочарование объяснялось тем, что львиная доля внимания на этих вечеринках доставалась ее супругу, которого воспринимали как истинного художника, в то время как сама она – если не считать редких комплиментов со стороны какого-нибудь престарелого развратника или любителя непокорных волос – большей частью оставалась в тени.
Бумер же и не думал отказываться от посещения этих мероприятий. Журнал «Вэнити Фэар» отметил, что «Ультима Соммервель предпочитает всем его общество». И мир искусства устремил на Бумера Петуэя свои взгляды. Для этого желтушечного, изведенного взаимной завистью мирка Бумер стал чем-то вроде долгожданной инъекции гамма-глобулина. Те, кто привык считать себя образцом утонченного вкуса, вдруг начали восхищаться его раскованными провинциальными манерами, его мускулатурой, его гавайскими рубашками и новым красным беретом. Когда же в своем любимом клубе Бумер с Ультимой зажигательно исполняли танго – а надо сказать, что благодаря своей прихрамывающей ноге Бумер украсил танец весьма необычными вариациями, – они заткнули за пояс даже статую Свободы с ее факелом – старушка Либерти не смогла бы разжечь даже дешевой сигары.
А в это время, закутанная в плащ своей веры в уникальное и прекрасное, Эллен Черри сидела в «Ансонии» и черпала утешение в зрительных играх и двух доподлинно известных ей вещах: что 1) вскоре из Музея современного искусства поступит чек; и 2) по возвращении домой Бумер вновь продемонстрирует ей чудеса своей неиссякаемой потенции. Хотя почему-то час его возвращения медленно, но верно откатывался куда-то все ближе к рассвету.
Визг циркулярной пилы раздался в персиковой роще лишь под утро, когда Бумер, вместо того чтобы заняться любовью, принялся рассуждать об искусстве.
По крайней мере шесть палестинцев убиты израильскими военными во время разгона демонстрантов, когда вчера после месяца относительного затишья на западном берегу и в секторе Газа вновь вспыхнули акции протеста против оккупации израильтянами арабских земель.
Согласно официальным данным, общее количество пострадавших с палестинской стороны за двадцать месяцев беспорядков приближается к четыремстам убитым и примерно тысяче раненых. Палестинские источники приводят несколько иные цифры – примерно на шестьсот человек больше убитыми и еще несколько тысяч раненых.
Эллен Черри поставила свои часы-радио на три утра, чтобы она успела встать и почистить зубы – ей хотелось, чтобы когда муж вернется домой, встретить его свежим, благоухающим мятой поцелуем. Однако вместо музыки радио потревожило ее сон репортажем корреспондента службы новостей в Иерусалиме.
По какой-то неведомой причине Эллен Черри задумалась о том, который час сейчас в Иерусалиме, есть ли там сейчас жены, озабоченные свежестью своего дыхания, и вообще предпочитают ли палестинцы и израильтяне разные марки зубной пасты или все-таки пользуются одинаковыми. Неожиданно Эллен Черри посетил вопрос о том, чистила ли зубы Иезавель в тот роковой день, когда она, «раскрасив лицо и уложив волосы в высокую прическу», подошла к окну. Лежа в постели, Эллен Черри размышляла об этих вещах добрых полчаса, но время, надо сказать, не играло особой роли, потому что Бумера по-прежнему не было. Он объявился только в четверть шестого. К этому моменту микробы уже успели вернуться на ее безукоризненно вычищенные десны, подобно тому, как купальщики возвращаются на пляж после летнего шторма и как ни в чем не бывало устраивают на мокром песке пикники или играют в волейбол.
Бумер пошел в дверь подобно роденовскому мыслителю на коньках, то есть двигался стремительно, едва ли не летел, но одновременно был каким-то задумчивым, словно мысли его витали где-то далеко. Эллен Черри снова проснулась и уже было собралась вновь подвергнуть свой рот очистительному воздействию пасты и щетки (микробы в ярких бикини услышали, как где-то вдали пророкотали раскаты грома), однако передумала, потому что Бумер завалился в постель прямо в джинсах.
Не теряя тем не менее оптимизма, она прижалась к нему и пробежала пальцами по волосам на его груди. Стоило ей слегка поскрести супружескую шерстку, как в нос тотчас ударил запах табака, причем такой ядреный, что от него точно задохнулся бы даже сам Ковбой Мальборо. Слава Богу, подумала Эллен Черри, что от Бумера хотя бы не пахнет Ультимой Соммервель. Она уже принялась расстегивать ширинку его джинсов, когда Бумер, глядя куда-то в потолок, спросил:
– А как вообще люди создают произведения искусства?
– То есть как это «как»?
– Как я сказал. Как ты пишешь свои картины?
– Можно подумать, ты не знаешь. Разве не ты сам сотворил эту «исполненную смысла» индейку, которую приобрел знаменитый музей и даже не заплатил?
– Ты сама знаешь не хуже меня, что я не собирался делать ничего такого «исполненного смысла».
– Художники никогда не приступают к работе, намереваясь создать нечто, «исполненное смысла». А если и приступают, то их чаще всего ждет провал. Помоги-ка мне лучше с этими пуговицами.
– Не понял.
– И не поймешь, если не снимешь с себя штаны.
– Но если у художника и в мыслях нет создать нечто исполненное смысла, то что же он тогда делает?
– Эх, Бумер, Бумер! – Эллен Черри вздохнула и оставила в покое пуговицы на его джинсах. – Нет, возможно, в душе они и мечтают создать нечто такое, исполненное смысла, но только не так откровенно. Это не совсем то, чем когда приступаешь к созданию чего-то полезного. Это скорее забава, нежели серьезный труд. С другой стороны, выбор у художника не столь уж велик. Хороший художник творит искусство, потому что не может иначе – даже если сам подчас не понимает что и как, пока работа не завершена.
– Но откуда им известно, что они хотят создать?
– Это им подсказывает внутреннее зрение.
– То есть они как бы видят свою работу во сне?
– Нет, обычно все гораздо проще. Да нет, совсем просто. Например, есть нечто такое – вещь, или пейзаж, или какой-то образ, который тебе непременно хочется увидеть. То есть ты хочешь его увидеть, но его не существует в этом мире или по крайней мере в той форме, которая нужна тебе, и тогда ты создаешь его сам, чтобы при необходимости обернуться по сторонам и увидеть его либо показать другим людям, которые никогда бы не представили себе ничего подобного, потому что они воспринимают реальность гораздо уже, как бы более предсказуемо. Вот и все. Именно это и делает художник.
– Вот ты пишешь пейзажи…
– Верно, они совсем не такие, как те, что мы видим в природе, и, что, пожалуй, еще важнее, они совсем не такие, как те, что вышли из-под кисти других художников. Если они вдруг стал и похожи на те или другие, тогда их вообще незачем было бы создавать. Ну разве что для того, чтобы на них заработать или привлечь к себе внимание, но это низкие мотивы и не имеют отношения к настоящему искусству. И дело не в том, что художнику якобы не нужны деньги. Нужны, вот и нам с тобой, например, они явно не помешали бы. Кстати, что там говорит Ультима, почему чек еще не пришел?
Какое-то время Бумер лежал, не проронив ни слова, что Эллен Черри подумала, не уснул ли он, но когда она в бледном предрассветном свете посмотрела на его лицо, то увидела, что глаза его широко раскрыты.
– О чем ты задумался? – спросила она.
– Да вот все пытаюсь понять, что бы такого мне хотелось увидеть, чего нет в этом мире.
После этих слов среди персиковых ветвей пронесся первый порыв ледяного ветра. Возможно, где-нибудь в другой стране у этого ветра иное название, но здесь он явно назывался «Не было печали».
– Но зачем тебе это?
К тому моменту, когда Бумер признался ей, что Ультима хочет выставить в галерее еще что-нибудь из его творений, половина Манхэттена уже села завтракать, а стране угрожал повальный дефицит персиков.
Лето и чек за индейку прибыли в один день, хотя и в разных конвертах. Чек настолько завладел вниманием четы Петуэев, что они моментально забыли вспотеть.
(В ту же самую душную и жаркую пятницу в середине июня пятеро пилигримов – которые кто вприпрыжку, кто вприскочку, кто вперевалочку преодолевали Скалистые горы с умопомрачительной скоростью в четыре и две десятых мили за ночь – забились в норку луговой собачки, спасаясь от целого батальона торнадо, что выстроились на горизонте подобно пружинам в кровати Синей Бороды. Когда нетерпеливый Раскрашенный Посох попробовал разведать обстановку, его тотчас подхватил смерч, подбросив в воздух на высоту около тысячи футов. По словам Раковины, единственной очевидицы, которая рискнула высунуться, чтобы посмотреть что и как, бесстрашный Посох выбил из воронки молнию и с силой вонзил ее смерчу между ребрами, так что тому ничего не оставалось, как опустить свою жертву практически на то же самое место, откуда он ее и подхватил.
– Какой кошмар! Страшно подумать, что было бы, окажись на его месте мистер Носок! – в ужасе прошептал(а) Жестянка Бобов. – Его бы мигом унесло куда-нибудь в Панаму!
– Откуда тебе известно? – огрызнулся Грязный Носок.
Индейка была продана за двести пятьдесят тысяч долларов. Ультима Соммервель тотчас прикарманила себе ровно половину (последнее время у дилеров вошло в моду брать комиссионные в размере пятидесяти процентов). Из причитающейся Бумеру половины галерея удержала сорок процентов в виде местных и федеральных налогов. Итого осталось семьдесят пять тысяч. Но Бумеру в срочном порядке требовалось поместить мать в дом престарелых, на что он выделил из этих денег двадцать тысяч. Кроме того, несмотря на горячие возражения жены, он отсчитал еще пять тысяч преподобному Бадди Винклеру – тот просил денег на какой-то религиозный проект, правда, так и не уточнил какой. Затем Бумер, перестраховки ради, внес плату за их апартаменты в «Ансонии» на девять месяцев вперед – на что ушло еще восемнадцать тысяч. Эллен Черри получила от супруга пять сотен на кисти и краски и еще столько же, чтобы обновить гардероб. Оставшиеся тридцать шесть тысяч были положены на совместный счет в банк. Однако большая их часть предназначалась для сварочной мастерской Бумера.
К концу июня практически все художники, кто мог себе это позволить – иными словами, все те, кто хоть что-нибудь значил, – уехали из города в Вудсток, Провинстаун или на побережье в штат Мэн. Дилеры подались на отдых в Хэмптонз. Коллекционеры временно переселились в Европу. И жизнь замерла – никаких тебе богемных вечеринок, никаких выставок. Лишившись искусства – или по крайней мере людей искусства, – Нью-Йорк был вынужден выставлять сам себя – пестрая, мельтешащая композиция из такси, испарений и мусора. По мере того как лето устало тянулось дальше, кучи мусора вздымались все ближе к солнцу, а испарения исходили от каждой подмышки, стало практически невозможным отличить бездомных психов от обычных граждан, которые от вони и влажности были готовы выть прямо посреди улицы. В апартаментах отеля «Ансония» кондиционер безумствовал, как призрак адмирала Берда, и все равно Эллен Черри весь день чувствовала себя разбитой и размякшей и была готова скулить от нестерпимой жары.
Однажды утром Бумер ушел из дома, якобы с той целью, чтобы осмотреть помещение под сварочную мастерскую, однако вернулся уже примерно через час: принес старый плащ в военном стиле, пару ярдов какой-то невыразительной ткани и небольшой мешочек с нитками и иголками.
– Сейчас я сотворю нечто, – объявил он. – Я не говорю, что это обязательно будет произведение искусства, просто нечто такое, что меня уже давно так и подмывало увидеть.
Трудился Бумер каждый день и притом не покладая рук – усердно, с подъемом, что-то весело насвистывая себе под нос, – точь-в-точь как когда-то Эллен Черри. Как когда-то. Потому что недавно она обнаружила, что вообще не может взяться за кисть. И чем сильнее увлекался Бумер своим новым проектом, этим своим дурацким шитьем, тем сильнее она отдалялась от живописи. И от него.
– Что тебя гложет, моя девочка? – спросила у дочери Пэтси.
Но Эллен Черри только вздохнула в липкую телефонную трубку.
– Не знаю, мама. Не могу заставить себя взяться за кисть, не могу спать с мужем и вечно раздражаюсь. Зато мне теперь хорошо известно, что такое быть критиком.
И пока Эллен Черри искала, на ком бы ей выпустить пар, Бумер работал, шил. Он шил дни, а иногда и ночи напролет. Он шил весь июль, он шил весь август. И пришил к плащу пятьсот карманов, и в каждый карман положил по записке, и каждая такая записка была написана особым шифром, все до единого – его собственного изобретения. Это был шпионский плащ, который затмил собой все шпионские плащи, и когда плащ был готов, рот Бумера растянулся в такой довольной улыбке, что он мог бы запросто проглотить толстенный детектив Роберта Ладлэма, даже не поцарапав себе нёба.
Ультима Соммервель вернулась в Нью-Йорк вскоре после Дня труда. Бумер не замедлил продемонстрировать ей свое новое творение – шпионский плащ с пятью сотнями карманов, в каждом из которых лежало по записке, причем каждая нацарапана особым шифром. Ультима Соммервиль узрела в плаще глубочайший, просто неимоверно глубочайший социальный смысл. По ее мнению, это был в высшей степени изобретательный и остроумный комментарий по поводу опасных и в то же время мальчишеских игр мировых сверхдержав. Она замкнула плащ у себя в сейфе и предложила следующей осенью Бумеру персональную выставку. Выставка должна была состояться в ее галерее в Сохо, где и вершились судьбы искусства.