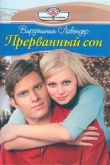Текст книги "Тощие ножки и не только"
Автор книги: Том Роббинс
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц)
Том Роббинс
Тощие ножки и не только
Алексе д'Авалон, Джинни Раффнер и их розовым туфелькам посвящается
Мессия придет тогда, когда станет никому не нужен.
Франц Кафка
Это конец света, насколько мы понимаем (и поэтому мне хорошо).
Группа «Ар-И-Эм»
Прелюдия
Это комната с обоями Матери Волков. Провинциальный мотельчик, который лично вы полагали фолклорным изобретением, сельского, безвкусного, пейзанского толка.
В этой комнате – будь вы христианин, араб или еврей – появился на свет ваш самый мудрый предок. Линолеум под вашими ногами – священный линолеум. Снимите, пожалуйста, обувь. Совсем недавно линолеум натерли воском из жира шершня, возвратив ему прежний блеск. Ходить по нему босиком – сущее удовольствие. Ничего, если у вас носки дырявые.
В этой комнате родилась ваша музыка. Обратите внимание на пришпиленную к стене барабанную кожу. Она пришпилена к обоям Матери Волков над угловой раковиной, в которой заблудшая жена стирала свои шелковые трусики, разглядывая их в неверном голубом свете неоновой вывески «Мест нет», подозрительно подмигивающей в жидком, скользком свете зари.
Что это за комната? Это комната, где олений рог фигурно взрезал тыкву. Это комната, где сливные трубы утоляли жажду лунным светом. Это комната, где мох постепенно заглушал сокровища, последним добравшись до рубинов. Здесь прослушивались сигналы с усиков-антенн насекомых. Просто поразительно, как часто их сигналы были направлены к звездам.
Даю подсказку: это комната, где был спрятан Раскрашенный Посох, где Раковина лежала, завернутая в священный папирус. В этой глиняной комнате любовники, подобно змеям, сбрасывали с себя старую кожу. Теперь-то вы припомните эти обои? Язык этих обоев? Кровавые розы Матери Волков, которые вибрировали там?
Однако хватит этого безумного лисьего тявканья. Вы прикатили сюда на лесном «кадиллаке», хотя, если послушать вас, давно разучились управлять автомобилем. Вы припарковались между бассейном и рядом почерневших черепов. Вы, конечно, знаете, что это за комната.
Это комната, где Иезавель подкрашивала себе веки трагическим блеском истории, где Далила осваивала на практике лицензию косметолога. Это комната, в которой Саломея сбросила свое седьмое покрывало, танцуя танец наивысшего постижения, демонстрируя тощие ножки и все остальное.
Первое покрывало
* * *
Стоял ясный день самого начала весны, когда отступают холода и вот-вот готова распуститься верба. Новобрачные пересекали всю страну из края в край в огромной жареной индейке.
Индейка лежала на спинке, как и подобает жареным индейкам, добровольно подставив грудь под нож. Ее короткие ножки застыли в некоем игривом положении, из которого при желании нетрудно было перевернуться и вновь встать на ноги. Однако, поскольку полноценных конечностей у индейки не было, данное предположение, естественно, представляется одновременно бессмысленным и смехотворным и лишь подчеркивает уязвимость ее нынешней позы.
Однако, несмотря на свою патетическую ущербность, жареная индейка – или, вернее, исполинская ее копия – лежа на спине передвигалась по шоссе со скоростью шестьдесят миль в час, то есть гораздо быстрее и дальше, чем продвигается к вершинам успеха в подобной же позе любая юная амбициозная актриска.
Индейка, поблескивавшая боками в робком сиянии мартовского солнца, являла собой свадебный подарок, преподнесенный женихом невесте. Вообще-то говоря, истинным подарком невесте было само создание индейки, сам феномен ее существования. Более того, именно факт появления этого чуда природы пред очами расчувствовавшейся по сему поводу избранницы и способствовал заключению брачного союза. Раскроем секрет – жених, чье имя было Бумер Петуэй, использовал индейку для того, чтобы обманом заковать в цепи Гименея невесту по имени Эллен Черри Чарльз. Во всяком случае, именно об этом – о том, что ее обманули, – и думала Эллен Черри спустя неполную неделю после свадьбы, с грустью наблюдая, как индейка вбирает в себя сельские просторы через ветровое стекло и выдувает через зеркальце заднего обзора. Менее чем через неделю после брачной церемонии, которая, судя по всему, отнюдь не обещала стать залогом грядущих десятилетий матримониального блаженства.
Некоторые браки заключаются на небесах, подумала Эллен Черри. Мой брак заключен в Гонконге. Не иначе как к нему приложили руку те самые люди, которые изготавливают резиновые отбивные для собак, которые можно купить в отделе для домашних любимцев в любом универмаге «Кей-Март».
* * *
Пересмешники – истинные артисты птичьего царства. То есть хотя птахи эти и способны исполнять собственные песни, но, будучи от рождения наделены самыми разносторонними из всех способов пернатого самовыражения, не желают бездумно следовать правилам природы. Как и всем художникам, им самой судьбой уготовано преобразовывать действительность. Волевой, смелый, изобретательный пересмешник, не связанный никакими правилами, которых слепо придерживаются все остальные, собирает обрывки птичьих мелодий то с этого дерева, то с того поля, присваивает их, помещает их в новый и неожиданный контекст, заново создавая из одного мира мир совершенно иной. Например, в Северной Каролине слышали, как пересмешник в своем десятиминутном выступлении слил воедино песни тридцати двух разновидностей птиц, подарив миру виртуозный концерт, не служивший никакой практической цели, и тем самым его вполне можно отнести к сфере чистого искусства.
Подобное искусство творил и пересмешник, затаившийся в зарослях кизила и сирени близ Третьей Баптистской церкви в Колониал-Пайнз, одаривая «Создателя ликующими звуками». А в это же время внутри самой церкви – прямоугольном кирпичном строении в георгианском стиле – несколько сотен свежевымытых, хорошо упитанных представителей рода человеческого занимались – нет, отнюдь не созиданием, а разрушением. Полнейшим разрушением. В восточной части центральной Виргинии, там, где находится городишко Колониал-Пайнз, весна вступала в свои права гораздо быстрее, чем на Далеком Западе, по бескрайним просторам которого жареная индейка уносила на восток Бумера Петуэя и его молодую жену. В Виргинии уже распустилась верба; ее примеру, напоминая мучимых запором эльфов, силился последовать кизил. Уже успели дать побеги нарциссы, на прочих разновидностях флоры набухали и лопались почки. Птицы – не только пересмешники – натянули сети своих трелей от верхушек деревьев до изгородей; пчелы и прочие насекомые пробуждались после зимней спячки, потревоженные сиреной собственного, не узнанного ими и пока что еще слабого жужжания. Подставляя весеннему солнцу бока, мир природы пребывал в процессе возрождения и обновления, как будто намеренно бросая тень сомнения на достоверность проповеди, что в эти мгновения завершалась в стенах церкви.
– Господь подал нам знак, – вещал проповедник, стоявший на облицованном дубом подиуме. – Господь подал нам знак! Это было, если угодно, предостережение. Слово, адресованное мудрым. Он дал детям своим хорошо понятный знак, слова, начертанные огромными черными – а может статься, и золотыми – буквами. Вполне возможно, что знак этот светился неоном. Каким бы он ни был, нет никаких сомнений в его предназначении. Господь поместил свой знак прямо перед лицом своего любимого ученика Иоанна, а Иоанн, будучи праведником, Иоанн, будучи мудрецом, не моргнул глазом, не стал чесать голову, не стал задавать лишних вопросов. Святой Иоанн не стал звонить по телефону своему адвокату и просить юридического истолкования господнего знака. Нет, Иоанн прочел его, записал и передал человечеству. Вам и мне.
Голос проповедника напоминал звуки саксофона. Не равнодушно-спокойного саксофона Лестера Янга, а густого, богатого саксофона, скажем, Чарли Барнета. В его голосе слышался удивительный, мрачноватый лиризм, нечто вроде дерзкого вызова, коренящегося в безысходном одиночестве. Изрытое оспинами лицо было каким-то осунувшимся и голодным; это было лицо человека, замученного гнилыми зубами и гнойными фурункулами. Но голос, голос, который издавали уста на этом лице, голос, что звучал из-под мальчишеской копны липких темных волос, отличался завидным плодородием, был бархатист и мрачновато романтичен. Особенно впечатлял этот голос прихожанок церкви; однако им и в голову не могло прийти, что страстность, звучавшая в нем, по всей видимости, подпитывалась гниющей пульпой зубов и гноем фурункулов.
– А сказал всемогущий Отец Иоанну следующее: когда еврей вернется в обетованную землю – да-да! – когда еврей снова окажется у себя дома в стране Из-ра-иль, – то конец света не заставит себя ждать!
Проповедник сделал паузу и обвел взглядом паству. Позднее Верлин Чарльз сказал об этом так: «Когда Бадди смотрит на вас таким взглядом, мне почему-то кажется, будто он готов зубами вырвать бутоньерку из вашей петлицы и моментально слопать ее». «Угу, – согласилась его жена Пэтси. – Только мне кажется, будто ему то же самое хочется сделать с резинкой из моих трусов». Увы, Верлин Чарльз не сумел оценить по достоинству женскую интерпретацию ненасытного взгляда проповедника, о чем и не замедлил сообщить дражайшей супруге.
Слева от алтаря некий радиоинженер поднял вверх три пальца. Преподобный Бадди Винклер краем глаза уловил этот жест и, перестав сверлить взглядом паству, вернулся к микрофону.
– Когда еврей вновь окажется в Земле Обетованной – конец света не за горами! Этот знак Господь дал всем нам. Почему? Неужели вы думаете, что Господь Бог от нечего делать подбросил нам эту информацию, как будто это обычная сплетня или статейка из «Ридерз дайджест»? Или все-таки Господь намеренно явил этот знак Иоанну? Была ли у Господа причина заставить Иоанна записать это пророчество в Книге Откровений? Ну и что вы на это скажете?
Инженер поднял вверх два пальца. Бадди Винклер кивнул и ускорил темп. Манипулируя в лучших традициях Чарли Паркера своим саксофоноподобным голосом, заставляя его звучать со скоростью пятьдесят два такта в минуту и перейдя на альт – его обычный тенор уже не годился для синкопирования, – проповедник разразился самозабвенной диатрибой, направленной одновременно и против семитов, и против антисемитов. Своих братьев по вере он призвал обратить взоры на Иерусалим, город их вечной судьбы. Он призывал их приготовиться к физическому вхождению в этот город, где наиболее праведные из них примут из рук Господа обещанную награду. Он напомнил присутствующим, что в следующее воскресенье расскажет о том, что ждет их при вступлении во врата Нового Иерусалима. Далее Винклер напомнил еще и о том, что на следующей неделе проповедь из цикла о Стремительно Приближающемся Конце Света будет транслироваться по радио на канале «Голос южных баптистов». После этого он повел проповедь на коду, и произнесенное им «Аминь» самым чудесным способом совпало с показом одного пальца.
Когда преподобный Винклер, стоя у дверей, принимал комплименты расходящихся по домам прихожан, его улыбку обрамляли крошечные пузырьки слюны.
– Мощная у вас получилась проповедь, преподобный Винклер!
– Да благословит вас Господь, Рой.
– Преподобный Винклер, вы были само красноречие. Вы так глубоко тронули меня, вы задели тайные струны моей души, вы…
– Это Господь вещал моими устами, мисс Пакетт. Это Он тронул вашу душу.
– Здорово, Бад. Лягушки уже проснулись.
– Даже не знаю, Верлин, найдется ли у меня этой весной время, чтобы нам с тобой половить их.
– То есть ты, Бад, если я правильно тебя поняла, намерен ловить других лягушек?
Фурункулы проповедника сделались багровыми.
– Пэтси, думай, что говоришь.
– Как в той поговорке, про другую рыбу?
– Пэтси, – проповедник произнес это имя с какой-то особой интонацией, словно пытался извлечь из раструба саксофона низкую ноту. В нем одновременно слышались и осуждение, и мольба. Пэтси улыбнулась и пошла прочь, оставив преподобного говорить с другими прихожанами.
Из церкви Верлин и Пэтси Чарльз направились к стоянке, к своему «бьюику».
– Что ты себе позволяешь с ним, Пэтси. Это в божьем-то храме…
– Не в храме, а на ступеньках.
– Но зато в воскресный день!
– Бад он всегда Бад, будь то воскресенье или Четвертое июля.
– А в Судный день?
– Думаю, скоро мы это узнаем, – сказала Пэтси, и Верлин, благо его надежно скрывали заросли сирени, улыбнулся.
– Вот уж не думаю, – сказал он, когда они с Пэтси остановились полюбоваться новеньким «фордом-пикапом», принадлежавшим, как подозревали супруги, кому-то из знакомых. – Вряд ли конец света наступит прямо сей момент. А знаешь почему? Потому что в одном только Нью-Йорке евреев больше, чем в целом государстве Из-ра-иль. – Верлин попытался произнести эту фразу в манере своего преподобного родственника, но это ему не удалось, потому что его голос по звучанию скорее напоминал пронзительную дудку, чем саксофон.
– Так, значит, ты хотел бы их всех депортировать?
– Готов подвергнуться обрезанию, если мне докажут, что в Нью-Йорке евреев меньше, чем в Иерусалиме. Лично я к Армагеддону не готов. Мне еще нужно оплатить кое-какие счета.
– Кстати, хочу тебе напомнить, что у тебя есть дочь, и она мечтает жить в Нью-Йорке.
Услышав слова жены, Верлин нахмурился. На лице его проступила мировая скорбь. Это было гладкое, розовое лицо, не оккупированное ни на левом, ни на правом своем фланге ни единой бакенбардой. Верлин принадлежал к тому типу мужчин, которые, похоже, бреются изнутри. У него было такое же стройное мускулистое тело, как и у родственника-проповедника, но в отличие от Бада лицо его было круглым, гладким и удовлетворенным (что вовсе не совпадает по значению со словом «довольное»). От его щек всегда пахло заплесневелой мочалкой, независимо от того, сколько крема для бритья марки «Олд спайс» он на них изводил.
– Спасибо, что напомнила.
– В Нью-Йорке живут миллионы людей. Стало быть, не так уж плох этот город.
– Извращенцы. Пуэрториканцы. Уличные грабители. Террористы. Как ты их называешь, эти… побирушки с мешками.
– Террористы в Нью-Йорке? Дорогой мой, Нью-Йорк, к твоему сведению, находится в Соединенных Штатах Америки.
– Нет, так обязательно появятся, если уже не появились. Евреи притягивают к себе террористов, как дерьмо – мух. Так было всегда.
– Ты говоришь совсем как Бад, ей-богу. Но евреи не вчера же там появились. В Нью-Йорке с незапамятных времен полно евреев. А с сороковых годов они потихоньку возвращаются в Израиль. Не могу взять в толк, почему вы с Бадом вдруг так ополчились на них?
– Наверно, это все новости виноваты. В них только и говорят, что о Ближнем Востоке, – вздохнул Верлин. – Как будто на свете нет ничего другого.
– Кроме того, Бумер обязательно позаботится об Эллен Черри. Не твои ли это собственные слова?
– Если я это и сказал, то лет сто назад. И с тех пор больше не повторял. А эта его чертова уродина на колесах в виде индейки! Уверен, наша дочь уже обратила мужа в свою богемную веру. Художники! – сплюнул с досады Верлин.
Когда супруги подошли к своему «бьюику», с него вспорхнули два пересмешника. Один из них защебетал что-то на малоизвестном диалекте щегла, а второй в своей песенке слил воедино крик дрозда с резким аккордом, позаимствованным из репертуара дятла. Долгие столетия пересмешники охотились на насекомых и отыскивали семена растений, однако после того как на дорогах юга США стали сотнями появляться автомобили, они быстро поняли, что поиск пищи можно значительно облегчить, просто склевывая с радиаторов припаркованных машин трупики всевозможных козявок, погибших при столкновении с современными средствами передвижения. Пересмешники. Вот кто обращает себе на пользу современные технологии. Вот кто изобретает новые трюки для подкрепления самовыражения. Художники!
* * *
Прежде чем статическое электричество окончательно зажарило ее до хрустящей корочки, воскресная проповедь преподобного Бадди Винклера прорвалась-таки из радиоприемника жареной индейки.
– Дядюшка Бадди! – фыркнула Эллен Черри. Хотя фактически проповедник приходился ей тем, кого южане обычно именуют «нашему забору двоюродный плетень», она привыкла с раннего детства называть его Дядюшкой. Теперь Дядюшка Бадди сделался знаменитостью национального масштаба.
Бумеру это было отлично известно. В последние несколько лет он близко сошелся с ее родственниками – с отцовской стороны, – куда ближе, чем она сама. Бумер, похоже, не заметил, как жена переключила приемник на сводку новостей. («Сегодня в арабском квартале Иерусалима израильские солдаты обстреляли группу…») Бумер, похоже, считал коров. Коров, что подобно комарам облепили клейкую ленточку горизонта. Доведя счет до некоего числа, он улыбнулся. Наверно, мне никогда не узнать, подумала Эллен Черри, сколько же требуется пасущихся где-то у горизонта коров, чтобы мой муж улыбнулся.
Странно, но в местности, подобной этой, – сухой, голой и бескрайней, местности, занятой под кормовые культуры и перемежающейся с плоскими скалами, апокалиптическая проповедь Бадди Винклера приобретала некую убедительность. К западу от Каскадного хребта, в окрестностях Сиэтла, где молодожены начали свое путешествие, леса были столь высоки, внушительны и густы, что казалось, прямо в воздух испускали зеленый дух, щеголяли мшистыми усами и во всю мощь своего голоса орали на лесорубов: «Сами вы пни!» Эти прохладные, величественные леса, пышущие древней как мир витальностью, казалось, опровергали самые убедительные эсхатологические прогнозы. Здесь же, напротив, деревья были какие-то чахлые, хилые, бесцветно-однообразные и редкие. Перед индейкой простиралась ровная и прямая дорога. Мчащихся по ней пассажиров она убаюкивала, погружая в безжизненный ритм, от которого не спасало даже гранулированное пространство пейзажа, напоминавшего желто-бурый слоеный пирог. Далекие точки коров на горизонте, почки на вербах и действительно отпечаток копыта на всем вокруг.
В местности такого рода Эллен Черри всегда ожидала звона золотых часов. Часов с будильником, звенящим как разряды молний и флюгельгорны. Затем прозвучит голос Орсона Уэллса, читающего отрывки из «Книги Мертвых».
– Все это как раз и будет напоминать конец света, – сказала она, – особенно когда мы здесь, в этой глуши, за сотни миль от телефона.
Бумер ничего не ответил. Его внимание было приковано к катившемуся им навстречу грузовику для перевозки скота. Приблизившись к индейке, грузовик резко сбросил скорость и завихлял, едва не сбросив их с дороги в кювет. Водитель высунулся из окошка и удивленно покачал головой. Бумер успел увернуться и сердито посигналил.
– Деревенщина, – пробормотал он. – Чуть было не сбил ножку.
* * *
Колониал-Пайнз – это пригород без города. Расположенный на расстоянии двадцати двух миль от Ричмонда, он никак не может считаться его предместьем, но в то же время не дотягивает до того астрономического числа жителей, которое превращает отдельное поселение в город. Не может похвастаться он и какой-либо промышленностью; и хотя в непосредственной близости от него в избытке выращиваются превосходные помидоры, претендовать на звание сельскохозяйственного района Колониал-Пайнз также не в силах. Это может показаться странным, но центра как такового у городка тоже нет. То, что можно с большой натяжкой считать деловым центром Колониал-Пайнз, являет собой четырехрядное шоссе, по которому, несмотря на развилку, позволяющую сегодня объезжать это местечко, в направлении Флориды и обратно перемещаются тысячи туристов-янки. Участок дороги длиной в три мили, проходящий через Колониал-Пайнз, плотно застроен мотелями, заправочными станциями и ресторанами. Хотя, если признаться честно, «ресторан» – это слишком пышное имя для закусочных-барбекюшниц, лотков с мороженым, стоянок для грузовиков и так называемых семейных гостиниц (чья простоватая, едва ли не тоталитарная кухня никогда – нечего даже надеяться! – не порадует вкусовые бугорки вашего языка ощущениями новыми или смелыми). Жители этого квазигородка зарабатывают себе на жизнь благодаря так называемой Полосе (сравнение ее с Полосой Лас-Вегаса так же смехотворно, как сравнение, скажем, Мэри Осмонд с Мэй Уэст). Впрочем, можно предположить, что немалая часть местных доходов складывается из выручки от штрафов за превышение скорости: слава Колониал-Пайнз как ловушки для водителей-лихачей гремит по всему Восточному побережью от Бостона до Майами.
И все-таки каким же именно образом это сообщество белых, принадлежащих к нижней прослойке среднего класса американцев общим числом девятнадцать тысяч человек зарабатывает себе на жизнь? Где они находят деньги на покупку зеленых жалюзи, электрических газонокосилок и вездесущих американских флагов – это вопрос, способный заставить какого-нибудь демографа тщетно потратить целый месяц на попытки его разрешения. Однако, к счастью, нас это дело совершенно не касается.
Довольно того, если мы скажем следующее: Эллен Черри Чарльз родилась и выросла в городке Колониал-Пайнз, штат Виргиния, который она еще с самой колыбели возненавидела и, будучи совсем юной девочкой, тайно замыслила сбежать от неизбывной скуки, которая, по ее мнению, до сих пор витает удушливым облаком над этим местом. В конечном итоге, хотя и не без трудностей, ей все-таки удалось сбежать оттуда. Однако щупальца родного дома в равной степени и цепкие, и скользкие. Свидетельством того, что Эллен Черри еще не готова обрубить их полностью, были ее еженедельные телефонные звонки родителям. Такой звонок она и сделала в вышеописанный мартовский день.
– Привет! Это я!
– Дорогая! – воскликнула Пэтси. – Как я рада слышать твой голосок! Послушай, прежде чем мы начнем разговаривать, мне нужно одеться. Ты меня застала в тот момент, когда человек, так сказать, голый как сокол.
– Гол как сокол?
– А какая разница? Ты что, насмехаешься, как какая-нибудь фифа-янки, над тем, как я говорю?
– Нет, нет, мама! Голый означает, что на человеке нет никакой одежды. А гол – что на нем не то что одежды нет, но еще и жди чего-нибудь этакого.
Пэтси хихикнула.
– О Господи, малышка. Со мной и случилось что-нибудь этакое… Дело в том, что твой папочка занимался со мной тем, чем он имеет обыкновение заниматься в воскресенье днем. Насколько мне известно, те, кто балует этим своих жен не чаще одного раза в неделю, предпочитают исполнять супружеский долг субботней ночью, а вот твой папочка непременно должен отличаться от других ну хотя бы чем-то. Клянусь тебе, я уверена, это его проповеди Бадди так раскочегаривают. Ведь раскочегаривают же они добрую половину наших дамочек-баптисток. А может, это все из-за футбола, я не знаю. Он обычно сначала смотрит по телевизору футбол… Мне, конечно, не следует болтать с тобой на такие темы. Хотя с другой стороны, ты теперь у нас тоже замужняя женщина.
– Бумер великолепен, мама.
– Отлично. Откуда звонишь?
– Из какого-то городка, где устраивают родео. Где-то уже ближе к Айдахо. Народ обычно считает, что в таких городках вкусные гамбургеры, а коровы пасутся едва ли не на Главной улице. Но, честное слово, в здешних пирожках опилок даже больше, чем у нас в Колониал-Пайнз. Бумер уже умял две штуки и сейчас взялся за третий.
– А ты следи за ним. Не позволяй ему обрасти жирком.
Услышав эти слова, Эллен Черри посмотрела на закусочную, в которой она оставила своего молодого мускулистого муженька. Зеваки уже собрались поглазеть на огромную моторизированную индейку. Бумер стоял в самой гуще этой жиденькой толпы.
– Неужели, джентльмены, вас по-прежнему величают ковбоями? – спросил Бумер и с видом голодного волка, вгрызающегося в луну между второй четвертью и полнолунием, впился зубами в булочку с гамбургером.
Подросток, которому он адресовал свой вопрос, скорее всего был слишком смущен оказанным ему вниманием и не нашелся, что ответить. Поэтому тут же ухватился за возможность получше рассмотреть обувь незнакомца. Не иначе, как ему понадобилась к лету новая пара.
Один из зевак постарше, по-гусиному вытянув шею из воротника джинсового костюма, решил задать встречный вопрос:
– А как, по-твоему, нас следует величать?
Голос его звучал вальяжно и чуть манерно, как у сытого ужа, хорошо отобедавшего жирными мышками и лениво растянувшегося на груде камней под полуденным солнцем.
– Я думал, нынче ковбоев переименовали в служащих по надзору за коровами, – усмехнулся Бумер и захрустел последним листиком салата с капелькой горчицы. – Я где-то читал, – добавил он с набитым ртом, – что самое точное определение вашего брата звучит так: «грубый, невоспитанный викторианский сельскохозяйственный рабочий». Но, сдается мне, оно вряд ли к вам пристанет.
В телефонной трубке послышался топот ног.
– Уфф, – вздохнула Эллен Черри.
– Дорогая, подожди секунду, я сейчас на себя что-нибудь накину!
– Мама, кажется, мне пора закругляться. Нам нужно ехать. Прямо сейчас. Я люблю тебя. Пока.
Сегодня восхищение ковбоем как квинтэссенцией американского героя с большой буквы уже не столь распространенное явление, как это было когда-то. Путешествуя в обществе «служащих по надзору за коровами» по Вайомингу, Жестянка Бобов была вынуждена заметить, что если сравнить американского пастуха, скажем, с японским самураем, то сравнение это будет явно в пользу последнего. По словам Жестянки, «прежде чем вступить в бой, самурай обычно поджигал ладан в своем шлеме, чтобы его голова – на тот случай, если она достанется врагу, – оказалась бы приятной для обоняния. Ковбои – с другой стороны – практически никогда не мылись и не меняли одежду. Если противник самурая ронял меч, то самурай протягивал ему свой запасной клинок, чтобы можно было честно продолжить поединок. Ковбои любили стрелять своим врагам в спину, прячась в засаде. Ну как, уловили разницу?». Ложечка и Грязный Носок обычно диву давались, откуда Жестянке Бобов известно так много о самураях.
– Однажды мне довелось около месяца сидеть на полке рядом с коробкой импортных рисовых крекеров, – обычно следовал ответ Жестянки. – Общаясь с чужестранцами, можно почерпнуть премного полезных и любопытных сведений.
Впрочем, не будем забегать вперед в нашем рассказе. Мы остановились на том, что Бумеру и Эллен Черри пришлось до некоторой степени поспешно убраться из городка любителей родео. Между прочим, толпа зевак, оседлав табун японских грузовичков-пикапов, устремилась за индейкой в погоню и даже пересекла границу штата, углубившись миль на двадцать на территорию штата Айдахо.
* * *
После телефонного звонка Эллен Черри ее мать, до некоторой степени растерянная, зато только что вкусившая плотских утех, оделась, выпила чашку кофе и вышла на нагретое солнцем парадное крыльцо дома, чтобы предаться размышлениям. Ей хотелось еще раз поразмыслить над тем, а не совершила ли ее дочь ошибку, выйдя замуж за Бумера Петуэя, и что Верлин и его кузен Бадди Винклер вполне могли коварно вмешаться в жизнь Эллен Черри, но не в том смысле, что они подсунули ей Бумера, а вообще.
У Пэтси были свои планы в отношении дочери, и ее беспокоило то, что Верлин в принципе мог помешать их осуществлению.
Если ей удастся сделать в Нью-Йорке удачную карьеру на поприще искусства, то исключительно благодаря мне, подумала Пэтси. Она немного раздвинула полы халата, чтобы предзакатное весеннее солнце согрело ее между ног, откуда стекал ручеек мужской жидкости. В которой, как она иногда подозревала, утонула ее собственная артистическая карьера.
В юности Пэтси выступала на стадионах, где пластичными телодвижениями разогревала зрителей и подбадривала свою спортивную команду, мечтая посвятить свою жизнь профессиональному танцу. Почему бы и нет, ведь в пятнадцатилетнем возрасте ее избрали Грейпфрутовой Принцессой округа Окалуса! В семнадцать она познакомилась с Верлином, пилотом ВВС США, выпускником Пенсаколы, и выскочила за него замуж. Выйдя в отставку, Верлин перевез ее в Виргинию, где нашел себе работу инженера-строителя. Всю последующую часть своей жизни, пока муж находился на работе, Пэтси танцевала дома в миленьких беленьких сапожках.
Эллен Черри любила наблюдать за экзерсисами матери, однако вовсе не эти феерические танцевальные па обратили дочь к искусству. Скорее причиной тому стало головокружение. И Колониал-Пайнз.
Два раза в год семья на машине отправлялась во Флориду погостить у родственников Пэтси. Как нарочно, Эллен Черри плохо переносила эти поездки, ее жутко укачивало. Чтобы преодолеть тошноту, ей приходилось путешествовать лежа на спине на заднем сиденье микроавтобуса, устремив взгляд вверх. В результате она научилась воспринимать окружающий мир в совершенно ином ракурсе.
Телефонные столбы проносились мимо нее в виде петель. Она обычно сначала замечала подсветку рекламных щитов, затем их верхушки и только после этого размытое изображение: то мимо пролетал тающий ковбой «Мальборо», то разбухающий ломоть пирога. Постепенно Эллен Черри пристрастилась к экспериментированию. Начала играть в так называемые «зрительные игры». Прищуриваясь и контролируя степень прищура, она научилась добиваться перемещений в пространстве типа «фигура-земля». Фигура-земля, земля-фигура, туда-сюда, вперед-назад. Ей удавалось достигать эффекта цветовой слепоты. По ее желанию пейзаж на протяжении многих-многих миль мог оставаться, допустим, исключительно красным.
– Как чувствует себя папина дочурка? – обычно спрашивал с водительского сиденья Верлин. – Хочешь пи-пи?
Частенько папина дочурка оказывалась просто не в состоянии ответить на его вопрос. Папина дочурка была занята смещением фокуса, стараясь размыть или исказить нормальные ассоциативные отношения объекта и пространства, лишая их привычного смысла, перемещая их в ту в высшей степени таинственную сферу, что лежит между роговой оболочкой глаза и мозгом, чтобы потом забавляться там с ними, как душа пожелает. Параллельные линии электрических проводов под ее динамичным взглядом имели обыкновение пересекаться и нахлестываться друг на друга, утрачивая строгую свою последовательность, а промежутки между ними сжимались или растягивались. Это было особенно интересно в тех случаях, когда эту оптическую смесь взбалтывали птицы. Или же ей нравилось рассматривать само поле зрения, отказывая в благосклонности какому-нибудь центральному объекту вроде водокачки, либо отдавая предпочтение пространству, окружавшему эту водокачку, находя геометрические формы и содержание в тех его участках, которые мы обычно считаем второстепенными, пустыми и малозначимыми. Все это рассматривалось вверх ногами, сбоку, вкривь и вкось, когда тошнота подступала к горлу. Стоит ли удивляться, что теперь Эллен Черри довольно пренебрежительно отнеслась к занятию Бумера Петуэя – подсчету коров на горизонте?