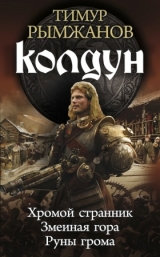
Текст книги "Колдун. Трилогия"
Автор книги: Тимур Рымжанов
Жанры:
Попаданцы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 50 страниц)
4
Петра в хижине не было. Он часто уходил, порой на несколько дней, я даже не беспокоился по этому поводу. К вечеру подморозило, и я решил прибрать в доме. Даже простенькая хижина на болоте без хозяйки быстро превращается в берлогу, и от этого становилось неуютно. Честно сказать, вся моя уборка больше напоминала распихивание по углам того хлама, что валялся под ногами, но в зачет шло хотя бы желание навести порядок. Я и дома у себя убирал так же и терпеть не мог, когда это делал кто-нибудь другой.
Чувствовал я себя хорошо. Свежий воздух бодрил, припорошенное снегом болото уже не казалось таким зловонным. Лес с непугаными лесными тварями, который в первые дни казался мне дремучим и заповедным, теперь больше напоминал центральный городской парк, где все было знакомо и понятно. Я уже очень хорошо научился ориентироваться в этой непролазной чаще, наконец запомнил дорогу через топь, хоть скоро и шарахнут морозы, и домик в лесу будет доступен с любой стороны – даже с берега реки можно будет добраться без проблем. Противоположный берег мной был еще совсем не изучен, так что на предстоящую зиму дел у меня было достаточно. В голове крутились наметки планов. Мне просто необходимо было перестать зависить от Петра и перестать злоупотреблять его гостеприимством. В зиму можно будет навалить достаточно леса, ровных и стройных сосен, чтобы уже весной начать строительство собственного дома. Мелькнула было мысль заняться производством кирпичей, но я вовремя сообразил, что ближайший строительный рынок остался в двадцать первом веке, и будь у меня даже миллион кирпичей, они ничего не стоят без цемента. Так что в любом случае придется готовиться пока к строительству деревянного дома, а там уж куда кривая судьбы вынесет. Соорудить кузницу придется, и даже по самым завышенным подсчетам сделать это будет не сложно. Болота здесь на руду богатые. В зиму займусь тем, что стану выжигать уголь да строить кричные ямы. Одному будет непросто, но, может, Петр изъявит желание принять участие. Даже если стану производить гвозди, уже смогу сколотить себе неплохое состояние, а так, были бы кости – мясо нарастет. Стоит только начать, а там дело само пойдет, материалом обзаведусь и рынок сбыта найду. Освоюсь с технологиями, стану делать вещи посложней.
Я валялся у очага, стараясь убедить себя поднять зад, натаскать воды и как следует помыться, но было откровенно лень. Тем более что процесс это непростой и довольно длительный. Пока воды натаскаю, пока дом нагрею, пока воду заварю. Да, воду приходилось именно заваривать. Странное, немного необычное, но все же весьма логичное действо было трудоемким. Для нагрева воды требовались большие камни, которые чуть ли не докрасна нагревались в очаге, а потом деревянными клещами опускались в кадку с водой. Железной или чугунной емкости, чтобы поставить на огонь и держать горячей воды всегда вдоволь, не было. А те кувшины, которые я делал, были максимум на три литра или чуть больше того. В печь для обжига сосуды большего размера просто не помещались, да и велика была вероятность, что кувшин лопнет. Не бывает так, чтобы у человека, который только наблюдал за работой опытного гончара, с первого раза получилось что-то путное. Разумеется, я не мог вспомнить всех нюансов, не учел каких-то обстоятельств. Не то что до совершенства, даже до нормальной, приемлемой работы было еще далеко.
Кстати, на общем фоне местных жителей, как деревенских, так и городских, я выделялся запахами куда более приятными. Банальная формула «ты то, что ты ешь» здесь выражалась явственно и наглядно. Одежда из натуральной кожи и шерсти, изо льна и крапивы невероятно легко впитывала запахи. Тесное общение с домашними животными, обработка шкур и мяса лесных обитателей, рыбы и птицы создавали, мягко говоря, весьма своеобразную картину запахов. С тех пор, как я был вынужден отказаться от курения, мой нос стал настолько чувствительным и восприимчивым к малейшим изменениям, что только и оставалось удивляться такому приобретению. Некоторые ароматы словно бы вернулись ко мне из далекого детства. Это было забавно и непривычно, помогало лучше изучить окружающий меня сейчас мир.
Мелкие снежинки задуло порывом ветра в отдушину на крыше, метель завыла, царапаясь в двери. Я подтянул несколько березовых поленьев, положил поверх углей в печи. Пусть будет жарко, пусть каменная кладка печи как следует прогреется.
За стенами дома что-то затрещало, будто ветка дерева чиркнула по двери. Я вскочил с настила у очага, ища взглядом топор. Лезть в тайник, где Петр держал мечи, мне показалось долгим и ненужным. За дверью скрипнули доски крыльца, раздался приглушенный грохот свалившихся поленьев. Медведь? Волк? Рысь?
Схватив топор, я ринулся к двери, но именно в этот момент она открылась, и через порог перевалился Петр.
Огонь в очаге забился, словно встревоженная птица в клетке, из темноты ночного леса в хижину ворвался снежный вихрь и какой-то пронзительный, колючий холод. Пальцы Петра вцепились в щель между досок на полу, он изо всех сил пытался встать, но единственного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, что теперь, когда он достиг цели, ему не удастся это сделать.
Одежда на нем была мокрой, бурой от болотной грязи и тины. Почерневшее лицо запорошило мокрым снегом, ноги еле двигались. По тесаным бревнам за Петром тянулся кровавый след вперемешку с комьями грязи.
Не очень-то отдавая отчет своим действиям, не обращая внимания на грязь и кровь, я подхватил тело и тут же перенес его поближе к очагу. Достав нож, я стал срезать с Петра мокрую одежду – снимать ее обычным способом было опасно. Он уже не понимал, что происходит, глаза закатывались под веки, тело тряслось от холода и болевого шока. Захлопывая за ним дверь, я увидел, что на пороге лежит копье, которое он всю дорогу нес с собой и бросил только на пороге дома.
Раны были ужасные. Мне не нужно было спрашивать, что произошло, и так все понятно. Первая рубленая рана тянулась от шеи до середины груди с левой стороны. Ключица сломана, задеты ребра. Вторая не менее серьезная рана находилась на правой руке, чуть выше сгиба локтя. Если первый удар был нанесен сверху вниз, то второй горизонтально, слева направо. Это не дикие звери его подрали, не медведь-шатун, который так и не залег в зимнюю спячку, и не стая волков. Это дело рук людей, вооруженных людей. Били не топорами, а клинковым оружием, и причем даже не мечами, а, судя по ране, саблями или, если быть точным, одной саблей. Как он умудрился нарваться на такие неприятности, я даже представить не мог.
– Петр, Петр! Твою мать! Ну как тебя угораздило?!
Схватив деревянные клещи, я выдрал из очага два больших камня, и бросил в кадку с водой. Затолкав ногой вывалившиеся угли обратно в огонь, я вывернул наизнанку свою сумку и вытащил зелья, что держал в сундуке. На глаза попалась хоть и сильно рваная, но все еще целая толстовка, та самая, в которой я оказался здесь впервые. Не раздумывая, я тут же изорвал ее на длинные лоскуты. Зачерпнув миской из кадки уже теплой воды, я стал промывать раны, добавляя в каждую новую порцию воды немного густой настойки подорожника. Перетянуть правую руку было несложно, я тут же наложил жгут. С левым плечом все оказалось намного сложнее. Подключичная артерия уцелела лишь чудом, но гематома, расползающаяся вокруг ребер и ключицы, не предвещала ничего хорошего. Кровь была темной, не артериальной, да и текла уже очень слабо. Ключица раздробилась на несколько крупных осколков, которые впились в мышцы, каждое прикосновение к ране вызывало у моего друга дикую, мучительную боль. Даже если сейчас же явится неотложка с бригадой реанимации, его шансы на выживание не увеличатся. Я не мог даже зашить рану, опасаясь, что его сердце просто не выдержит боли.
Разглядывая в свете огня флакончики со своими «ведьмачьими» снадобьями, я отложил те, которые будут совершенно бесполезными. Из тех, что могут пригодиться и хоть как-то облегчить его страдания, остались только три. Очень крепкий настой семян ландыша. На пару капель больше, чем необходимо и… он умрет, видя красочные сны. Крепкий полынный настой. Этот подействует не сразу, и смерть будет мучительной. И третий – настой мухоморов. Вот этот точно снесет крышу моему бедному другу, но хотя бы лишит болевых ощущений. Не зря я держал эти снадобья во флакончиках с красной меткой.
Капнув всего десять капель грибной настойки в кружку с холодной водой, я просто влил содержимое Петру в рот и зажал ему нос, чтобы тот смог проглотить эту отраву. Обрабатывать раны растворами и настойками не было никакого смысла, но я все равно продолжал это делать, не жалея для друга запасенных лекарств.
Я изодрал все рубашки, свои джинсы и майку, лишь бы как следует обработать и перевязать раны. Не знаю, сколько ему пришлось пройти по лесу в таком состоянии, но судя по его побелевшей коже и непрекращающейся дрожи, крови он потерял очень много.
Настой мухоморов действовал быстро. Хоть Петр был и слаб, и двигался с трудом, боли он наверняка уже не чувствовал. Переложив друга на настил, я зажег несколько масляных ламп. Достал крынку с остатками меда и, размешав его в густой сироп вместе с малиновой настойкой, опять влил ему в рот. Чуточку приподняв настил, я подложил поленья ему под ноги. Все. Максимум из того, что мог сделать, я сделал. Не стоило себя и его обманывать, рана была очень опасная, я больше не видел возможности как-то ему помочь.
Прошло часа три, может, чуть больше, но Петр так и не приходил в сознание. Я щупал пульс на руке и на шее, слушал его сиплое дыхание. За стенами завывала метель, ветер то яростно набрасывался на ветхую хижину, то затихал, оставляя в покое и без того чахлую хибару. Я не жалел дров, грел дырявое помещение как мог, но все равно было очень холодно. В какой-то момент я задремал, сидя на настиле. Проснулся от того, что Петр потянул меня за рукав.
– Бог шельму метит, варяг. Это мне, грешнику, наказанье.
– Кто ж тебя так отделал? Дружище! Кому поперек дороги встал?!
– Некого винить, Артур, я сам во всем виноват.
– Как же так, Петр?!
– Душегуб я и лиходей, вот как! На дороге торговый люд обирал, расправы лютые чинил. Поделом мне, грешнику. Тебе, зелейщику, хочу покаяться. Да будь рядом хоть кобник, ему бы покаялся! Грех на мне великий, варяг, души погубленные многие, невинные.
– Что это ты каяться решил, чудак человек, выхожу я тебя с божьей помощью. Замолишь еще грехи свои.
В ответ на это Петр только натужно ухмыльнулся и крепче схватился за мою руку.
– Зелья твои и так доброе сделали, я как дополз, чуть в болоте не утонул, так от боли онемел даже. Что уж ты мне за колдовское варево подсунул, не ведаю, только боли и вовсе не чувствую, только смертный хлад душу морозит, да сил нет даже двигаться. Слушай меня, варяг, на дальнем краю болота, что к реке ведет, вешка стоит, жердина тесаная. Как на гати той, что мы ходим, да только осторожней там, место топкое. Вкось от вешки пень, под корнями пня все добро мое припрятано. Как преставлюсь, ты меня на холме закопай, чтоб не в болоте гнить. Могилку мою заровняй да большим камнем привали.
– Поживешь еще, Петь, оклемаешься, не таких битых выправляли.
– Варяг, валыкай, на язык косой, я ведаю, что говорю, даст Бог, если до утра доживу, солнца свет в последний раз увидеть. А как схоронишь, добро мое прибери, да на доброе дело трать. Ты чужак в земле этой, как и я, и тебе, стало быть, за мной наследовать. Душу береги, отца не срами, сильным будь. За зелья твои чудесные низкий тебе поклон, в муках страшных не дал пропасть.
Петр сорвал с груди нательный крест, положил его поверх повязки на груди. Губы его совсем побелели, глаза стали бесцветными и влажными, пальцы почти не слушались.
– Как на холм меня снесешь, крест в могилу рядом положи, некрещеным родился – некрещеным помру. Хорос славный пусть судит да в огнях своих жжет. Грешный я! Грешный.
Он умер к полудню. Попросил еще грибной настойки, чтобы боли не чувствовать, да так и не допил.
Выходя из хижины, я еле открыл дверь – так крепко снега намело. Можно было не бояться, что по кровавому следу за ним придут обиженные им на дороге путники с подкреплением. Хоть места здесь глухие, а те, кто лес хорошо знает, быстро явятся. Пользуясь тем, что землю еще не прихватил мороз, я вырыл огромную яму на холме. Прежде мне еще никогда не приходилось хоронить людей. Во всяком случае, все делать самому. Могила получилась глубокая, широкая. Рыл ее, не заботясь о том, что уже и вылезти из нее сам могу с трудом. Туго обмотал тело Петра его одеждой, тулупом да ремнями. Уложил на дно ямы. В берестяной короб залил топленого гусиного жира, положил туда крестик, пару медных монет. Его нож закрепил у него на поясе. Не знаю, с чего вдруг взял, что так надо сделать, но в тот момент совершенно не сомневался. Крупные камни, те, что выворотил вместе с землей из ямы, я спустил на самое дно, обложил ими тело Петра, накрыл досками с настила и засыпал землей. Когда утрамбовывал сырую глину, снег повалил вновь, занося всю мою дневную панихиду.
До полуночи я жег вещи, окровавленные тряпки. Мыл дом от следов крови, от болотной грязи. К утру взялся колоть дрова, чтобы хоть как-то измотать себя и уже к вечеру, закрывшись в доме наглухо, лечь спать, не видя снов. Настроение было такое, что выть хотелось волком. Я понимал, что такая опасная специальность, как налетчик, до добра никогда не доводит. Рано или поздно все равно найдется кто-то не робкого десятка и сможет дать отпор. Как же наивен я был, думая, что Петр промышляет пушным зверем в лесах. Беличьи да лисьи шкуры были не больше чем умелой маскировкой. Он даже в город торговать шкурами шел со мной без боязни, не опасался, что его признают. Стало быть, свидетелей своего лихого промысла он не оставлял. Вот и понятно становится, что за нужда заставила его покинуть теплые края да податься в долгий поход через северные земли, дальше на восток, прочь от родных мест.
В свое время знал я ребят, сколотивших себе в дикие девяностые неплохое состояние именно таким способом. Случалось, что встречались мы через общих знакомых то в кабаке, то в бане, то просто на улице. Слышал я от них истории, да такие, что не каждая криминальная хроника озвучить решится. В сравнении с их «подвигами», одиночка Петр со своим злодейством казался чуть ли не праведником. Бог ему судья! Не стану думать плохо о том, кто приютил меня, обогрел, обучил всем здешним устоям и обычаям, предостерег от глупостей. Единственный, кто принимал меня таким, как я есть, кто не бросил в трудную минуту. Человек, которому я был многим обязан. Теперь его нет, и мне предстоит самому решать, что дальше делать, как быть. А спросит кто о моем товарище, так мне в молчанку играть не впервой, включу дурочку – не знаю, не ведаю, был такой, да куда делся, не имею понятия. Моя хижина, один тут живу, никому ничего не должный. Прописку в этой глуши с меня спрашивать некому.
Судя по всему, дом, который мне достался в наследство, для зимовок предназначен не был – не больше, чем простое охотничье укрытие. Забыв про все свои планы, я только и делал, что остервенело гнал самогон, заготавливал спирт, да время от времени выбирался в лес, когда за мхом, когда за корой или к речке за рыбой. Тот небольшой схрон, что указал мне Петр, оказался набит всякого рода пожитками, оружием, серебряными и золотыми украшениями, железом, бронзой. Я подстраховался и, чтобы не оставлять в лесу следов к тайнику, просто перенес все содержимое в хижину и спрятал в подпол. Некоторые особо приметные золотые предметы и украшения я переплавил в слитки, не заботясь об их художественной ценности.
Порой от одиночества хотелось реветь диким зверем, но я не мог переступить в себе какую-то грань, собраться с духом и опять отправиться в город. Припасов было достаточно. В деревне, находившейся в десятке километров от болота, всегда можно было купить и зерна, и мяса, и овощей. По лесу я бродил с сулицей, не той, с которой меня встретил Петр в первый день нашего знакомства, а с той, что хранилась в тайнике. Этой сулицей я однажды, в конце декабря, забил кабана, а сулицу сломал – оторвалось крепление. Так вышло, что по неопытности забил я его не ближе к дому, а как раз километрах в двух от деревни.
Вот с этой-то добычей я и явился в знакомое селение, где жители меня уже знали.
У колодца мне встретился дед Еремей, пару раз сторговавший мне ржаное зерно.
– Никак хряка забил?! – спросил он, глядя на меня из-под опушки кургузой шапки.
– То его вина, дороги не уступал.
– Оно и видать, что коса на камень, бык на быка в бока рога.
– У тебя семья большая, Еремей, помоги съесть добычу.
– Во двор волочи, я пойду метелку выломаю, след замету. Сдюжим твоего хряка.
В доме у Еремея мне очень нравилось. Изба казалась очень теплой, уютной, хорошо сделанной. На всю округу дед славился тем, что был знатным плотником. Дома рубил, учеников держал. Из самой Рязани ему в подмастерья отроков приводили. На вид старику было лет шестьдесят. В доме еще молодая женщина лет двадцати трех, не больше, и трое ребятишек: двое сорванцов, погодков лет пяти да девчонка лет трех. Ученики Еремея жили в доме священника и приходили к нему только днем.
Вдвоем с дедом мы занесли кабана в хлев, подвесили на деревянной распорке. Час занимались разделкой туши.
– Молодая у тебя жена, дед Еремей. Небось, все мужики в деревне завидуют.
– Вот скажешь тоже, Аред. Тьфу на тебя! Куда мне с такой молодой бабой совладать. Сына моего покойного женка, Ефросинья. Внучат моих мать. Вдовая она, моим хлебом жива.
– А что же сын твой?
– А как с Рязани гарь сошла, так и подался он в строители – княжий ключник Ефим тогда зазывал стены ставить, – да не уберегся. Бревна со сплава брал, его и подвалило. Пока все бревна вынули, закрепили, он уж и захлебнулся.
Прищурив один глаз, дед посмотрел на меня и ехидно улыбнулся.
– А ты к чему спрашиваешь, уж не позарился ли?
– Да что ты, подумал только, что твоя жена такая молодая.
– Сидишь у себя на болоте сычом, лихо терпишь. Мужики в ту топь и не ходят даже. Бабы про тебя, Ареда, худое говорят. Ходит слух, что в Черемных горах, где обезова пристань, ходил волк да люд драл. Сказывали, что Аред-валыкай с болот оземь бьется и в волка оборачивается.
– И ты в эти сказки веришь?
– Я-то вижу, что ты хряку в бок сулицу пихнул, а сюда пришел только с добычей. А кто видел, так и решат, что загрыз кабана.
– Ох и суеверный же вы народ! Ну и загрыз если, тебе-то, старику, на кой мне его нести?
– А вот потому и нести, что вдовая баба у меня в доме.
– Да, тут ты прав, это я как-то не подумал, да и не знал я.
– Коль Аредом слывешь, то и знать должен был.
– Да Артур мое имя, а не Аред.
– Имя твое мне неведомо, да вот только аредом у нас зовется тот, кто злое помышляет, людей сторонится, ворожит, требища да храмы стороной обходит. Да при стати твоей – бобыль к тому же. Росту в тебе аршин, вон, на Давыда-бортника свысока смотришь, а он, Давыд-то, в княжьей рати сотником был, быка наземь валил да треножил.
– Да уж, силой да ростом меня Бог не обидел, только проку-то? В дружину я не охочий, в ремесленники тоже не пришелся. Василь, кузнец рязанский, чуть ли не взашей из кузни выпер. А что до баб, так я и подойти боюсь. А ну как жена чья окажется, опозорю и ее, и мужа, наживу себе лиха. Не ведаю я, как строго у вас с этим делом, вот и сторонюсь от греха подальше. Вот как лед сойдет, двинусь вверх по реке, в Москву иль в Коломну.
– Ты смотри, как бы тебя до весны люд не достал, они хоть и стороной болото обходят, твой след легко видят, куда ходил, что делал, все про тебя знают.
– Вот ведь партизаны! Им любопытство, а от болот все зверье распугали!
– Много волчьих следов у болот твоих. Вот на тебя и думают. В тех краях топь пропащая, только в крепкий мороз и можно пройти.
– Да уж, везет мне как утопленнику, клички да погоняла ко мне так и липнут.
– Да уж и про твой меч, что ты выковал, слух ходит. Поговаривают, что Василь, когда его за тобой доделал, при люду на воротах гвозди срубил. В монахи он нынче подался, Василь-то, его кузница при дворе епископа у боярина за долг взята.
– Ну, Еремей, ты как информационное агентство! Тебе бы диктором на радио работать в службе новостей.
Дед только выпучил глаза, а я, громко смеясь, представил себе, как голос Еремея звучит в радиоприемниках. Это я уже привык к здешней речи, научился произносить слова, хорошо понимаю смысл. А в двадцать первом веке такие дедовские байки будут восприниматься как иностранная речь или откровенный стеб вперемешку с воровской феней.
Несмотря на все то, что дед наговорил, относился он ко мне неплохо. Старый, мудрый партизан давно понял, что чужаку непросто привыкнуть и устроиться. Вот и не верил во все те небылицы, которые народ сочинял. Он и Аредом-то называл меня больше по привычке, мое настоящее имя местные даже не трудились выучивать да выговаривать.
Мы разделали кабана, прибрали в хлеву. Я уж было собрался выпросить у деда еще полмешка зерна да уйти, как Еремей сам пригласил меня в дом.
– Время позднее, дед, что люди подумают, если я у тебя останусь? – запротестовал я.
– А что они обо мне подумают, если я тебя одного в ночь отпущу на болото?!
– Да первый раз, что ли? Снег кругом, луна, светло как днем.
– Да не кобенься ты, валыкай, ужин стынет, ступай уже в клеть. У меня гости не часто бывают. Кто ни явится, в первую очередь в дом Давыда и правят. У него и двор больше, и четыре девки на выданье. Холопов полста да няньки с бабками.
Даже в доме у Еремея я чувствовал себя немного неуютно. Мне внове были все здешние традиции и обряды – деревенские устои на стыке языческих обрядов и недавно пришедшего христианства. Даже в музеях, в реконструированных избах, я не видел ничего подобного. Дом Еремея был очень хорош. В двадцать первом веке такой бы оценили по достоинству. Бревна все как на подбор, подогнаны идеально. Ни одна половица не скрипнет, ни одна балясина на перилах не шатнется. И это все без единого гвоздя, без клея. Да, к началу третьего тысячелетия мастера обмельчали.
Время было уже позднее, за полночь, когда мы с дедом наконец наговорились. Уж давно мирно спали и дети, и Ефросинья. Еремей проводил меня через сени к сеновалу. Там было на удивление тепло и очень приятно пахло. Скот хоть и находился здесь же, почему-то совершенно не беспокоил.
Я никогда в своей жизни еще не спал на сеновале. За то время, пока мы сидели в светелке, моя одежда высохла, нагрелась, и поэтому ложиться спать мне было вполне комфортно. Я поднялся наверх, утоптал себе уютный пятачок, удобно устроился, укрывшись балахоном, который носил вместо овечьего тулупа, невыносимо жаркого и неудобного, и почти сразу уснул.
Проснулся от того, что в стороне от большой клети зашуршало сено. В какой-то момент я подумал, что это крысы или кот охотится. Но нет, в тусклом свете, попадающем на сеновал через единственную отдушину, мелькнула фигура человека.
Ефросинья оказалась очень молчаливой и весьма настойчивой. Она не тратила времени на слова, не жаждала комплиментов. Истосковавшаяся по мужской ласке, она сама была готова исполнить любую прихоть. Я не стал гнать ее прочь, в конечном счете, мне самому было уже невмоготу терпеть одиночество и воздержание. Часа два мы так и не сомкнули глаз. Она что-то шептала мне на ухо, но я не мог разобрать слов, был словно под воздействием сильнейшего наркотика, как под гипнозом, под действием колдовских чар, как послушная марионетка. Лишь под утро я немного отошел от этой затянувшейся эйфории. Запомнил только ее долгий и страстный поцелуй, горячий, ароматный. Она бесшумно накинула длинную рубашку и, словно привидение, скользнула обратно вниз. Я слышал, как поленья, ритмично постукивая, укладывались в охапку на сгиб локтя. Тихонько хлопнула дверь, из светелки вырвался поток теплого воздуха. Где-то за стеной громыхнула кочерга, выгребая из топки угли.
Поспать удалось всего час или полтора, но и этого казалось более чем достаточно. На улице было еще темно. Забеспокоились птицы, заорал, как ошпаренный, петух, а за ним и прочая скотина встрепенулась, забеспокоилась. Я тихонько встал, накинул одежду и поспешил спуститься вниз.
Дед Еремей сидел у ворот скотника и правил топор.
– Ефросинья тебе в дорогу хлеба испекла, я ночь за мясом в горшке приглядывал. Ты хоть поспал самую малость? – спросил дед заботливо и добродушно.
– Да, спасибо тебе, дед.
– Тебе спасибо, Аред. Ступай с миром, – дед улыбнулся и добавил после короткой паузы: – Родится внук, в память о сыне, Игорем величать стану, а коли внучка, пусть Ольгой будет, в твою честь, варяжских кровей.
Из деревни уходил хоженой тропинкой. Помня слова деда о том, что местные охотники мои следы примечают, я решил поиграть с ними в прятки. Пусть поломают себе голову, напрягут умишко, изучая все исхоженные мной шкуродеры да чащобы, пока не выйду на большую дорогу. Зима была снежной, но не холодной, и очень сухой. Мороз пощипывал, но не лютовал. А если двигаться, держать бодрый шаг, так и вовсе не чувствовалось холода. Я прошел через замерзший ручей, поднялся по тропе на пригорок, попетлял немного в овраге, перепутав несколько заметных следов, и сразу же вышел на большую дорогу. К тому моменту, как я миновал уже знакомую вешку, где обычно поворачивал в лес к своей хижине на болотах, солнце уже поднялось, озаряя ярким светом заснеженную равнину.
Не знаю, как так получилось, но ноги словно бы сами собой понесли меня в сторону Рязани. Дорога была наезженная, заметная. В некоторых местах, не так, как летом, резко уходила в сторону прямо на лед реки, как бы огибая перелески. Я держался проторенной колеи: идти по глубокому и рыхлому снегу напрямик было неудобно.
Идя неспешным шагом, скинул капюшон башлыка, чуть распустил намотанные вокруг шеи, будто шарф, длинные хлястики. Никуда не торопился, понимал, что еще к полудню успею попасть в город. Вдыхал морозный воздух, будто в первый раз видя зиму, наслаждался чистотой и первозданностью этих мест. Казалось, что никогда в жизни не видел такого белого снега, такого синего неба. Уже наметанный глаз отмечал на снегу звериные следы, суету птиц на деревьях и в небе. Дорога петляла через лес, по просеке, вдоль холма. Иногда попадались на глаза свежие вырубки, недавние кострища лесорубов.
За все то время, что я жил в этом времени, из меня будто бы вытравились привычки, нажитые в цивилизованном мире. Я как-то очень легко забыл, что такое городская суета, автомобили, самолеты, сотовая связь, компьютеры, телевидение. Все это казалось какими-то игрушками, дорогими забавами. Помню зиму в городе. Вечная слякоть, снежная каша вперемешку с соленым реагентом и гранитной крошкой. Неистребимый гололед на асфальтированных дорогах, влажная морось, грязная серая взвесь, повисшая в воздухе ядовитым туманом. Суета, толкотня. Всюду неуютно, зябко. Хочется быстрей проскочить сквозь эту отравленную атмосферу, чуть ли не задержав дыхание, забиться в теплый угол дома или мастерской и, с удовольствием вмазав сто грамм, завалиться спать.
По этому сияющему солнечными бликами снегу хотелось идти не останавливаясь, забыв про бессонную ночь, про усталость. Как чудесный нектар пить свежий воздух, не вдыхать, а пить! Ароматный, бодрящий, терпкий от распаренной на солнце хвои сосен.
Впереди, далеко за густым ельником, звякнули бубенцы. Послышались приглушенные выкрики, храп лошади. Если это те дровни, по следам которых я шел, то у меня есть шанс нагнать задержавшегося в пути возницу и убедить его взять в попутчики до крепости. Дорога здесь одна единственная, и если он не сильно перегружен, отказать не сможет. Я заходил с подветренной стороны, спускался с пригорка и уже даже видел сквозь густой ельник людей, суетящихся на опушке.
Лошадей из саней выпрягли, отвели к ельнику. Четверо возились возле дровней, двое что-то перебирали в мешках, чуть в стороне от дороги.
Завидев меня, бредущего к ним по дороге, один из тех, кто возился с мешками, громко свистнул. Остальные замерли, будто играли в игру «фигура замри». Я тоже остановился, чуя, что оцепенели они неспроста.
Двое ринулись ко мне по дороге, на ходу вынимая из ножен кривые сабли. Один устремился наискосок от ельника, у этого в руках был косарь наподобие мексиканского мачете.
– И вам тоже доброе утро! – сказал я громко, скидывая с плеча сумку.
Чуть зазевавшиеся, те, что оставались у саней, похватали колья и тоже устремились ко мне.
– Что? Шестеро на одного? Ого!
Стремительно допрыгав по глубокому снегу, первая троица затормозила где-то в пяти метрах от меня, несколько обескураженная. Зрение подвело их, сыграв злую шутку. Разумеется, издали я казался меньше, а когда они приблизились, то поняли, что смотрят на меня снизу вверх. Ума не приложу, о чем думали эти чумазые оборванцы, очертя голову бросившиеся на незнакомца. Хотели убить? Ограбить? Так убивайте, коль взялись! Держишь оружие, так бей, нечего у меня перед носом махать! Как-то даже неловко было раскидывать этих налетчиков. Мелкие, немощные, такое впечатление, что первый раз в жизни взявшие в руки холодное оружие. Без церемоний, короткими и резкими ударами, я кого-то складывал пополам, кого-то просто утаптывал в снег. У меня не то что беспокойства, даже опасения за собственную жизнь не было. Ребята попались какие-то недокормленные, хилые, хоть и рьяные. Пока подоспела вторая тройка с колами, первые уже корчились в снегу, завывая и плюясь кровью. Второй смене досталось похлеще. Стоило только у одного отобрать заточенный кол, как всем остальным тут же влетело по первое число! Так навалял, что даже жердину березовую переломил пополам. Один гад умудрился подобраться достаточно близко, чтобы я, уже не очень соизмеряя силу, саданул ему по болевой точке на шее. Обычно от такого удара встают очень нескоро. Остальные что-то выкрикивали, судя по тону, осыпали меня проклятьями, но я не понимал ни слова. Это был не тот язык, на котором говорили речные люди, встреченные мною летом на пристани, а какой-то гортанный, совершенно незнакомый. На первый взгляд, эти налетчики мало чем отличались от местных мужиков. Такие же бородатые, чумазые, вонючие. Добивать их не было необходимости, они больше не пытались лезть в драку, просто корчились, сплевывали выбитые зубы, прижимали к рыхлому снегу разбитые лбы. Ребятам сильно повезло, что у меня было хорошее настроение и под рукой не оказалось холодного оружия. Иначе волкам да лисицам было бы чем полакомиться.
Хотя теперь возникла другая проблема: что мне делать со всей этой шайкой? Тщательно обыскав их зловонные лохмотья на предмет скрытых ножей и прочего оружия, я подхватил обломок дрына и стал, как баранов, сгонять бандюг поближе к саням. Того, что валялся без сознания, поволок за ногу. Привязанная в ельнике лошадь затопталась на месте, настороженно косясь в мою сторону. Вся поклажа на дровнях была разворочена, перевернута. Среди барахла нашлась небольшая веревка. Если не наматывать много узлов, ее должно было хватить на всех шестерых. Уж что-что, а связать как следует я мог очень умело. Лишь когда возился с последним, тем несчастным, что нарвался на болевой удар и до сих пор валялся на снегу, я сообразил, что дровни и лошадь не могли свернуть с дороги сами собой. Уложив всю эту братию на снег, подальше друг от друга, я прошел глубже в лес и почти сразу обнаружил того, кто, собственно, и стал добычей этой «крутой» банды. Тело с раскинутыми руками и ногами лежало в снегу лицом вниз. Переворачивая его на спину, я боялся, что моему взору предстанет ужасная картина: перерубленное горло, рассеченный череп или вспоротые грудь или живот. Но нет. На лбу у возницы виднелась только заметная ссадина. Резанных или рубленных ран не было. Его огрели дубиной по голове, сбросили с саней и оттащили в сторону. Мужик был жив, дышал, и пульс прощупывался явно, ровный, упругий. Я выволок его на дорогу и уложил на сани. Один из нападавших вдруг встрепенулся, что-то быстро затараторил, гневно краснея, но единственный удар под дых надолго лишил всех шестерых желания вякать в моем присутствии на незнакомом мне языке.








