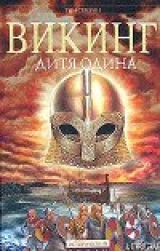
Текст книги "Дитя Одина"
Автор книги: Тим Северин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
ГЛАВА 9
Когда мы вернулись в Гренландию, в Браттахлиде нас встретили довольно холодно. Все посчитали, что поход наш оказался лишней тратой сил и лучше было бы нам сидеть дома. Такой прием не понравился Торфинну и он сказал, что пробудет в Гренландии всего несколько месяцев, а потом вернется в Исландию, к своей семье в Скагафборде, и поселится там с Гудрид и их двухлетним сыном. На этот раз меня с собой не брали.
Гудрид меня бросила – во всяком случае, так мне казалось, – и из моих наставников остался один иссохший морщинистый Тюркир, и сам я стал угрюм и неуживчив. Нелюдимость моя еще усилилась, когда, вернувшись из Винланда в Браттахлид, я обнаружил, что за три минувших года растерял друзей детства. Эйвинд, Храфн и остальные росли вместе, а меня с ними не было. Поначалу им были любопытны мои рассказы о жизни в Винланде, но вскоре их интерес к тому, что я видел или делал там, угас. Они всегда считали меня странноватым, а теперь решили, что от одинокой жизни в Винланде, где у меня вовсе не было сверстников, я вовсе одичал. Между нами осталось слишком мало общего.
В итоге я сам начал пестовать свою потаенную тоску по Винланду. Опыт, приобретенный на чужой земле, помог мне понять самого себя. И мне очень хотелось вернуться туда.
Самым удивительным образом возможность вновь побывать в Винланде предоставил мне человек, от которого я меньше всего ожидал этого, – моя тетка Фрейдис. За время нашего отсутствия она из девятнадцатилетней пройдохи превратилась в женщину властную как внешне, так и по уму. Она заматерела, стала статной, пышной, полногрудой, с мощными руками и мясистым лицом, скорее мужским, чем женским. У нее даже появились тонкие светлые усики. Столь отталкивающая внешность не помешала ей выйти замуж – за бесхребетного болтуна по имени Торвальд, владельца маленького хутора, располагавшегося в месте, называемом Гарда. Как и большинство тамошних жителей, он страшился норова Фрейдис, ее бешеной переменчивости и приступов темного гнева.
Фрейдис, никогда не упускавшая возможности напомнить людям, что она дочь первого гренландского поселенца, забрала в голову, что Торфинн и Гудрид по собственному их неумению не смогли обосноваться в Винланде, и что у нее, Фрейдис, это получится лучше. Она столь страстно толковала об этом, что к ней стали прислушиваться. Зимовье Лейва, говорила Фрейдис, пока еще принадлежит ее сводному брату, а стало быть, род Эйрикссонов, твердила она, должен вновь использовать это владение и преумножить его, и ни один человек, кроме нее, этого сделать не сможет. Она приступила к моему отцу с просьбами позволить ей снова занять эти дома. Лейв отвечал уклончиво. Он уже решил, что не станет тратить ни людей, ни припасов на Винланд после столь неудачного вложения их в предприятие Торфинна. Поэтому он отделался от Фрейдис обещанием, что одолжит ей эти постройки и даже семейный кнорр, но на том условии, что она сама наберет команду. Однако никто и ничто не могло остановить Фрейдис, коль скоро она принималась за дело.
К общему удивлению, Фрейдис обзавелась не одной командой, но тремя, да еще и вторым кораблем. Вот как это случилось: весной после нашего возвращения из Винланда в Браттахлид из-за моря пришел корабль, принадлежавший совместно двум братьям-исландцам, Хельги и Финнбоги. Это был самый большой кнорр, какой мы только видели, такой большой, что мог нести на борту шестьдесят человек. Хельги и Финнбоги решили перебраться в Гренландию и привезли с собой всех своих домочадцев, добро, скот и домашнюю утварь. Разумеется, оба брата пришли к Лейву, чтобы испросить у него совета, где им поселиться. Однако Лейв не очень-то обрадовался новоприбывшим, ибо слишком хорошо понимал, что эти исландцы – люди буйные. Как в свое время Эйрик Рыжий, они бежали из Исландии от ярости кровной вражды, приведшей к нескольким смертям. Троих из них уже обвинили в убийстве. Лейв прекрасно представлял себе, какие ссоры и распри пойдут, когда вновь прибывшие после безуспешных попыток осесть на пограничных землях начнут потихоньку подвигаться к лучшим землям, поближе к воде. По сему случаю мой отец, приняв обоих братьев по видимости гостеприимно, весьма тревожился, как бы они не задержались надолго. Он посоветовал им плыть вдоль берега на север и подыскать там новую землю – и чем дальше от Браттахлида, тем лучше, думал он про себя.
В этом опасном деле, пока Лейв пытался как-то избавимся от незваных гостей, а исландцы стали проявлять недовольство, Фрейдис, прирожденная интриганка, нашла свою пользу. Они примчалась из своего дома в Гарде и явилась к Хельги и Финнбоги.
– Я собираю людей для походи в Винланд и займу там зимовье Лейва, – сказала она им, – Почему бы вам не присоединиться ко мне? Там полно хорошей земли, которую я смогу дать вам, как только мы устроимся.
– А опасность от скрелингов? – спросил Финнбоги. – Мы слышали, что Торфинн Карлсефни считает, что ни один норвежец не сможет удержаться в Винланде по причине враждебности скрелингов.
Фрейдис отмахнулась.
– Карлссфки оказался трусом, – сказала она. – Все его разговоры об опасности со стороны скрелингов и о том, что их слишком много, – просто предлог для сокрытия того, что и он, и его люди ни на что не годятся. Если вы присоединитесь ко мне, нас будет достаточно много, чтобы скрелинги остереглись нападать.
Она предложила Хельги и Финнбоги взять с собой три десятка поселенцев. Столько же возьмет и она. А вместе их силы будут скрелингам не по зубам. У нее уже был список охотников на это дело из Браттахлида и Гарды – в основном ее закадычные друзья, парочка недовольных и несколько неудачливых хуторян, которые нечего не теряли, присоединившись к Фрейдис. Мне же она по-прежнему была не по душе, а доверял я ей еще меньше прежнего, но мое имя тоже значилось в списке. Противу всякого здравого смысла, будучи недоволен и тоскуя по Винланду, я вызвался отправиться со своей теткой. Ни я, ни мой отец Лейв никак не думали, что Фрейдис удастся организовать настоящий поход, а когда она преуспела в этом, я побоялся сказаться трусом, отступив в последний момент. В этом решении сказалась и моя незрелость. В двенадцать лет я был переменчив и упрям. Уйти с ней в поход представлялось мне единственным способом сбежать от тревоги, терзавшей меня с тех пор, как Гудрид с Торфинном уплыли в Исландию, а мне осталось, как я полагал, прожить всю жизнь в тесных пределах Браттахлида. Вновь во мне ожила жажда странствий, которую вложил в меня Один.
И вот в третий раз почтенный кнорр Лейва отплыл в Вин-ланд – тот самый корабль, десять лет назад спасший меня, младенца, в шхерах. Как будто моя судьба была накрепко связана с этим судном, впрочем, к этому времени сильно потрепанным и обветшалым. Мачта, сломанная шквалом, была скреплена тяжелыми планками. Остов, явно просевший в середине, не вызывал доверия. Доски во многих местах прогнили или проломились, и по нехватке в наших краях хорошего леса их заменили короткими обрезками, так что залатанные борта выглядели нелепо. Даже заново проконопаченный и оснащенный, кнорр мало годился для открытого моря, и как только мы отплыли на запад, мне пришлось не только выгребать навоз, но и вместе со всеми трудоспособными мужчинами вычерпывать каждые четыре часа воду, дабы удержать судно на плаву. Другой корабль, плывший с нами, большое новое исландское судно, ничем не помогал нам. С самого начала в этом походе совершенно не было дружества. Когда мы ложились в дрейф, чтобы ведрами выкачивать воду за борт, мерзавцы с большого кнорра подходили поближе только для того, чтобы посмеяться над нами.
Тюркир с нами не пошел. Он наконец-то обрел законную свободу – освобождение от рабства. Приверженец старых обычаев, он отметил получение вольной должным образом: добыл побольше зерна и солода и сварил котел пива, потом пригласил всех Эйрикссонов и их детей в старую запустевшую хижину Торвалля Охотника, в которой теперь поселился. Все собрались, он, как должно, поднес моему отцу Лейву первый рог свежесваренного пива и краюху хлеба с солью, добытой из сожженных морских водорослей. Потом он обошел с пивом, хлебом и солью остальных старших членов семьи, одного за другим, и они объявили его свободным человеком, самому себе хозяином, и поздравили его. И вот что примечательно – Тюркир, похищенный в юности и проживший всю жизнь вдали от родной "Германии, был воистину взволнован и счастлив. Когда обряд завершился, он повесил этот пивной рог за кожаный ремешок на гвоздь у двери своей хижины, как горделивое свидетельство того, что теперь он человек свободный.
Ничем подобным не было отмечено прибытие наших двух кнорров к зимовью Лейва. С тем же успехам исландцы и гренландцы могли бы приплыть туда врозь. На берегу между ними все время шел раздор. Все началось со спора о том, кто должен занять длинный дом, построенный Карлсефни. Хельги с Финнбоги хотели занять его, но Фрейдис возразила, что все постройки, в том числе и коровник, принадлежат ее семье, и она по праву всему хозяйка. Кроме того, заметила Фрейдис, она вовсе не предлагала исландцам жилье, но только возможность поселиться здесь. Если им нужен кров, они могут построить его сами. Люди Хельги и Финнбоги пришли в такую ярость, что готовы были тут же вступить в бой. Но передумали, подсчитав, сколько человек взяла с собой Фрейдис. Оказалось, что Фрейдис их обманула. Людей у нее было больше – вместо тридцати человек, как было договорено, она взяла на корабль еще пятерых, самых что ни на есть буйных во всем Браттахлиде. Так что исландцам пришлось выстроить себе два длинных дома, чтобы было где жить с их женами и детьми, а гренландцы им, разумеется, не помогали. Те трудились на стройке, а эти рыбачили, охотилась и ходили за скотиной. И теперь уже гренландцы насмехались на потеющими исландцами.
Так обычное себялюбие породило откровенную злобу. Люди Фрейдис не только не пособляли исландцам строить дома, но даже и орудий для строительства не желали им одалживать. Больше того, они требовали платы за рыбу и дичь, добытую ими, говоря, что кормят исландцев в счет будущих доходов. Скоро они вовсе перестали разговаривать друг с другом, и гренландцы нарочно задирали исландцев, заигрывая с их женщинами и отпуская непристойные шутки. Торвард, муж Фрейдис, были слишком слаб и нерешителен, чтобы прекратить это, а сама Фрейдис явно одобряла это неразумное противостояние.
Я же стоял в стороне от всего этого. Я не желал принимать участия в разжигании распри и тогда только начал понимать, что чувствовал Торвалль, когда разгорелась вражда между христианами и приверженцами старой веры. Неизменная склонность к кровопролитию присуща северянам. Коль скоро кто из них встретит неуважение к себе, или ему только покажется, что его не уважили, он никогда этого не забудет. Ц коль скоро он не получит удовлетворения сразу же, то будет пестовать свою злобу до тех пор, пока все остальное в его жизни не померкнет перед нею. Он станет обдумывать месть, искать сторонников для этого дела и, в конце концов, осуществит его.
Чтобы не дышать воздухом, отравленным злобой, стал я надолго уходить в леса, говоря, что иду на охоту. Однако же редко возвращался с иной добычей, кроме собранных мною диких плодов и кореньев. Я бродил вдали от жилья по два-три дня кряду, но отсутствия моего почти не замечали. Все были слишком заняты собою. Во время одной из таких вылазок, идучи в сторону, куда я прежде никогда не ходил, я вдруг услышал некий звук, смутивший меня. То были негромкие, несмолкающие, размеренные постукивания. На это звук я и двинулся по оленьей тропе через густой подлесок – мне было скорее любопытно, чем страшно. Вскоре я почуял запах дыма от костра и, выйдя на небольшую поляну, увидел, что дым поднимается из большой груды веток, наваленных у ствола высокого дерева на другом конце поляны. Вглядевшись, понял, что эта куча веток на самом деле – шалаш, и звук доносился из него. Я наткнулся на скрелингов.
Ныне, представляя себе все это, я понимаю, что любой другой потихоньку отступил бы обратно, под защиту подлеска, и поспешил бы убраться от жилища скрелинга как можно дальше. Но тогда эта мысль не пришла мне в голову. Напротив, я вдруг ясно понял, что должен идти вперед. Еще я понял, что со мной ничего худого не случится, коли я так поступлю. А то, что подобное ощущение неуязвимости, смешанной с любопытством и доверием – дар, данный мне от природы, я смог осознать много позже. Тогда же я просто не почувствовал ни тревоги, ни страха. Зато по ногам пробежало странное оцепенение, подобно, как если бы я перестал их чуять, и в то же время они двигались помимо моей воли. Они повели меня через поляну прямо ко входу в хижину, там я нагнулся и пробрался вовнутрь.
Внутри шалаша было полно дыма, и, выпрямившись, я оказался лицом к лицу с маленьким худым человеком, который стоял, размахивая из стороны в сторону какой-то трещоткой. Она-то, эта трещотка, и производила то размеренное постукивание, которое привлекло меня. Человеку было лет шестьдесят, хотя, возможно, я и ошибся, потому что он слишком отличался от прочих людей, мною виденных. Ростом он был не выше меня, узкое лицо его, темно-коричневое и морщинистое, обрамляли длинные, гладкие черные волосы, свисающие до плеч. Вся одежда на нем, от куртки до башмаков, была из оленьей кожи. Но прежде всего бросалась в глаза его невероятная худоба. Руки, запястья, торчащие из рукавов грубой куртки, и лодыжки – совсем как палки. Он поднял глаза на меня, но выражение его узких коричневых глаз не изменилось, когда он посмотрел мне прямо в лицо. Мне почудилось даже, что он ждал меня, либо знал, кто я. Один долгий взгляд, и он опустил глаза, вновь устремив их на тело второго скрелинга, который лежал на ложе из веток и был, очевидно, очень болен. Тот тоже был одет в звериные кожи и укрыт одеялом из оленьей шкуры. Хворый был, похоже, без сознания и прерывисто дышал.
Не могу сказать, сколько я там простоял. Время будто остановилось под завораживающий звук скрелинговской трещотки, и сам я впал в состояние полной расслабленности. Я тоже смотрел на больного. И вот, пока я смотрел на распростертое тело, что-то странное стало происходить с моими чувствами. Как будто я прозревал сквозь несколько тонких завес внутрь тела этого человека и, сосредоточившись, мог отодвинуть одну занавесь за другой и двигаться дальше, заглядывая все глубже и глубже, минуя внешнее, в самую его утробу. По мере того как завесы исчезали, зрение мое все больше напрягалось, пока я не вынужден был остановиться. И тут я понял, что заглянул столь глубоко в больного скрелинга, что различаю внутренние очертания его духа. И эти очертания его внутренней души испускали череду кратких вспышек, слишком блеклых и слишком кратких, чтобы можно было не дать им угаснуть. В это мгновение я понял, что хворь его смертельна. Он был слишком болен, чтобы его можно было спасти, и никто не мог ему помочь. Ничего подобного этому проникновению в суть прежде со мной не случалось, и осознание нарушило мое внутреннее спокойствие. Подобно тому как пробуждаются от глубокого сна, я очнулся, пытаясь понять, где я, и обнаружил, что смотрю в глаза скрелинга с трещоткой. Разумеется, я не знал ни единого слова его языка, но понял, что он делает здесь. Он врачевал своего больного товарища и тоже смотрел в душу больного. Он видел то, что видел я. И я покачал головой. Скрелинг ответил мне спокойным взглядом, и я уверен, что он понял. Без всякой спешки я выбрался из шалаша, вновь пересек поляну и двинулся дальше через подлесок. Я был уверен, что никто не пойдет за мной, а скрелинг даже не скажет своим сородичам о моем появлении – нас с ним связало нечто более прочное, чем любые узы родства или крови.
И я тоже ничего не сказал ни Фрейдис, ни ее мужу Торварду, и никому вообще о встрече с двумя скрелингами. Бессмысленно было бы пытаться объяснять им это. Они решили бы, что мне все привиделось, или, учитывая то, что произошло спустя несколько месяцев, сочли бы меня изменником, поскольку я не предупредил их о приближении скрелингов.
Скрелинги же объявились, когда листва на деревьях стала ярко-красной, бурой и желтой, что говорило о приближении зимы в этих краях. Уже потом, после всего, мы поняли, что скрелинги, прежде чем попытались выдворить нас, дождались возвращения своих мужчин с охоты и сборов пропитания на зиму. Само собой разумеется, количество лодок, направлявшихся к нам в то осеннее утро, вдвое превосходило все наши предположения, хотя многие из наших, самые охочие до драки, с нетерпением ждали этой встречи и неделями до хрипоты обсуждали, что они сделают, и бахвалились, как они сокрушат скрелингов. И вот, когда лодки скрелингов наконец-то подошли, наши всем скопом бросились к берегу и подняли красные щиты, вызывая их на бой. Со своей стороны, скрелинги встали в лодках и – точно так же, как тогда, когда я впервые увидел их – начали вращать в воздухе своими странными гудящими палочками. Однако теперь, как я заметил, они вращали их не по солнцу, как тогда, а в противоположном направлении. Палочки вращались все быстрее и быстрее, пока воздух вновь не наполнился ужасным гудением, которое звучало прямо в черепной коробке.
Первый удар скрелингов застал наших на берегу, где они толпились, выкрикивая оскорбления и вызовы. И вновь дальнобойность их орудий для метания дротиков застала наших врасплох. Двое, удивленно хрюкнув, рухнули наземь так внезапно, что их товарищи глядели на них, не понимая, что с ними такое случилось.
И тут же, пав духом, начали отступать, в беспорядке побежали прочь, оставив трупы у кромки воды. А мы смотрели, как лодки скрелингов подгребают прямо к берегу, не встречая сопротивления, и как их воины ступают на сушу.
Толпа скрелингов направилась к нам. Их, верно, было десятков восемь, не меньше, они не держали строя и не было у них никакого порядка, впрочем, как и у наших, которые бежали к поселению. А затем началась разрозненная и кровопролитная драка, за которой я наблюдал из густого ивняка. Еще прежде я рассказывал Торварду, мужу Фрейдис, как перепугались скрелинги рева нашего быка во время моего первого сидения в Винланде. И вот, как только скрелинги появились, Торвард велел мне поймать и привести одного из быков, привезенных нами, чтобы использовать это животное как наше тайное оружие. Но к тому времени, когда я привел быка к ивовым зарослям, готовый вывести его на открытое место, к нашим уже подоспела подмога куда более действенная.
Наши со страху побежали вверх по берегу одного из ручьев. Потом-то они утверждали, что вторая шайка скрелингов появилась из лесу и перекрыла им пути отступления к поселению, хотя все это были выдумки. Главная беда состояла в том, что у нас не было ни вожака, ни сплоченности. Исландцы и гренландцы действовали так, словно они совершенно чужие, и помогать друг другу даже не собирались. Люди в панике бежали, спотыкались, падали, вставали и мчались дальше, наталкивались друг на друга, когда оглядывались через плечо на скрелингов, мечут ли они дротики или наступают. В тот миг, когда казалось, что мы разбиты, нас спас берсерк.
Слово «берсерк» ныне столь распространилось, что известно далеко за пределами северного края. И для всех это слово означает человека, впавшего в такое неистовство на поле брани, что способен он совершить самые невероятные подвиги, не задумываясь о собственной безопасности. Иные говорят, что в ярости берсерк, прежде чем напасть, завывает, как волк, другие – что у него идет пена изо рта и что он кусает обод своего щита, гневно глядит на врага, ревет и трясется. Настоящий берсерк презирает всякое понятие об оружии либо самозащите и носит только рубаху из медвежьей шкуры для отличия. Порою на нем не бывает и рубахи, он идет в бой полуголый. И еще многое говорят, но я никогда не слышал рассказов о том, чему стал свидетелем в тот день, когда наши мужчины дрались со скрелингами, – о женщине-берсерке.
Положение у нас было хуже некуда. Наши не знающие воинского строя мужчины превратились в бессмысленную толпу. Иные повернулись лицом к врагу, чтобы сразиться со скрелингами, иные же позорно бежали вверх по склону. Этот звал на помощь, тот стоял, разинув рот, ошеломленный самим видом кровопролитья. Постыдное было зрелище.
И в этот момент ворота палисада с грохотом распахнулись и из них выскочила жуткая фигура. То была Фрейдис. Она увидела беспорядочное бегство мужчин, и трусость их возмутила ее. Она пришла в ярость. Безоружная, она бросилась вниз по склону, во всю мочь вопя от гнева и проклиная наших за трусость и малодушие. С ее массивным телом и толстыми ногами, похожими на стволы деревьев, топающими по земле, с красным лицом, вся потная, с развевающимися волосами, она была страшна. Одетая в женское исподнее, широкую рубашку, она откинула плащ, чтобы легче было бежать, и рубашка развевалась на ветру. Она с грохотом мчалась вниз по склону, точно тяжеловесная валькирия-мстительница, и, добежав до одного из норвежцев, бессмысленно стоявшего столбом, со всей силы ткнула его своей мясистой рукой, отчего тот сорвался с места, она же выхватила короткий меч из его рук. Ее неистовый гнев был направлен больше на своих, чем на скрелингов, многие из которых остановились, потрясенные, и в изумлении глядели на эту огромную светловолосую женщину, изрыгающую яростные проклятия. Фрейдис, пылая гневом, вращала глазами.
– Сражайтесь, как мужчины, вы, ублюдки! – рявкнула она на робких поселенцев. – Возьмите себя в руки и бейте их! – И дабы подчеркнуть свою ярость, дабы пристыдить мужчин и распалить свое бешенство, Фрейдис распахнула ворот рубашки, выпростала одну огромную грудь и ударила по ней мечом плашмя. – Идите сюда! – крикнула она врагам. – Женщина справится лучше.
И она бросилась на ближайшего скрелинга и ударила его своим клинком. Этот несчастный, вдвое меньше и слабее нее, поднял копье, чтобы отбить удар, но меч Фрейдис легко разрубил древко, со всей силы обрушился ему на шею, и он тут же рухнул наземь. Фрейдис повернулась и, топоча, бросилась на следующего скрелинга. Еще мгновение, и вот нападающие дрогнули и побежали обратно к своим лодкам. Они, равно как и наши мужчины, никогда не видели ничего подобного. Отдуваясь и пыхтя, Фрейдис прыгала по берегу, нанося бешеные удары в спины бегущих скрелингов, а те даже не пытались повернуться и метнуть в нее дротик. Они были в полном замешательстве и бежали прочь, оставив запыхавшуюся Фрейдис на отмели. Подол ее свободной рубашки намок, большие пятна пота выступили под мышками, а на груди – пятна крови скрелинга.
Это был последний раз, когда мы видели скрелингов. Они оставили семерых мертвых на берегу, и, разглядывая их, я понял, что они вовсе не похожи на того целителя, которого я встретил в лесном шалаше. Эти были ниже ростом, шире в плечах, и лица у них были, в общем-то, более плоскими и круглыми, чем у того человека. И еще от них пахло рыбой, и одежда их больше годилась для моря, чем для леса, – длинные куртки из тюленьей кожи и тяжелые облегающие штаны. Мы сняли с них все полезные вещи – в том числе тонко выточенные костяные наконечники копий, – отнесли тела на вершину соседнего утеса и сбросили в воду. Наших же мертвых – всего их было трое – похоронили, свершив краткий обряд, в неглубоких могилах, выкопанных в скудной почве.
Эта победа, коль можно назвать победой столь бесславную драку, лишь усилила раздоры в нашем стане. Исландцы и гренландцы громоздили друг на друга обвинения в трусости за то, что одни другим не помогли, за то, что повернули и побежали, вместо того чтобы стоять и драться. Никто не смел взглянуть в лицо Фрейдис, все ходили крадучись, совершенно пристыженные. В довершение бед через несколько дней наступила зима, да так сразу, что застала нас врасплох. Еще утром погода была ясная и свежая, но к вечеру пошел дождь, потом дождь превратился в ледяную крупу, а на следующее утро, проснувшись, мы увидели землю, покрытую толстым слоем снега. Поставить скотину в укрытия мы успели, но понимали, что буде зима окажется долгой и суровой, то запасенного сена до весны никак не хватит. И пострадать придется не только скотине. Исландцы же, потратив слишком много летнего времени на строительство, не сумели наловить и запастись на зиму сушеной рыбой, равно как и кислым молоком и сыром. Зимнее пропитание их было весьма скудно, а когда они обратились к Торварду и гренландцам, дескать, поделитесь своими припасами, те без обиняков ответили, что на всех не хватит. Придется им как-нибудь самим перебиваться.
Та зима и вправду выдалась необычайно долгой и суровой, и в самый разгар ее мы едва могли выбираться из наших длинных домов – слишком много было снега, льда, слишком жестокие стужи. То было самое худшее время нашего сидения в Винланде. Нам, гренландцам, в нашем длинном доме жилось нелегко. Ежедневная раздача пищи скоро уменьшилась до малой плошки каши с горсткой сухих орехов, собранных по осени, да еще, бывало, нескольких ломтиков сушеной рыбы, когда мы собирались вокруг очажной ямы, где неугасимо тлел углем невеликий наш запас дров. Вся скотина подохла к середине зимы. Корму ей задавали так мало, что о молоке можно было забыть, и мы забили коров, когда корм весь вышел. Впрочем, к тому времени они так отощали, что мяса на костях почти не осталось. Я скучал по двум своим наставникам, Тюркиру и Торваллю. Прежде, в Винланде, они были рядом, помогая скоротать долгие темные часы рассказами об исконных богах, либо наставляя меня в исконной вере. Теперь, когда их со мной не было, я дошел до грез наяву, так и сяк поворачивая в голове их рассказы и пытаясь приложить их к нашим обстоятельствам. Именно тогда, в разгар необычайно суровой винландской зимы, я впервые начал взывать к Одину, молча вознося молитвы, отчасти для собственного утешения, отчасти в надежде, что он придет на помощь, заставит зиму пройти, умалит муки голода. А еще я приносил жертвы. Из своей скудной пищи я откладывал пару орехов, полоску сушеного мяса и тайком от чужих глаз заталкивал их в щель в стене длинного дома. То были мои жертвоприношения Одину, и если мыши и крысы сжирали их, значит, – так я говорил себе – то был либо сам Один, сменивший облик, либо, в крайнем случае, его вороны, Хугин и Мунин, и они донесут ему, что я выказал должное послушание.
Если мы жили скудно, то в двух исландских домах дела шли еще хуже, гораздо хуже. Двое из исландцев были тяжело ранены в стычке со скрелингами. Летом, на солнечном тепле и при должном питании, они могли бы оправиться, но выжить в зловонном сумраке длинных домов было невозможно. Они лежали, закутавшись в свои вшивые одежды, почти без еды, пока не умерли мучительной и голодной смертью. В ту зиму умерли не только исландцы. Один из длинных домов посетила какая-то вызывавшая кашель хворь, которая забрала троих, а еще один ребенок, доведенный до отчаяния голодом, вышел в черную зимнюю ночь, и его, замерзшего насмерть, нашли на другое утро в нескольких шагах от порога. Зловещее молчание воцарилось в трех длинных домах, ставших тремя длинными снежными сугробами. Целыми днями все вокруг было мертво.
Наш дом стоял западнее остальных, и редко кто-нибудь решался выбраться наружу и пролезть по глубокому снегу, чтобы навестить ближайших соседей. Целых два месяца из нашего дома никто не добирался дальше второго дома исландцев, а когда наконец добрался – то был Торвард, муж Фрейдис, – то увидел, что дверь занесена снегом так, будто никто не выходил из дому несколько дней. Когда же он, с трудом отворив дверь, вошел, оказалось, что это уже не дом, а покойницкая. Треть умерла от холода и голода, а не умершие походили на груды тряпок и не могли подняться со скамей, на которых лежали.
Однако худшую весть принес тот из наших, кто отправился на берег, где мы оставили на зиму два кнорра. По первому, нежданно павшему снегу оба судна были вытащены на катках за линию прилива, подперты бревнами и завалены по кругу дранкой для защиты от снежных заносов. Да еще укрыты навесами из сукна. Но зимний ветер сорвал навесы на старом кнорре, одолженном Лейвом, и его завалило снегом. Потом на день грянула оттепель, пригрело почти по-весеннему, и снег растаял, наполнив трюм водой. К вечеру же вдруг похолодало, вода превратилась в лед, который разбух и разорвал становую доску, ту самую, которая крепится по всей длине киля. Когда же плотник попытался заделать эту длинную щель, оказалось, что днище совсем прогнило. Пока он крепил одну доску обшивки, соседние доски крошилось. Плотник и в лучшие времена слыл человеком ворчливым и раздражительным, а тут и вовсе сообщил Торварду, что не станет зря тратить время, пытаясь сделать из старого прогнившего корыта что-то годное для плавания.
К этому времени, мне думается, Фрейдис уже поняла, что потерпела неудачу и что нам вновь придется покинуть зимовье Лейва. Однако мысль эту она держала про себя и, с привычной для нее хитростью, готовилась к отъезду, никому ничего не говоря. Самой же насущной ее заботой был обветшалый кнорр. Чтобы покинуть Винланд, нужен был корабль, а наш, древний и развалившийся, уже не годился для плавания по морю. Оставался один выход – всем поселенцам, как исландцам, так и гренландцам, потеснившись, поместиться на борту большего и более нового корабля исландцев. Но из-за неприязни между нами представлялось мало вероятным, что исландцы согласятся на такое. Можно было бы сделать иначе – исландцы могли бы одолжить нам свой кнорр, коль мы обещаем прислать его обратно, как только благополучно доберемся до Гренландии. Только с какой стати исландцы доверятся нам – вот в чем вопрос. Но, положим даже, что исландцы расщедрятся, тогда возникнет вопрос еще более сложный, и Фрейдис это хорошо понимала: если исландцы останутся в Винланде и как-нибудь уцелеют, избежав всех опасностей, тогда по обычному праву вся собственность и земля поселения перейдет от Эйрикссонов к Хельги, Финнбоги и их наследникам. Это уже будет не зимовье Лейва, но зимовье Хельги и Финнбоги, что стало бы унижением для Фрейдис, дочери Эйрика Рыжего, унижением невыносимым.
То, что она измыслила для разрешения этой задачи, оказалось столь же ловким, сколь сатанинским. Ее замысел был основан на той самой роковой приверженности северян к личной чести.
Вскоре после первой, на сей раз настоящей, весенней оттепели она пошла в ближайший исландский дом. Было раннее утро, только что развиднелось, и я видел, как она ушла, потому что еще раньше выскользнул из дома отдышаться после зловонной ночи, проведенной среди храпящих гренландцев. Я всегда старался держаться подальше от Фрейдис, а потому, увидев ее, спрятался за сарай, чтобы она меня не заметила. Я же видел, как она распахнула дверь исландского дома и вошла туда. А потом, когда вновь появилась, ее сопровождал Финнбоги, одетый из-за мороза в тяжелый плащ. Оба направлялись в мою сторону, и я опять спрятался. Остановились они шагах в десяти от того места, и я услышал, как Фрейдис сказала:








