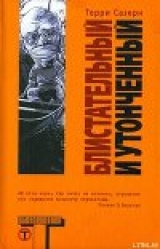
Текст книги "Блистательный и утонченный"
Автор книги: Терри Сазерн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
16
Еще не было восьми, и улица, на которую выходил «Мэйфэйр», в контрасте с болезненно-мягким интерьером позади них, танцевала под вечерним солнечным светом, так что двое моментально заслонили руками глаза.
– Сюда, – сказал Фрост, театрально ведя доктора за руку за собой, как будто они тайком пробирались через секретный пожарный выход.
Они шли медленно, с неугрожающей устойчивостью, как будто двое мужчин целеустремленно карабкаются на длинную плоскость.
– Я не могу отделаться от мысли, что это была ошибка, – сказал доктор Эйхнер, – взять мускатный орех и траву. – Он посмотрел на Фроста, ожидая его реакции, но тот, плетясь за ним, казалось, даже не расслышал, и доктор продолжал: – Я имею в виду, поскольку мы ничего не достигли, ничего вещественного, по меньшей мере, относительно нашей – нашей задачи в «Мэйфэйр». Вы следуете моим рассуждениям, Фрост? – спросил он настоятельно, дотрагиваясь до руки Фроста, а в ответ огромная глыба передернула плечами.
– Почему живой в прошлом? – с заметным усилием наконец выдавил он, и доктор снова впал в молчание, и они продолжали идти, с торжественной сосредоточенностью, и это каким-то образом отличало их от всех остальных пешеходов.
– Несколько минут назад, – внезапно продолжил доктор, – вы предполагали тщетность опротестования прошлого – тщетность раскаяния, или даже того, что сиюминутное достижение негативно – или достижение того, что сюминутно… Хороший вопрос… – Затем они достигли перекрестка, и доктор Эйхнер оборвал свой монолог, словно, пока не загорится зеленый, он не имел права продолжать.
Привлекательная, никем не сопровождаемая девушка, шагавшая вслед за ними, с вызывающим равнодушием бросила пару взглядов в их сторону, на которые они не обратили внимания, и теперь она посмотрела на них сначала с подозрением, а в конце концов с грубой презрительностью. Когда зажегся зеленый, она быстро обогнала их и промаршировала вперед.
– Мускатный орех, – снова вернулся к теме доктор, когда они начали пересекать за ней, – содержит по меньшей мере один серьезный алкалоид – а эффект индийской травы и так хорошо известен. Так вот моя точка зрения такова: наша основная перспектива, наша система… ценностей, скажем так, может подвергнуться изменениям – решительным изменениям, которые мы можем не принять в расчет – выверить, пока – это моя точка зрения – мы не будем готовы принять его, такое изменение, – в расчет! Теперь. Теперь, значит…
Неожиданно Фрост запнулся, коротко дернув доктора за собой. Они уже дошли до студии и стояли напротив, как раз на другой стороне улицы. Отсюда грандиозное здание в кремовой штукатурке могло напоминать почти любой большой современный кинотеатр, но из-за скромных размеров шатра оно выглядело несколько более официально, как государственное учреждение, а на пешеходной стороне, примыкающей к нему, вытянутая двойная очередь людей двигалась по направлению к входу.
– Там, – сказал Фрост, поворачивая голову в указующем жесте в сторону очереди, в то время как доктор Эйхнер, взглянув на Фроста в полном непонимании, последовал за его взглядом и отчетливо разглядел промелькнувшего Тривли, оживленно беседующего со своим другом, в голове очереди.
– Ах да, – мягко сказал доктор, перекосившись, как будто от глотка крепкого, выдержанного бренди. – В самом деле там.
Цепочка людей двигалась быстро, и когда он снова посмотрел в сторону очереди, Тривли и его компаньон скрылись за углом, в вестибюле студии.
– Пойдем, – сказал Фред Эйхнер, – и будь бдителен. – Они трезвым шагом пересекли улицу и присоединились к уменьшающейся очереди, непринужденные и спокойные, привлекая внимание всех, кто стоял рядом.
– А билеты там спрашивают? – внезапно спросил доктор у Фроста.
– Без билетов, – сказал Фрост, и эти реплики, казалось, давались ему с болезненным усилием.
– Ты будешь разбираться с разрешением на вход, – проворно сказал доктор, казалось, первый раз присматриваясь к окружающей обстановке, угрюмо оглядываясь но сторонам и закидывая голову, чтобы посмотреть на шатер. – Что будут показывать? Я очень мало знаю о видео. – Но они уже зашли внутрь, в шатер, и продвигались дальше, в застеленное коврами фойе студии, и пока что нельзя было понять, чему же все-таки будет посвящена данная телепрограмма – и доктор внезапно занервничал, в тревоге вопрошая: – Да? Какова суть этого, Фрост? Что здесь будет?
– Шоу зубоскалов, – выдавил наконец Фрост, и его слова прозвучали так мрачно, словно смертный приговор.
17
Студия для съемок была довольно большой и, как и положено в таких местах, вполне комфортабельной.
Доктора Эйхнер и Фроста без вопросов впустили вовнутрь, и они заняли два из нескольких оставшихся свободных мест в заднем ряду.
Публика в студии пребывала в праздничном настроении, так что, по всей видимости, какой-то этап шоу уже был в самом разгаре. На сцене, или, точнее, на подступе перед сценой, расположенном выше, чем места для публики, со стеклянной контрольной будкой справа, – шли последние приготовления к съемкам шоу. За большим столом в центре сцены были поставлены пять тяжелых кресел, а вокруг них закреплялись огромные камеры и микрофоны, и процессом вовсю руководил человек в рубашке с короткими рукавами. За столом перед каждым креслом были расставлены пепельницы, стаканы и маленькие графины с водой, которые время от времени проверяли и переставляли.
Публика между тем не сидела в бездействии, а была вовлечена в крикливый диалог с хорошо одетым молодым мужчиной, который стоял около микрофона рядом с левым первым рядом. Он громко и одобрительно смеялся в ответ на реакцию публики и наклонялся вперед, гримасничая и подмигивая. Он говорил необычно громким голосом, почти что орал.
– Ну так мы собираемся хорошенько повеселиться здесь сегодня вечером! Подумайте об этом, мы же всегда здесь веселимся!
Он фанатично улыбнулся и сложил чашечкой руку у своего уха в преувеличенной попытке расслышать ответ аудитории.
– Да! – закричали они.
– Я имею в виду, разве не так?
– ДА!
Доктор Эйхнер, мимоходом осматривая первые ряды, чтобы увидеть Тривли, сидел, вытянувшись в струну, на своем месте, ошеломленный и смущенный поведением ревущей толпы. Он едва не начал жаловаться Фросту, когда внезапно наконец заметил Тривли, сидевшего на краю ряда, очень близко к сцене. Доктор немедленно полез во внутренний карман пальто, чтобы вытащить маленький бинокль, «Зейсс 6X15», и продолжил, стараясь не показаться чрезмерно подозрительным, смотреть в направлении Тривли. Там, как он мог видеть, двое друзей воодушевленно комментировали действия ведущего, подталкивали друг друга локтями и с одобрительным хохотом по очереди кивали молодому человеку у микрофона. С каждым ответом аудитории Тривли поднимал рупором обе руки ко рту и, видимо, тоже, крича изо всех сил, присоединялся к реву публики, а компаньон смотрел на него с явным обожанием, время от времени оживленно оглядываясь вокруг, чтобы посмотреть на реакцию соседей. Затем Тривли снова посмотрел на него, и оба они безудержно рассмеялись, оживленно переглядываясь с другими сидящими рядом зрителями. Несомненно, эти двое были парочкой любимчиков в студии.
Доктор Эйхнер продолжал рассматривать их через бинокль, отпуская несколько сторонних замечаний в сторону Фроста, не поворачивая головы – и, таким образом, не успел заметить, что последний сидел уже практически в ступоре, склонившись вперед, и не сводил подернутых пеленой глаз с затылка человека, сидевшего впереди. Однако как только доктор решил вручить бинокль Фросту, в студии раздалось громкое гудение, извещающее, что съемки начинаются. Молодой человек у микрофона драматически воздел руки, и, в море подавленных хихиканий и покашливаний, последовало открытие шоу. Молодой человек сделал эффектный кувырок назад, завершив его «французским сплитом», и публика взревела от восторга. Повернувшись, он представил ведущего, пухлого, гордо держащегося в тени мужчину, который в тот же самый момент живо взбежал на сцену.
Это было популярное юмористическое радио – и телешоу под названием «Каково мое заболевание?», и ведущий представил четырех участников жюри, когда те церемонно вошли и уселись на свои места за столом: женщину – известного комментатора, профессионального футбольного тренера, актрису и профессора логики из университета Чикаго. Участники жюри в тон ведущему добродушно посмеивались в ответ. Они редко глядели прямо на публику, все больше на ведущего, который поощрял любой их контакт с аудиторией, постоянно переводя взгляд с участников на публику и обратно, с неизменной доброжелательной улыбкой.
Доктор Эйхнер на мгновение отвлекся, а затем заново навел свои стекла бинокля на Тривли, и, когда ведущий занял свое место во главе стола на сцене и вызвал первого главного участника, доктор едва успел это отметить. Его не было видно, его вкатили на сцену в абсолютно затемненной, слегка приподнятой занавешенной клетке.
– Вы можете говорить? – спросил ведущий.
– Да, – последовал приглушенный ответ.
– Хорошо. Прошу вас, участники.
Видимо, несколько первых вопросов, судя по тому, как быстро и скучно задали первый вопрос, программа начиналась по знакомому и надоевшему шаблону.
– Локальное или общее? – спросил футбольный тренер.
– Локальное.
– Проявление видимое? – спросила женщина-комментатор.
– О да.
– Это – ваше лицо? – спросила актриса, взяв листовку.
– Нет.
Прозвучал гудок, сигнализировавший об ошибке, и ведущий сделал несколько заметок в своем блокноте и значительным взглядом посмотрел на публику. Реакция аудитории была неоднозначна – вздох облегчения, поскольку это не было лицо, смешанный с вскриком разочарования, что актриса, очевидно, любимица публики, ошиблась. Она в свою очередь, казалось, сконфуженно улыбнулась и даже слегка покраснела.
– Эти проявления, – начал профессор, повысив голос, чтобы его услышали, – ниже или выше линии талии?
– Ниже.
– Это на конечностях? – продолжал он.
После легкого замешательства последовал ответ:
– Да.
– На одной конечности? – поторопился профессор, напав на след, и когда ведущий знающе кивнул, все остальные участники в предвкушении заулыбались.
– Да.
– И это – слоновья болезнь?! – вопросил профессор.
– Да.
Профессор победил в первом туре, и ведущий, ликуя, быстро подхватил:
– Да, это слоновья болезнь! – И в тот момент, когда навес был скинут и участник предстал пред ними всеми, публика, как один, затаила дыхание, издав вздох изумленного ужаса, а затем взорвалась в аплодисментах профессору, участнику, ведущему и всему составу жюри, и его участники обменялись дружескими жестами, поздравляя друг друга, а актриса оживленно, но сдержанно продемонстрировала восхищение победой профессора.
– Что здесь происходит? – обратился доктор к Фросту во внезапном приступе раздражения, когда начались вопросы второму участнику. Однако Фрост сидел, словно склоненный Будда, и, казалось, потерял ощущение реальности, хотя его глаза все еще были приоткрыты, и ему явно не грозило упасть со стула. Доктор повернул линзы бинокля на участников и всматривался в происходящее на сцене, неслышно бормоча что-то в сторону, когда началась новая серия вопросов и ответов:
– Ваше заболевание общее или локальное?
– Общее.
– Симптомы этого заболевания видимы?
– Еще как!
Это вызвало смех в аудитории и понимающие улыбки некоторых участников за столом. Однако актриса, чья очередь была сейчас отвечать, оставалась предельно серьезной.
– Это ваше лицо… – начала она, но ее тут же резко одернула женщина-комментатор, как всегда, заявившая невозмутимо твердым тоном:
– Общее.
– О да, конечно, тогда этого не может быть – слава богу! – И она повернулась с победной улыбкой к аудитории, которая единогласно зарокотала. На мгновение она казалась растерянной.
– Вы может говорить? – выпалила она.
– Ну…
Аудитория зашумела, но с прощающим добродушием.
– Нет, я имею в виду, можете ли вы ходить?
– О, да.
Актриса издала вздох облегчения, и вопросы продолжились.
– А боль у вас тоже… общая? – спросил футбольный тренер, приподнимая одну бровь.
– Неееет.
– Это прогрессирующее заболевание? – вопросил профессор.
– Ну да, – неуверенно ответил голос.
Доктор Эйхнер попытался разбудить Фроста.
– Это просто фантастика! – сказал он. – Приди в себя, Фрост! – Он схватил его огромную руку, но сознание Фроста спало беспробудным сном. Люди вокруг стали шикать на доктора. Он удивленно посмотрел на них, а затем снова стал рассматривать участников жюри сквозь линзы бинокля.
Между тем шоу достигло главной стадии.
– Вы сказали «чешуйки»?
– Да.
Волнительное бормотание пронеслось по аудитории.
– Это ихтиозит? – рискнула женщина-комментатор.
– Да!
– Да, это ихтиозит!
Занавес был спешно снят, и толпа издала свой обычный вздох отвращения, а затем стала бурно аплодировать.
На стене, позади стола жюри, как декорация, была огромная панель с разноцветными лампами, изображающая внутренности человеческого тела. Эта панель, видимо, была соединена с электрическим устройством, улавливающим аудиосигнал, и в те моменты, когда смех, свист и выкрики в студии становились громче, лампы начинали гудеть – мигая и ослепляя. Поскольку вопросы стали задаваться быстрее и с большим энтузиазмом, световая анатомия засияла более интенсивно, становясь ярче и ярче, пока, после своеобразного волнового накала, когда аудитория затаила дыхание перед тем, как сняли занавес с очередного участника, и это переросло в апофеоз с финальным взрывом аплодисментов, анатомическая панель стала содрогаться и бушевать с нестерпимой яркостью почти что в течение полминуты. Потом панель погасла, и, когда игра возобновилась, вспыхнула, и, угасая, пульсировала на каждом вопросе и ответе, чтобы еще раз засиять в самом конце.
– Зоб Colussi?
– Нет, это не зоб Colussi.
– Узловой зоб!
– Узловой зоб… да! Узловой зоб!
– Ооооооооооооооооооооооооооооооооооо!
И когда толпа снова взорвалась в одобрительных аплодисментах, панель с лампочками загорелась и запульсировала, как будто произошло короткое замыкание. Странное сияние цветов и преломление произвели неожиданный эффект: некоторые лица в аудитории казались окостенелыми и отделенными от остальных, другие же – зачастую изрядно искаженными.
– Это не… Гигантские пятна от кори?
– Да! Так точно! Это гигантские пятна от кори!
– Ба, – гневно содрогнулся доктор и снова начал через бинокль разглядывать публику. – Я ухожу, Фрост! – резко окрикнул он Фроста. – Держи этого человека под прицелом и свяжись со мной – снова в «Мэйфэйре». – Сказав это, он, на нетвердых ногах, стал продвигаться на выход из студии, вызвав негодование охранника, стоящего у двери, и оставляя Фроста, чье лицо ничего так сильно не напоминало, как холодный гладкий камень.
18
Ральф и Барби устроились в кабриолете, в огромном театре для автолюбителей, и теперь Ральф смешивал два виски с кока-колой в бумажных стаканчиках, которые он только что достал из бардачка.
– «Будь готов» – это наш девиз! – весело произнесла Барби.
Прелестная девушка лучезарно улыбалась; Ральф предложил ей пойти после сеанса в «Месье Крок», модный клуб-ресторан на Сансет Стрип. И по этому случаю Барби надела свое чудесное чесучовое, простое, строгое, красивое платье с тонкой, мерцающей линией жемчужно-розовых пуговиц, которые окаймляли ее груди, как теплые стрелы. Ее волосы были зачесаны назад, с двумя маленькими гребенками, оставляя белую линию пульсирующего горла, вызывающе изогнутого, и под натянутыми сухожилиями можно было различить биение пульса. На первый взгляд, мимолетно, когда ее лицо было спокойно, она могла напоминать убийственно сексуальную лесбиянку-инженю, но под этой маской отполированного лоска девушка скрывала свою хрупкую сущность, нежную, окруженную теплом атласа и кружев.
– Ну так выпьем! – сказала шаловливо, подняв свой стаканчик.
– Выпьем за леди! – парировал Ральф. – Задницы вверх!
Барби скорчила кислую мину, сначала в насмешливом выговоре, чтобы Ральф устыдился своего тоста, а затем в искреннем отвращении, попробовав напиток.
– Уф-уф, – многозначительно сказала она, покачала головой и вернула Ральфу почти полный стаканчик. – Нет, спасибо. Налей мне еще кока-колы, пожалуйста.
Ральф с видом комичного упрека добавил кока-колы в ее чашку, а Барби в свою очередь благовоспитанно отодвинулась в сторону бокового окна и, как будто оставив юношу на испытательный срок, уставилась на отдаленный экран, на котором в данный момент демонстрировался новостной блок двухнедельной давности. Пока что они сидели в относительной тишине – поскольку Ральф выключил маленький усилитель, который работник кинотеатра прикрепил к их окну, – как одна из сотен пар, каждая из которых, отдельно, в темноте, в безбрежном парковочном пространстве, приютилась и смотрела утратившие новизну, безмолвные, полные боли и горя мировые новости… постепенно начал капать дождь.
Ральф закрыл окно со своей стороны и, видя, что Барби не может справиться со своим окном, наклонился, чтобы помочь ей, и легко поцеловал ее в висок.
– О, начинается дождь, – сердито сказала Барби, замерев от проявления такого внимания. – А я не взяла шарф! О, как это ужасно!
– О, я не знаю, – сказал Ральф, – может быть, это и к лучшему. – Он стал энергично наводить порядок в машине, здесь и там поправил матерчатую крышу и закрыл крышку вентилятора. Он включил радио и отыскал на какой-то волне мягкую музыку, а Барби безнадежно смотрела на все это. В преломлениях света, идущего с экрана и отражающегося от панели радио, ее спокойное лицо менялось в полутьме, как будто высеченное скульптором-волшебником, отображая грани ее красоты, которые были постоянными и ускользающими одновременно, и казалось, в ее глазах пляшут маленькие огни.
– Но у меня ничего нет, – объявила она, – что я могу одеть на голову!
Оказалось, что в матерчатой крыше как раз над головой Барби была маленькая дырка, и еще до того, как Ральф успел внять ее жалобе, капли дождя стали падать на девушку. И стало понятно, что ничего не остается делать, кроме как перебраться на заднее сиденье. Ральф освободил пространство, подвинув свое кресло прямо к рулю, и когда Барби – осторожно пытаясь перебраться назад со стаканчиком в руке – протянула было стаканчик Ральфу, он поторопил ее делать этот маневр побыстрее, и даже в самом крайнем случае это было бы вполне осуществимо, поскольку у юноши были заняты обе руки – одной он удерживал откинутое кресло, а другой держал свой стаканчик, так что Барби благополучно перебралась. Она прикончила свой виски в один глоток, состроив жуткую гримасу, но тут же снова обрела вполне счастливый и довольный вид, как будто эта шалость полностью могла быть оправдана данными обстоятельствами.
И минуту спустя они уже уютно сидели рядышком, на заднем сиденье, и все вокруг, казалось, стало темнее и каким-то образом предполагало абсолютное уединение, и когда Ральф снова налил им выпить, на дальнем экране наконец начался фильм, «Грозовой перевал», но изображение раскололось, как и кадры на экране, под ручьями дождя, хаотически стекающими по лобовому стеклу, а из такой близкой мягко сияющей панели радио играла музыка, «Настроение индиго».
– Ты любишь танцевать? – спросил Ральф, не обращая внимания на фильм.
– Ммммм. Люблю, – мягко сказала Барби, глядя прямо перед собой.
Он взял ее за руку и робко сжимал ее. Она, казалось, приняла это как необходимую часть для просмотра фильма, но потом она один раз взглянула на него, быстро, улыбаясь с каким-то вкрадчивым намеком, и кивнула на экран.
Ральф, не отводя глаз от ее лица, положил другую руку на сиденье за ее спиной и на секунду наклонился ближе, чтобы поцеловать ее в губы, но девушка отвернулась и даже отодвинулась немного назад. Так что у юноши получилось поцеловать ее всего лишь в щеку, и она мягко позволила ему это сделать.
– Я люблю тебя, – сказал он нежно, а она уставилась на него своими огромными глазами с выражением тихого изумления.
И Ральф посмотрел в эти глаза, посмотрел почти с любовью. Затем, внезапно и сильно, он обхватил ее плечи руками, словно тисками, и прижал девушку к себе, левой рукой взял ее за подбородок и поцеловал так крепко и уверенно, что она смогла только хныкнуть сквозь сжатые зубы. Барби с неподдельным ужасом оттолкнула его руку, прикасающуюся к ее лицу, но рукой, которой он обнимал девушку, Ральф поймал ее отбивающуюся руку и быстро схватил за запястье.
Внезапно подвинувшись ближе, Ральф зажал левую кисть девушки между их телами, и теперь, когда ее крепко держали за обе руки и подбородок, Барби была абсолютно беспомощна. Ее дрожащие губы оставались непреклонными под его губами, и вся она содрогалась, стараясь вырваться, словно в конвульсиях, одетая в смирительную рубашку: она не могла сделать ничего, только извиваться и лягаться коленями, и она извивалась в разъяренном отчаянии, но только несколько мгновений. Затем она сдалась, вяло, в безнадежном истощении, а юноша поцеловал ее долго и сильно, исследуя губами ее губы, гладя ее пальцами по щеке, пытаясь разжать зубы, как будто хотел влить ей в рот лекарство.
Правой рукой Ральф обнимал Барби за шею и плечи, и этой же рукой он держал ее собственную за запястье, рядом с ее головой, в то же время своими пальцами он нежно поглаживал ее ухо и волосы. Она все еще не размыкала зубов, но глаза ее сейчас были закрыты – как показалось, почти безропотно, – и Ральф, без сомнения, принял это за хороший знак и продолжал целовать ее с неослабевающей силой, с возрастающим жаром, нежно покусывая ее губы, пока, наконец, глубоко вздохнув и почти рыдая, она не разжала зубы, все больше, полностью открывая рот; и когда он в свою очередь ослабил хватку на ее запястье, а затем доверительно отпустил, девушка решительно обвила этой рукой вокруг его шеи, прижалась к нему, словно ее желание было еще больше и неистовей, чем его собственное. И он тут же отпустил ее подбородок и положил руку ей на грудь. Барби резко отвернула лицо, одновременно отдергивая руку с его шеи и схватив его за эту ужасную руку
– Пожалуйста… – взмолилась она и умоляюще уставилась на юношу, но он немедленно наверстал упущенное преимущество, снова поймав ее за подбородок и за руку, и продолжал долго, нежно, глубоко целовать ее в губы. И когда в этот раз она снова ему ответила и он снова опустил руку ей на блузку, он больше не освобождал ее запястья, и единственная вещь, которую она могла сделать, – это снова оторвать от него губы.
– Ральф, пожалуйста. Пожалуйста. Ты поранишь мне руку! – Ее голос звучал на грани паники и слез, и – она отвернулась, – а юноша целовал ее шею и уши, печально шепча ей:
– Барби, я так тебя люблю… – И говоря это, он расстегнул центральные шесть пуговиц на ее блузке и, лаская ее грудь, протиснул руку под блузку.
– Нет. Нет, нет, – взмолилась она и снова забилась, словно в конвульсиях, пытаясь освободить свою левую руку, зажатую между их телами, и теперь, когда ее рот был свободен, испуганно всхлипывала. Но Ральф быстро схватил и, настойчиво прижимая той рукой, которой он обнимал Барби, приблизил к себе ее голову и медленно повернул к себе ее лицо с прижатой к нему ее собственной рукой, которую, как мы знаем, он, как в клещах, держал за запястье около щеки. Барби напрягала все силы, чтобы предотвратить это, и на миг, вероятно, действительно забыла о своей тревоге, оставалась только реальная, физическая сила сопротивляться, как это могло показаться – показаться, потому что юноша делал это так медленно… как будто из стратегических соображений долго, медленно истощал ее силы и энергию, которые могли бы пригодиться ей на более поздних, решающих стадиях сопротивления их любви. В течение этого утомительного маневра в попытке сузить пространство между их головами лицо Барби искажалось гротескными гримасами напряжения и многообещающего усилия, но, притянутая на последние несколько иначе, она снова ослабла и закрыла глаза, понадеявшись, что у нее есть еще шанс. И она снова окончательно израсходовала все силы, и, благородно проиграв, она опять была осыпана поцелуями.
Между тем другая рука Ральфа была не занята, только осторожно лежала на ее груди, под блузкой, поверх отделанного кружевом лифа, который он ласкал нежно, почти что умиротворенно, как будто пробуя не испугать маленького милого воробышка, загнанного туда, ожидая… И его губы снова покрыли ее, до того, как он попытался добраться до самого изысканного гнездышка, – и он сделал это наконец, с непреклонной нежностью. Но его новая попытка была встречена потоком настоящих слез, видимо, потому что у него получилось. Девушка – влажно и грустно – всхлипывала сквозь поцелуи, ее тело обмякло и стало снова безжизненным, кроме губ, которые тихонько дрожали, когда она плакала, а Ральф целовал ее – ее щеки и глаза – с настоящей, огромной любовью.
– Ральф… пожалуйста, не делай этого. О, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста…
– Не плачь, Барби, – прошептал он. – пожалуйста, не плачь. Я так люблю тебя. – И он продолжал целовать все ее лицо, ее горло и уши, ласково поглаживая ее обнаженный сосок, а она, как казалось, была уже на грани истерики.
– О, пожалуйста, остановись, Ральф, пожалуйста, остановись. О, остановись, пожалуйста, остановись, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста…
– Поцелуй меня, Барби, пожалуйста, поцелуй меня. Я так тебя люблю…
Она слепо помотала головой, всхлипывая.
– Нет! Нет, нет!
– Пожалуйста, дорогая, я так тебя люблю…
– Нет, я не могу, не могу. Пожалуйста, перестань…
Но когда он снова решительно поцеловал ее в губы и выпустил обе ее руки, она обвила их вокруг его шеи, как будто ей ничего так сильно не хотелось, как съесть его живьем. Она яростно прижалась к нему, и Ральф, очень осторожно, отступил, даже слегка оттолкнул ее, так, что их тела теперь лежали на сиденье под углом в 45 градусов, абсолютно без опоры, откинувшиеся… И когда они наконец медленно легли, Ральф одновременно развернул Барби, держа ее за плечи, по часовой стрелке, так что она лежала, по окончании этого маневра, на внутренней стороне сиденья, со спиной, прижатой к стенке.
После этой смены положения Барби, от града поцелуев, казалось, была в лихорадочном забвении – левая рука Ральфа покинула грудь, перебираясь в зону бедер, и это движение, как спусковой курок, инициировало фазу невиданного ранее возмущения и неистовой обороны. Но девушка была зажата даже более безопасно, чем раньше, под дополнительным препятствием собственного веса Ральфа, лежащего на ней. И за исключением того, что теперь они были прижаты друг к другу более или менее горизонтально, их позы оставались точно такими же: левая рука Барби безнадежно зажата между их телами, а правая удерживалась за запястье его собственной правой, которая крепко обнимала ее за плечи.
Извиваясь в конвульсиях, она умоляюще всхлипывала сквозь поцелуи, и казалось, была уже на грани какого-то внутреннего взрыва, и Ральф освободил, почти как в подарок, ее правую руку, которая немедленно поймала его собственную левую и отчаянно попыталась остановить выполнение этого сумасшедшего замысла… Затем правая рука Ральфа тут же легла в расколотую стрелку декольте платья Барби, и девушка оторвала свои губы от его, крича:
– Ральф, о, пожалуйста, Ральф, пожалуйста, о Ральф…
А он печально отвечал:
– О Барби, я так тебя люблю, Барби, я так сильно люблю тебя…
Но Барби была слишком близка к истерике, ей было не до романтических разговоров. Она внезапно заговорила не в меру спокойным голосом, пытаясь рассудительно и мягко остановить его.
– Ральф, остановись на несколько минут, пожалуйста, только на минуту, пожалуйста, милый, пожалуйста… – В этот момент он поцеловал ее в ухо и вдоль шеи, и она, почти что в припадке, схватила его руку на своей груди и попыталась укусить ее, в ту же самую минуту снова заливаясь слезами.
Ральф отнял руку от ее груди и взял за подбородок, снова покрывая поцелуями ее лицо, затем он убрал руку и с ее бедер, гладя теперь ее по волосам и лицу, успокаивая, говоря:
– Не бойся, милая. Я так люблю тебя, не бойся. – И он обнял ее обеими руками, нежно, крепко, словно чудесным образом пытаясь успокоить, в то же время пробираясь своей левой рукой через колени, под платье, высоко, туда, где заканчивались ее чулки… Девушка снова очнулась, словно от удара, и до безумия сильно сдвинула ноги, поймав его руку, как в капкан.
– НЕТ! – сказала она. Это был почти что вопль. – Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, – но он полностью покрыл ее губы своими, и рука его медленно продвинулась вперед, и Барби могла теперь только извиваться и содрогаться, а когда его рука достигла той заветной точки, Барби так залилась слезами, как будто только теперь, никогда до этого, ее постигло тяжелое, неисправимое горе. Но рука Ральфа уже была там, так пронизывающе, основательно, безотказно там.
– О нет, Ральф, любимый, пожалуйста, нет, Ральф, пожалуйста, я так люблю тебя, пожалуйста, не надо, Ральф, о, пожалуйста, перестань, пожалуйста, о, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, ПОЖАЛУЙСТА, ПЕРЕСТАНЬ, Ральф, пожалуйста, пожалуйста, господи, Ральф, пожалуйста, перестань, господи, пусть он перестанет, я этого не вынесу, РАЛЬФ, о, пожалуйста, о, я сейчас закричу! Ральф, я закричу, пожалуйста, я буду кричать, Ральф, я закричу! Я закричу!
И Ральф со стоном остановился:
– Пожалуйста, Барби, пожалуйста, милая, поцелуй меня, я так люблю тебя… – И она поцеловала его, как сумасшедшая, наполовину в благодарности за то, что он остановился, и наполовину от возрастающего голода, когда он – левая рука лежала спокойно на ее бедрах – ласково расстегнул крючки от чулок.
– Пожалуйста, не бойся, Барби, милая, – сказал он, вернув свою руку вовнутрь и протискиваясь одним коленом между ее ног. – Ты знаешь, я так люблю тебя, Барби, пожалуйста, я люблю тебя…
– Нет, Ральф, больше не надо, пожалуйста, не сейчас, Ральф, пожалуйста, послушай, Ральф, не здесь, пожалуйста, давай подождем, на самом деле, Ральф, милый, пожалуйста, нет, на самом деле, о Ральф, я люблю тебя, пожалуйста, не надо, на самом деле не надо, Ральф, я не могу, милый, я люблю тебя, пожалуйста, о Ральф, пожалуйста, я не могу, Ральф, ты не знаешь, пожалуйста, я лучше умру, господи, о, пожалуйста, господи, Ральф, ты делаешь мне больно, пожалуйста, о нет, пожалуйста, о нет, пожалуйста, нет…
В течение финальной, решающей атаки Барби – пусть это будет сказано так о прелестной девушке – вела себя как одержимая, словно животное, грозила покусать и исцарапать юношу, и хотя этого не произошло, она оборонялась с исступленным отчаянием, пока последняя кружевная линия обороны не была сметена, и даже тогда, когда последние силы покинули ее и она была уже неспособна на дальнейшие попытки сопротивляться, она все еще на мгновение представляла себя сопротивляющейся.




