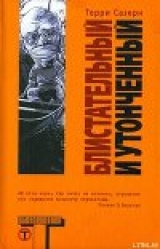
Текст книги "Блистательный и утонченный"
Автор книги: Терри Сазерн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Человек сам по себе весьма неучтивый, этот капитан обожал расследовать дела иммигрантов первого поколения.
Доктор Эйхнер стоял, расслабленный, один раз прочистив горло, и когда стало достаточно очевидно, что все ждут, когда он начнет говорить, он наконец обратился к капитану.
– Представьтесь, пожалуйста.
– Что??? – спросил капитан Мейер, хотя расслышал эти слова очень четко.
– Я прошу вас представиться, капитан. Я думаю, я имею право знать, с кем я разговариваю, не так ли? – Последнюю фразу он адресовал Эдди, патрульному, не понижая своего голоса, хотя они стояли плечом к плечу. Услышав это, Эдди скорчил тревожную мину, переминаясь с одной ноги на другую и отводя глаза от доктора. Никогда еще он не оказывался в таком неловком положении. – Вы найдете это в ваших законах, полагаю, – жестко закончил доктор, кивнув головой.
– Капитан Мейер, – отчетливо сказал пожилой капитан, – так меня называют, доктор, хотя вы можете быть лучше осведомлены насчет этого. Капитан Ховард К. Мейер, Миддлтаун, Пенсильвания. Офицер полиции номер 4276, округ Лос-Анджелес. Если угодно, вы можете ознакомиться с моим послужным списком, – продолжил он, шутливо изобразив одного старого известного актера или кого-то еще, и подмигнул обоим патрульным. – Хотя я точно не скажу, что это «легкое чтиво». Сорок два года стоят того, чтобы быть точным, доктор!
– В этом нет необходимости, – коротко сказал доктор Эйхнер. – Давайте продолжим разговор о рапорте об аварии.
– Аварии? – повторил капитан. Он позволил себе еще один долгий задумчивый взгляд на рапорт, который он держал в руках и слегка им потряхивал. – Может быть, и аварии, доктор. Может быть. Но из того, что мне известно об этих вещах, – он поднял глаза и посмотрел на доктора открытым, недвусмысленным взглядом, и, несмотря на все эти старческие кривляния, его следующие слова прозвучали со странным драматическим эффектом, – но суд присяжных может назвать это «непредумышленным убийством».
5
На дежурствах в Клинике после любого профессионального или же личного переживания у молодых медсестер был обычай «взять пять», как они сами это называли, в комнатах отдыха для медсестер. Это значило полежать и отдохнуть на одном из мохеровых диванчиков или взять кока-колы из огромного автомата и сидеть, расслабившись, с баночкой перед зеркалом в раздевалке, где каждая из них могла попивать колу и красоваться перед зеркалом, а если была не одна, то поболтать по-дружески с кем-то еще, кто был рядом.
У Барби была привычка делать все три вещи сразу. С тех пор как один из диванов был поставлен на должный уровень как раз напротив зеркала, это не составляло большой сложности. Сейчас она была в комнате одна, и она просто улеглась на любимую кушетку, вытянула вниз ноги и перекрестила под своей туго обтягивающей юбкой, одну руку закинула под голову, а другую грациозно вытянула вперед, поддерживая бутылочку с колой, которая стояла прямо на ее диафрагме. Окончательно расслабившись, она на мгновение даже забыла о своем отражении, но продолжала – видимо, в силу привычки – фокусировать в зеркале свой взгляд.
Иногда здесь, в комнате отдыха для медсестер, девушка предавалась невнятным, сладким и каким-то неожиданным полетам фантазии. Не то чтобы эти фантазии замещали что-то в ее жизни, поскольку, казалось, непосредственно ее они и не касались, даже непрямо, а скорее все это происходило с ее отражением в зеркале, в которое она вглядывалась время от времени, как бы пытаясь заверить саму себя, что это приключение все же было реальностью.
Сегодня, однако, по каким-то непонятным причинам эти фантастические образы были слишком фрагментарными, а последовательность их была прервана и смешанна, или, если точнее, неинтересна и непонятна. Так что через несколько минут она встала и уселась перед зеркалом, начав причесывать волосы, и казалось, она делала это с бесконечным вниманием и нежностью, хотя на самом деле она была поглощена счетом: двадцать пять взмахов каждый раз, назад и в стороны. Поскольку со счетом у нее было не все в порядке, считала она очень внимательно. Затем она расчесала и наконец распушила волосы руками, раскладывая завитки. Она накрасила губы свежей помадой, выдавила пару угрей из носа, а следы закрасила очень светлой пудрой. Она полагала, что больше всего ее ценили за ее свежий, естественный вид – ив некотором смысле это было правдой. Затем, наконец, она встала прямо перед зеркалом, и в ее отражающихся глазах было больше критики, чем обожания. Она искусно огладила зад юбки, который слегка помялся от лежания и оттянулся внизу. Она аккуратно оправила свой халат, начиная от воротничка и плеч и заканчивая каймой – сначала огладила перед, стоя перед зеркалом, потом отряхнула халат по бокам. Поскольку все происходило как раз перед ланчем, она поставила на ремне зазубрину. Если бы кто-то еще при этом присутствовал, это вызвало бы у нее удивление. Сейчас, приведя себя в порядок, она успокоилась.
Ее движения стали медленнее и более выдержанными, естественно, не без некого шарма и грации, как будто она взяла на себя еще одну обязанность, но вполне привычную. И затем она обошла вокруг комнаты с легкой, неподражаемой уверенностью, держа кока-колу, которую выпила только наполовину, теперь уже почти выдохшуюся.
Она стояла в своем безупречно белом халате у окна, рассматривала широкую площадку, зеленые откосы и панели белого цемента, склонив голову и с отсутствующим видом попивая кока-колу, и ее глаза становились большими и круглыми, почти сказочными. Она могла бы быть одной из маленьких принцесс в ангельском королевстве, белоснежном и прекрасном. Она стояла чуть-чуть в стороне от окна, и с той же собранной легкостью она пересекла комнату, теперь как бы избегая дуновений тихоокеанского бриза, который шумел над землей с беспокойством, никогда не прекращающимся в светлое время суток. Так что, вернувшись от окна, рассеянная, Барби не заметила, как, объезжая откосы с гравием, к Клинике подъехала машина.
Это был желтый кабриолет, и первым впечатлением девушки было, что сидящие в ней люди – это звезды кино, поскольку оба они носили темные очки; молодая женщина за рулем с потрясающими солнечными волосами, наполовину спрятанными под блестящий черный платок, и ее лицо казалось коричневым, как первоклассная выделанная кожа. Она остановила машину перед дверью Клиники, и молодой человек вылез наружу, земной красавец, его одежда, как показалось, была дорогой и небрежной. Когда он повернулся спиной, чтобы закрыть дверь и перекинуться парой слов с компаньоншей, которая коротко приподняла руку и улыбнулась, перед тем как уехать, Барбаре на мгновение показалось, что это был Тайрон Пауэр, и сердце ее растаяло. В следующий момент молодой человек повернулся, чтобы подняться по ступенькам Клиники, заметил Барбару в окне, замедлил шаг и, глядя на нес, помахал рукой и заулыбался, и все это, несомненно, адресовалось ей. И тогда она осознала, хотя и не без шокирующей раздвоенности чувств: осознания и возникшей за этим обиды, что это был племянник фармацевта мистера Эдвардса, Ральф, из университета. И она ясно и четко видела теперь: то, что ей показалось усталой, декадентской улыбкой, оказалось попросту его мальчишеской гримасой. Ей захотелось разозлиться на него за это, и на один момент это практически произошло, потому что, когда он первым ей помахал, она распахнула от удивления рот. Теперь же она сжала губы и сорвалась прочь, с обиженно поднятой головой, как будто он снова, во второй раз за столько дней, попытался заглянуть ей под платье.
6
У Барбары Минтнер была пара солнечных очков, но она их никогда не носила, за исключением тех случаев, когда она ходила поплавать. Она это иногда делала в субботу днем, когда у нее в Клинике был выходной день. Если бы она одела их в любом другом случае, не будучи при этом кинозвездой, она почувствовала бы себя смущенно или даже глупо. И хотя сияние солнца могло раздражать ее, когда она выходила на ланч из Клиники, солнечные очки оставались для нее роскошью, претенциозностью, которой у нее никогда и не было. Кроме того, у нее были огромные прекрасные голубые глаза.
Тем не менее, когда она видела других в солнечных очках, за исключением людей на пляже, это сбивало ее с толку, потому что она всегда думала, что это кинозвезды или президент и всегда тщательно их разглядывала.
Однажды она купила роскошный тур в Голливуд, который включал в себя ланч в «Браун Дерби», и самая впечатляющая вещь, которую она когда-либо видела в жизни, была в этих могильно-серых, темных и одиноких фигурах, сгорбившихся в молчании под странными тарелками, и таких зловещих за своими задымленными очками, что бедная девочка не могла опознать ни единственной живой души.
– Это знаменитый режиссер, Бунюэль, – сказал экскурсовод об одном серьезном мужчине, который сидел отдельно, ел и пил без единого взгляда вокруг, спрятав глаза за парой мертвенно-черных солнечных очков; и долгое время после этого Барби чувствовала, сидя в кинотеатре, некое предвкушение, дожидаясь титров, искала это имя – Бунюэль. Позже она начала сожалеть, что не Хичкока или Сесиль Би де Милль она увидела в «Браун Дерби». Но она никогда, даже на секунду, не сомневалась в угрожающей важности людей в черных очках, а также в их праве носить их.
Так что, стоя за прилавком в диспансере и видя, что Ральф Эдвардс даже сейчас в темных очках, она так разозлилась, что ей захотелось схватить их, выкинуть и прищемить его нос.
– Привет, – сказал он почти отсутствующим тоном. Он только вешал свою куртку, хотя прошло уже десять минут с того момента, как Барби увидела его на ступеньках Клиники. После этого она была вынуждена полностью изменить линию поведения, хотя таковая едва ли была вообще продумана.
– О, привет, – прохладно ответила она, как будто не ожидала его увидеть, впрочем, в любом случае ее это не волновало.
По каким-то причинам это вызвало в нем смех, и когда он подошел к прилавку, он снова по-мальчишески улыбался. Под темными очками его зубы смотрелись как кусочки скошенной слоновой кости. Они были такими ровными и выглядели даже несколько фальшиво, и осознание, что эти зубы наверняка настоящие, пришло к девушке с раздражением и угрозой.
– Где мистер Эдвардс? – сказала она, пытаясь прийти в себя, оглядывая холл, а затем посмотрела на свои часики, даже не разглядев, сколько времени, и пытаясь отдышаться, хотя это ей не удавалось. – Фармацевт, – быстро добавила она специфическим тоном, который должен был убедительно доказать, что она не желает повторения последнего представления молодого человека.
– Вы любите музыку? – спросил он без смущения, неожиданно наглым голосом, как бы в порядке вещей, продолжая улыбаться, покачивая головой из стороны в сторону. И он сунул руку в карман рубашки, вынул нечто, что оказалось двумя билетами на школьный концерт. Но правда скрывалась в том, что все это время, начиная с его неожиданного смешка, недовольство на лице девушки проступало все больше и больше, неистово, неудержимо, так что теперь, когда она подняла голову, оказалось, что она явно сейчас взорвется от возмущения и заплачет, так что он замешкался и спросил с неподдельным сочувствием:
– В чем дело?
Затем Барби, очевидно, ошибившись, а может, наоборот, все правильно поняв и от этого расстроившись, раздраженно сказала, прямо туда, где находились его глаза, задымленные, загадочные, за обидными очками:
– Со мной все в порядке! В чем дело с вами? И сказав это, она резко повернулась и, оставив
Ральфа Эдвардса, стоящего за прилавком, широко разинув рот, промаршировала вниз по холлу, уже без слез, но в оцепенении от шока и удивления, которое граничило, но не соприкасалось, с фактически откровением: надо сказать, что в ее памяти сейчас был не образ молодого человека, оставшегося с раскрытым ртом за прилавком, а образ солнечно-янтарной блондинки, которая все еще улыбалась из-за кремового руля своего желтого кабриолета.
7
Новое здание учетных записей округа Лос-Анджелес было построено по дизайну Рауля Кришны, который тот спроектировал в 1936-м, когда жил в Солт Лэйк Сити. Оригинальная светокопия была нарисована и отправлена на конкурс, приуроченный к столетию со Дня независимости в Техасе. И если бы этот проект разместили, он стал бы одним из постоянных проектов, выставляющихся в Стэйт Парк Фэйр Граундз в Далласе. Этого не произошло, проект проиграл, однако сам художник пересмотрел и переделал чертеж. В том месте, где основной фасад изначально был спроектирован так, чтобы, согласно требованиям конкурса, выходить лицом к широкому спуску на эспланаду Стэйт Парка, он представил на новое рассмотрение уровень с куполами, с восемью сходящимися в одной точке подступами. Этот проект в течение последующих нескольких лет выставлялся на разных конкурсах в Соединенных Штатах и в Европе и даже время от времени отмечался второстепенными наградами.
В 1940-м этот проект попался на глаза первой женщине, которая состояла в Совете правления Лос-Анджелеса по городскому планированию. Весьма активная и популярная личность, жена некого влиятельного гражданина, она сама по себе являлась патронессой искусства и фактически патронессой этого конкретного художника. Таким образом, она представила на рассмотрение в Правлении этот план. Он был принят летом 1940 года, и после одной основной поправки (поскольку возводить оригинально спроектированную гигантскую куполообразную крышу по причине частых землетрясений в зоне Лос-Анджелеса было бы нецелесообразно, был разработан и принят более подходящий тип структуры крыши) началась работа. Постройку этого здания завершили в канун Святого Рождества в том же году. Получилась колоссальная структура, сделанная почти целиком из гипсового камня, и ее постройка обошлась примерно в два миллиона долларов.
Доктору Эйхнеру вряд ли было известно это здание. Хотя он проезжал несколько раз мимо в автомобиле и, будучи человеком начитанным, знал его историю, гражданские функции и так далее, но в его привычке было не придавать видимого внимания вещам, которые не имели жизненно важного отношения к его повседневным делам. Надо сказать, что если вдруг такие вещи становились жизненно важными, у доктора открывались удивительные способности постигать их сразу и целиком. Именно таким было его отношение к музыке. Если, например, он приходил в оперу, он обязательно знакомился с биографией композитора и, насколько это было возможно, заодно прочитывал биографии первых голосов. А поскольку в музыке или драме его вкусы так и не сформировались, в течение представления он скрупулезно следовал либретто или партитуре, поля которых он заполнял комментариями о представлении, всегда на языке пьесы. По этой причине он однажды за шесть часов выучил итальянский.
Таким образом, в канун слушания его дела Большим жюри присяжных он провел целый вечер в публичной библиотеке, изучая процессы Большого жюри, статьи закона, имена, жизни и персоналии судей, обвинителей и других гражданских и судебных чиновников, пролистывал подшивки газет, журналов, юридические записи, поглощая все, что имело какое-то отношение к ситуации.
Еще до того, как вечер закончился, он сам даже успел ознакомиться с планом здания Учетных записей, и теперь, когда он стоял снаружи, заслоняя от света глаза, в 10.20, ровно за десять минут до назначенного по расписанию собрания Жюри, он с неподдельным интересом осматривался вокруг, в уме проверяя точность подробных описаний, прочитанных накануне. С близкого рассмотрения здание казалось бесформенной вытянутой белой гипсовой массой, неглубокой и поверхностной, за исключением дальнего конца, где одна короткая секция была словно отброшена прямо в небо, и казалось, она целиком исчезала вдали, оставляя только лишь структуру, болезненный глянец в полуденной жаре. Больше, чем что-то еще, это современное здание напоминало огромный неизвестный мавзолей.
За пять минут доктор прошел половину фронтальной части здания, вслушиваясь в эхо от своих шагов, отдающееся в монастырском куполе, вошел в главную дверь и оказался внутри огромной, восьмиугольной приемной. Температура воздуха здесь, словно в кондиционированном кинотеатре, была освежающей. Сверху вниз шли бессчетные тонкие панели застекленной крыши, белоснежные стены, пол из зеленого сланца, а в центре огромной комнаты, эффектно и привлекательно, красовалась кабинка, тоже восьмиугольная, с надписью «Информация» на каждой из сторон и полностью сделанная из алюминия. Стоя прямо у входной двери, доктор измерил взглядом комнату в длину. По окружающим стенам располагались стеклянные двери, три на каждой из восьми сторон, ведущие, как было известно доктору Эйхнеру, в различные судебные палаты, бесшумно открываясь и закрываясь в обоих направлениях.
Усвоив увиденное, он направился прямиком к бюро информации и без единого слова продемонстрировал свой вызов в суд. В кабине сидел бледный старичок в костюме из жатой ткани и читал карманную книжку, которая лежала прямо перед ним на металлическом прилавке. Старик сначала взглянул на вызов, затем, с неким налетом раздражения, вероятно, рассерженный на такую немногословность, на самого доктора. В свою очередь, сохраняя подчеркнутое молчание, он вернул доктору вызов и просто ткнул пальцем на стрелку-указатель, рядом с одной из дверей, на которой, как и на вызове, было написано: «16-й округ, 8-я сессия». Доктор Эйхнер не ожидал увидеть здесь эти указатели, очевидно, недавние инновации, поскольку в описании здания о них ничего не упоминалось, так что на мгновение он был захвачен врасплох.
– Хорошо, – затем произнес доктор, получив вызов обратно в руки и собравшись было уходить, но на миг остановился, поскольку его посетила запоздалая мысль, и дружески заговорил со стариком, который уже снова углубился в свою книгу.
– Это сессия судьи Фишера, не правда ли?
– Судьи Торнтона Фишера? – сказал тот, поднимая маленькую седую голову. Он с хитрецой посмотрел на доктора, как будто подозревая ловушку, и медленно, закрыв глаза, покачал головой. – Не судьи Фишера, – монотонно сказал он, но тут же продолжил более милостивым тоном: – Судьи Фишера здесь больше нет. – В его голосе слышалась завершенность и раздраженная грусть, и он тут же вернулся бы снова к своему чтиву, однако от доктора Эйхнера не так просто было отделаться.
– А тогда где же судья Фишер? – резко спросил тот. – Если в восьмой сессии что-то поменялось, почему об этом не сообщили общественности? Это же обычная практика, не правда ли?
В голосе доктора слышалась такая неподдельная жалоба, что старик наконец поверил, что над ним не подтрунивают. Так что он даже прикрыл свою книжку, перегнулся вперед через алюминиевый прилавок, как будто собираясь по секрету сообщить нечто похабное, и его белое лицо побагровело.
– Он умер, – тихо и жалобно прошептал он, как будто ища сочувствия доктора. Сказав это, почти удовлетворенно, он резко откинулся назад, взял книжку и, держа ее наготове, скучно продолжил: – Позапозавчера. Или, может быть, это была среда. Да, это была среда. Асфиксия от моноксида углерода…
– Да, но почему общественности не сообщили? – нетерпеливо спросил доктор, поскольку времени у него оставалось мало.
– Это было в газетах, – ответил старик, неотрывно и хмуро уставившись на доктора, а затем неожиданно, чисто импульсивно, он сунул руку в карман и резким движением вынул помятый, потрескавшийся бумажник. Медленно и осторожно старик раскрыл бумажник, вытащил сложенную газетную вырезку и начал старательно ее разворачивать. Развернутая, она загораживала собой практически весь прилавок.
Заголовок статьи гласил:
«Трагедия в Вудлоуне»,
и ниже:
«Обычный Кадиллак стал палатой его смерти»
– Я видел этот заголовок, – с легким сомнением произнес доктор Эйхнер. – Здесь нет никаких указаний, что… – Он оборвал фразу, демонстрируя нетерпение, и целиком прочитал весь абзац.
Он начинался так: «Торнтон К. Фишер, выдающийся гражданский деятель и судья, проживающий в модном округе Вудлоуна, был найден прошлым вечером, скончавшийся от асфиксии, в своем автомобиле». Далее следовали описания обстоятельств трагедии, обнаружения тела и так далее, а под конец резюмировалось: «Друзьям и близким Фишера не известно причин, по которым судья Фишер хотел бы лишить себя жизни».
Доктор Эйхнер не имел привычки читать газеты, предпочитая получать новости из еженедельных обзоров, из периодики, поскольку эти издания описывали события прошедшей недели в закономерной и понятной последовательности, по привычному устоявшемуся образцу. Однако накануне вечером, готовясь к слушанию, он пролистал газетную подшивку недельной давности, чтобы быть в курсе дела. Видимо, двусмысленный заголовок заметки о трагедии, случившейся с Фишером, сбил его с толку, так что он не обратил на это внимания. Закончив чтение, он презрительно фыркнул и отбросил газетную вырезку, теперь уже бесполезную, на внутреннюю сторону прилавка.
– Все еще нет информации, – многозначительно сказал он, – об изменениях в Восьмой сессии! Так кто сейчас заседает?
Старик уныло свернул вырезку, не обращая внимания на доктора. Тот продолжал смотреть, удивляясь, что в этой газетной вырезке кто-то может видеть какую-то пользу. Однако доктор, видимо, был растроган этой фальшивой пренебрежительностью старика, и он вытянул вперед руку и мягко положил на его плечо.
– Я прошу прощения, – сказал он. – Я не хотел вас обидеть. Просто сама подача информации в этой заметке мне показалась такой… такой неадекватной. Я действительно…
– Судья Фишер был хорошим человеком, – сказал тот вызывающе, вздрогнув под рукой доктора, и когда он поднял глаза, в них были слезы. – Хорошим человеком, – повторил он, и казалось, еще немного, и он расплачется от всего сердца.
– Я в этом уверен, – сказал доктор, похлопывая его по плечу. – Я полностью в этом уверен. И я сожалею. – Затем, выдержав скорбную паузу, он продолжил: – Теперь мне надо идти. У меня слушание в Восьмой сессии. – Он посмотрел на часы, было 10.35. – Я был бы вам весьма признателен, если бы вы мне сказали, кто сейчас заседает.
Старик вынул платок и высморкался.
– Судья Лестер, – сказал он невнятно, и доктор, слегка откинув голову назад, наполовину прикрыл глаза и попытался сосредоточиться, припоминая около дюжины других имен, начинающихся на Л.
– Не Лессинг? – рискнул он под конец, с ухмылкой, выражающей его сомнения по этому поводу.
– Судья Лессинг? Судья Том Лессинг в Восемнадцатой окружной уголовной сессии, – сказал пожилой человек с негодованием, но тут же добавил теплым тоном: – Судья Ховард Лестер, – сказал он, отложил в сторону носовой платок и уселся, сцепив маленькие белые руки и лучезарно глядя на доктора.
– В таком случае, я его не знаю, – со всей серьезностью произнес доктор. – Каковы его склонности?
– Как это понимать?! – воскликнул старик.
– Я имею в виду его биографию.
– Судьи Лестера? Он не из нашего штата, – ответил старик неопределенно, – Аризона, Таксон, я полагаю. Таксон, Аризона. Вы говорили, у вас слушание? Сегодня?
– Да. Но, подождите минуту, вы говорили, что судья Лестер из Аризоны? Разве это нормально, что он не из нашего штата? Это же внутреннее дело округа, не так ли?
– Не совсем! – со знанием дела ответил старик. – Не совсем. Судья Фишер, например, родился в Вене. Хотя и американский гражданин. Его мама и папа были урожденные американцы. Его отец – я знал отца судьи Фишера – был в государственном департаменте Вены. Марк Фишер! Великий человек! Маркхам Р. Фишер, – запнувшись, закончил он, и в его словах чувствовалась явная гордость тем, что он знал старшего Фишера.
– Боюсь, что вы меня не понимаете, – сказал доктор почти холодным тоном. – То, что мне нужно выяснить, так это вот что: ведет ли судья Лестер протоколы в окружном суде и каковы его последние решения.
Старик, видимо, обидевшись только на то, что его сочли непонимающим, казался ошеломленным. Затем он сжал свои сцепленные руки и сказал с детской кичливостью:
– Боюсь, мы не вправе предоставлять информацию такого рода.
Доктор Эйхнер начал было говорить, но вместо этого посмотрел на часы. Уже прошло десять минут с того момента, как слушание началось.
– Полагаю, мне в эту дверь, да? – спросил он более формальным приветливым тоном, показывая вперед, туда, куда старик указывал ранее.
– Все правильно. В конце холла, – мрачно ответил старик.
– Спасибо. И простите за беспокойство, – сказал доктор, взмахнув рукой. – И доброго вам дня.
Тот ответил угрюмым кивком, но когда доктор Эйхнер повернулся, чтобы уйти, он тихонько позвал его снова:
– По таким вещам судья в слушании не заседает, это дело суда присяжных! – и даже улыбнулся ободряющей улыбкой.
– Да, конечно, – сказал доктор, практически не расслышав его слов. Он неожиданно вспомнил эту фамилию – Лестер, и теперь перспектива исхода слушания по его делу показалась ему совсем безрадостной.




