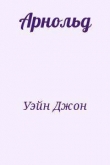Текст книги "Джон Рид"
Автор книги: Теодор Гладков
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Джонсон, красивый благообразный джентльмен, принял Рида в высшей степени любезно. По его словам, он был крайне польщен этим визитом. Не замечая или делая вид, что не замечает иронического внимания Рида, он стал объяснять
– Видите ли, я уже давно пришел к выводу, что наша страна нуждается в моральном пробуждении. Умы людей слишком заняты материальными вещами. Билл Сандэй заставляет людей задуматься о спасении души. Только тогда человек может отказаться от эгоистичного желания стать богатым. Вместо того чтобы агитировать за повышение заработной платы, он начнет заботиться о тех, кто беднее и несчастнее его.
Более противного лицемерия Рид еще не встречал, о чем и написал в своей статье.
За время короткого пребывания на родине Рид создал один из лучших своих рассказов – «Дочь революции», основанный на подлинном происшествии, случившемся с ним в Париже.
Это тяжелый, горький рассказ.
…В дождливый теплый вечер в знаменитом парижском кафе «Ротонда» молодой приезжий американец, в облике которого легко узнать автора, разговаривает с проституткой.
«Желтый свет фонарей заливал нас, отражаясь золотыми бликами на мокром тротуаре; мимо проносилась непрерывная вереница прохожих с зонтиками, оборванный дряхлый старик украдкой собирал окурки у нас под ногами; по мостовой мерно шаркали солдатские сапоги, но этот привычный звук почти не доходил до нашего сознания; мокрые косые полосы штыков вспыхивали с бульвара Монпарнас».
Марсель ничем не отличалась от других женщин «Ротонды». Она коротко стригла волосы, носила маленькую круглую шляпку, блузку с глубоким декольте и длинную пелерину. Губы ее были ярко накрашены, щеки густо набелены. Она то непристойно ругалась, то впадала в слезливую сентиментальность.
Эта девушка, вышвырнутая колесом жизни на панель, была внучкой коммунара. Он боролся за свободу своего класса и был расстрелян версальцами у стены кладбища Пер-Лашез. Его внучке, сломанной и растоптанной капиталистическим строем, осталась только одна свобода: ради куска хлеба продавать свое тело любому встречному.
Когда молодой американец, задумавшись, насвистывает «Карманьолу», Марсель дергает его за руку.
«– Эта песня запрещена, из-за вас нас всех сцапают, – сказала она. – Да и вообще не надо петь эти грязные песни. Это песни революционные, их поет чернь… беднота… оборванцы…
– Значит, вы не революционерка?..
– Я? Боже упаси! – воскликнула Марсель, энергично замотав головой. – Злодеи, которые хотят ниспровергнуть все…»
Молодой американец не скрывает от девушки своих революционных симпатий.
«– Послушай-ка, Марсель…разве вы счастливы вот в этом вашем мире? За что вы можете его любить – уж не за то ли, что вам приходится выходить на улицу продавать свое тело?.. Когда придет великий день, я знаю, по какую сторону баррикады мне стоять».
Этот рассказ Рида уже не только обличал капитализм, но и требовал возмездия. Для «Метрополитен» он был слишком взрывчат, и Джон отнес его в «Мэссиз».
Несмотря на серьезные разногласия, «Метрополитен» все же ценил Рида как военного корреспондента и не собирался отдавать его конкурентам. И редакция предложила Риду вновь отправиться во Францию. У Джека выбора не было: все же из всех крупных нью-йоркских журналов «Метрополитен» был самым приличным. Он согласился. Но во Францию Риду вернуться уже не пришлось…
…Утром 27 февраля в квартире Джека раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. Незнакомый мужской голос спросил, может ли он сказать несколько слов мистеру Риду. Едва лишь Джек назвал себя, как из трубки полилась отборная ругань. Ошеломленный Джек разобрал лишь несколько фраз: «…Предатель!.. Кровожадный гунн!.. Германский шпион!..» Ничего не понимая, Рид медленно опустил трубку на рычаг. К сожалению, очень скоро он убедился, что это не было дурацким недоразумением.
В этот день Данн опубликовал в нью-йоркском «Пост» очерк, где описал ночь, которую он с Ридом провел в немецких окопах. В очерке Данн красочно, с подробностями, имевшими место только в его воображении, рассказал о злосчастных двух выстрелах в воздух. Из этого рассказа явствовало, что Рид стрелял (и не раз!) по французским окопам.
Лучшего повода для травли не могли бы придумать самостоятельно даже самые заклятые враги Рида.
Анонимный телефонный звонок был только первой струей в том потоке инсинуаций и клеветы, который незамедлительно обрушился на Рида. «Нейтральный американский корреспондент стреляет во французских солдат!», «Американец в рядах кайзеровской армии!», «Джон Рид осиротил французского ребенка!» – это была сенсация, находка, великолепный повод покончить с человеком, осмелившимся заявить, что война в Европе – варварское истребление в угоду торговцев.
Французское правительство официально сообщило, что ни Рид, ни Данн никогда не получат разрешения на въезд во Францию.
Теодор Рузвельт не преминул громогласно объявить:
– Если бы я был маршал Жоффр и Рид попал в мои руки, я предал бы его военно-полевому суду и расстрелял.
Возможно, сочти Рид всю эту свистопляску вокруг его имени случайной ошибкой, он был бы глубоко расстроен.
Но он сразу понял, что эта кампания не случайна и направлена не столько против него лично, сколько против идей и взглядов, которые он проповедовал и утверждал в своих очерках. И Рид не встал в позу невинно обиженного, а мужественно и с достоинством принял вызов.
Он стал выступать на собраниях в различных клубах и рассказывать правду о войне. Его встречали шиканьем и презрительными выкриками. Но он говорил, и от его спокойных, пронизанных глубокой убежденностью в своей правоте слов у многих раскрывались глаза.
Потом Рид написал статью для «Мэссиз», в которой излил всю свою ненависть к милитаризму, военщине и патриотическому психозу. Статья заканчивалась гордыми словами, прозвучавшими, клятвой, что он, Джон Рид, никогда не будет солдатом в этой войне.
Поскольку двери во Францию навсегда захлопнулись перед ним, Рид вынужден был пересмотреть свои планы. Редакция «Метрополитен» предложила ему отправиться на три месяца в Восточную Европу, чтобы описать происходящие там военные события. На этот раз Джон должен был ехать не один, а в сопровождении Бордмена Робинсона, которому редакция поручила иллюстрировать рассказы Рида.
20 марта, покончив со всеми нью-йоркскими делами (последние из них – прививки от холеры и тифа), Рид и Робинсон отплыли в Италию.
ПО ДОРОГАМ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Когда в апреле 1915 года Рид вторично прибыл в эту страну, Италия, как и семь месяцев назад, все еще собиралась вступить в войну. Рассудив, что этого события можно напрасно прождать еще столько же времени, Рид и Робинсон отправились в Грецию. Маленький пыхтящий пароходик не спеша перебрался через Эгейское море и высадил их в Салониках. По странной прихоти войны этот пыльный сонный городок на задворках Европы вдруг превратился в шумный международный перекресток. Город заполняли толпы людей, говорящих на двадцати различных языках. С утра и до вечера сюда стекались беженцы: европейцы из Турции, турки, греки из Леванта. Ежедневно Рид видел печальные процессии: мужчины, женщины, дети с разбитыми в кровь ногами ковыляли рядом с тележками, груженными жалкой рухлядью. Беженцы из Лемноса занесли в город чуму, которая еще свирепствовала в районах, населенных беднотой.
Беззаботные некогда Салоники оказались опутанными густой сетью интриг и заговоров.
Салоники считались нейтральным городом, но ежедневно в него прибывали английские корабли с боеприпасами и снаряжением для сербского фронта.
Как-то Рид задумался над тем, как будут люди жить после того, как эта проклятая война кончится. Хватит ли у них жизненных сил, чтобы встать на ноги после такого страшного потрясения, не отравят ли война и лишения их души озлоблением и взаимной ненавистью? Смогут ли они снова пахать землю, ловить рыбу, петь и танцевать, рожать детей без страха за их будущее? Он думал о народе, о простых людях, создающих своими руками все стоящее на земле, а не о вырождающихся привилегированных классах.
Рид все чаще и чаще убеждался, что носителями душевных сил наций и стран, хранителями высшей человеческой культуры – культуры созидательного мирного труда, единственными спасителями подлинной цивилизации от хаоса и разрухи могут быть только люди с мозолистыми руками.
Общаясь с ними, Рид словно черпал воду из чистого родника.
Однажды ночью в пустынном квартале доков Рид и Робинсон заглянули в портовый кабачок. Это был обыкновенный греческий подвальчик с низкими сводами, плотно убитым земляным полом, грубыми столами и стульями, винными бочками, вделанными в стены. С потолка свешивалась одна-единственная тусклая лампа. За столом сидели восемь человек. Жалобно и заунывно они выводили какую-то бесконечную восточную песню и отбивали такт стаканами.
Американцев встретили приветливо, словно старых друзей. Потеснившись, усадили за стол, налили полные стаканы терпкого, густого вина.
Эти люди встретились здесь случайно, никто прежде не был знаком друг с другом. Все семеро (восьмой – хозяин) оказались плотниками. Четверо из них были греки из разных городов, один – итальянец из Алеппо в Сирии, один француз и один армянин, у которого всю семью вырезали турки.
Один из плотников говорил по-английски, другой – на грубом жаргоне французских моряков, третий – на неаполитанском наречии, четвертый – на испанском языке, принятом в Леванте, армянин – на испорченном немецком, которому научился, работая на Багдадской железной дороге. Все они знали греческий язык и своеобразный жаргон средиземноморских матросов.
Когда выпили, хозяин, сияя от удовольствия, снова наполнил всем стаканы.
– Вот он какой! – сказал итальянец. – У нас нет денег. Он нас кормит, поит, и мы спим у него на полу. Да воздаст ему господь за его доброту!
– Богу известно, как я люблю общество, – сказал хозяин. – Да и нельзя же в такое время выкидывать на улицу обездоленных людей. К тому же, когда есть работа, плотники получают хорошо. Когда-нибудь они со мной расплатятся.
Рид спросил, не обращаясь ни к кому в отдельности:
– Хотели бы вы, чтобы Греция вступила в войну?
– Нет! – воскликнул кто-то.
Другие с угрюмым видом отрицательно покачали головами.
– Дело в том, – медленно подбирая слова, заговорил грек, знающий английский, – что эта война выгнала нас из дому и лишила работы. Плотникам сейчас нечего делать. Война разрушает, а не строит. А плотник рожден, чтобы строить.
Последние слова он перевел молчавшим слушателям, и все одобрительно зашумели.
– Ну, а как быть с Константинополем? – спросил Робинсон.
Итальянец поднял стакан и выкрикнул:
– Да здравствуй международный Константинополь, город для всех!
И все снова дружно выпили. Потом в честь гостей плотники спели протяжную турецкую песню, постукивая по столу жесткими, негнущимися пальцами.
Хозяин принес еще вина. Обрадованный итальянец по этому поводу превосходным тенором спел «Сердце красавиц». Потом все потребовали американскую песню. Джек и Робинсон спели «Тело Джона Брауна». Песня настолько понравилась, что ее повторили четыре раза и все громко подхватили припев:
Тело Джона Брауна покоится в земле,
Но дух его шагает и шагает вперед!
Музыку сменили танцы. При мерцающем свете лампы сам хозяин повел за собой «коло». Тяжело били оземь грубые сапоги, мерно раскачивались заскорузлые сильные руки, развевались рваные одежды…
Хорошие они были люди, эти семеро плотников…
Из Греции Рид и Робинсон отправились в Сербию. Перед тем как сесть в поезд, они натерлись с головы до ног камфарным маслом и набили все карманы нафталиновыми шариками. Так делали все едущие в Сербию, где свирепствовали всевозможные виды тифа, брюшной, возвратный и загадочный сыпняк, убивающий половину своих жертв.
Эпидемия в Сербии уже стихала – теперь в ней насчитывалось «всего» сто тысяч больных, и в день умирала «лишь» тысяча человек.
Вскоре Рид увидел первых сербских солдат, изможденных и до предела оборванных. За три года они пережили четыре войны и ни разу не сменили форменной одежды.
Сербия, казалось, ничем не отличалась от Македонии, но зоркий глаз Рида быстро подметил на всем печать войны. Тутовые деревья были заброшены, на полях, давно не паханных, торчали одиноко стебли кукурузы. Только однажды он увидел двух быков, погоняемых женщиной в пестрой домотканой юбке. Быки тащили за собой деревянную соху из цельного дубового сука. За сохой шел солдат с винтовкой, волочившейся по земле.
Когда Рид и Робинсон прибыли в Белград, город лежал в руинах, над разбитыми и сожженными коробками домов вился сизый дрожащий дым. На протяжении двух суток, что они пробыли в сербской столице, город непрерывно обстреливала австрийская артиллерия.
Потом спутники отправились на фронт – в район знаменитой горы Гучево, где на протяжении десятимильного фронта под самыми облаками пятьдесят четыре дня шло ожесточенное сражение.
Рид и Робинсон в сопровождении симпатичного молодого капитана то пешком, то верхом поднялись на высоту примерно тысячи футов.
По одну сторону открытого пространства протянулись сербские траншеи, по другую – австрийские. Их отделяли каких-нибудь двадцать ярдов. Всего лишь двадцать ярдов! То, что увидели здесь Рид и Робинсон, превосходило ужасы всех девяти кругов Дантова ада. Даже теперь, когда человечество познало кошмар Хиросимы и Нагасаки, невозможно без чувства содрогания читать строки, написанные Ридом за тридцать лет до того, как к небу взметнулись ядовитые атомные грибы:
«Поверхность земли между ямами была вздыблена беспорядочными нагромождениями глины. Присмотревшись поближе, мы увидели потрясающие вещи из этих маленьких холмиков выглядывали обрывки форменной одежды, черепа с выпачканными в земле волосами, на которых еще висели клочья мяса, белые кости с гниющими кистями рук, окровавленные ноги, торчащие из солдатских сапог. Нестерпимый смрад стоял здесь. Стаи полудиких собак рыскали на опушке леса. Видно было, как две из них рвали что-то полузарытое в земле. Не говоря ни слова, капитан вытащил револьвер и выстрелил. Одна собака зашаталась, упала в судорогах и затихла, другая убежала с воем за деревья. И тотчас же из глубины леса раздался в ответ жуткий вой, замерший вдали, за много миль от поля битвы.
Мы шли по мертвым – так густо они лежали, – иногда попадая ногами в ямки, полные гниющего мяса, и давя с хрустом кости. Маленькие углубления внезапно проваливались, образуя глубокие ямы, кишащие червями. Большинство трупов было покрыто лишь тонким слоем земли, частично смытой дождем, а многие вовсе не были похоронены. Целые груды мертвых тел австрийцев лежали на земле в том положении, в каком их застала смерть в момент отчаянной атаки, – в позах борющихся не на жизнь, а на смерть. Между ними попадались и сербы. В одном месте тесно переплелись два полусгнивших скелета – австрийца и серба. Руками и ногами они сжимали друг друга в мертвой хватке, и даже теперь их невозможно было оторвать друг от друга…»
От Рида ждали «живописаний» – что ж, он их дал. Он писал с яростью, с ненавистью, пропуская слова и разрывая бумагу.
Он не боялся натурализма, не обходил стыдливо самых отвратительных сцен. Рид хотел, чтобы от его очерков подступала к горлу тошнота, как душила она его самого от смрада в долине трупов, чтобы у людей встали волосы на голове, как вставали они у него, чтобы они прокляли тех, кто устроил эту бойню, как проклял их он…
Каждой строкой, каждым словом он требовал. «Люди, ужаснитесь содеянному, опомнитесь от безумия, прекратите кошмар братоубийства!» Эти страшные картины не только заставляли содрогнуться, но и требовали возмездия Рид не пугал читателя призраком смерти, но предупреждал об опасности, не стесняясь для этого прибегать и к сильнодействующим средствам.
Вернувшись в Белград, Рид и Робинсон несколько дней не могли прийти в себя после впечатлений от поездки на фронт. Обоим потребовалось преодолеть какой-то внутренний барьер, прежде чем они смогли приступить к работе с удвоенной энергией.
Рид с утра до вечера стучал на машинке Робинсон, приткнувшись у окна, заполнял листы ватмана десятками рисунков. Под его стремительным карандашом появлялись изможденные, худые сербские солдаты, унылые и понурые фигуры австрийских пленных, диковатые лица цыганок, контуры разбитых домов, обожженные деревья взметали к небу, словно моля о пощаде, изломанные сучья. И трупы, трупы…
Закончив лист, Робинсон, не оборачиваясь, спрашивал:
– Похоже?
Рид оставлял машинку, склонив голову и закрыв один глаз, рассматривал картон. Потом подтверждал лаконично:
– Похоже.
Но однажды вместо ответа Робинсон неожиданно услышал протяжный, глухой стон. Он резко обернулся: с белым как бумага лицом-маской Рид, сложившись пополам, корчился на полу. На скривившихся губах Джека застыла нестерпимая, острая боль. Острые стальные клещи впились в поясницу, рвали, грызли внутренности, спутавшееся сознание не в силах было удержать тело от конвульсий.
Перепуганный Робинсон кинулся за врачом. Диагноз был неутешителен: серьезное заболевание почек. Болезнь, прятавшаяся десять лет, прорвалась нежданной грозной вспышкой.
Приступ постепенно ослаб, боли стихли. Густая красная пелена перед глазами прояснилась. Откуда-то появилось вначале неясное, потом определившееся встревоженное лицо Робинсона.
– Джек! Джек, что с тобой?
Рид слабо улыбнулся.
– Как будто бы все прошло… Помоги мне встать…
Пришел еще один врач – профессор из университета. Ловко помял поясницу сильными чуткими пальцами, сочувственно буркнул:
– Дело дрянь, юноша. Возвращайтесь поживее домой. Левую почку придется удалить, иначе вы не жилец.
Приступ больше не повторялся, и Рид, подобно всем людям, привыкшим считать себя здоровыми и относиться к болезням, как к выдумкам врачей, решил, что раз худшее миновало, дело как-нибудь обойдется.
Едва лишь встав на ноги – это произошло в конце мая, – Джек уговорил Робинсона ехать в Россию.
Дорога в таинственную страну Достоевского и Льва Толстого проходила через Румынию. Но русский посол в Бухаресте, как оказалось, был не полномочен решить вопрос о въезде в империю двух американских журналистов. Для этого, по его словам, требовалась санкция Петрограда.
Американский посланник тоже ничем не смог им помочь. Наоборот, он сам просил выяснить для него, что стало с группой американских граждан, проживающих на территории, занятой сейчас русскими войсками.
Рид и Робинсон рассудили, что запрос в Петроград по дипломатическим каналам – дело долгое, и решили проникнуть в Россию «с черного хода». С помощью начальника местной полиции, весьма чувствительного к виду зелененьких бумажек с – символическим изображением Соединенных Штатов Америки, они наняли плоскодонную лодку, и неразговорчивый лодочник глухой, безлунной ночью переправил их через пограничную реку. Мягко и беззвучно лодка ткнулась в глинистый берег. Цепляясь за прутья ивняка, Рид и Робинсон выкарабкались наверх – в Россию.
У первых русских солдат, которых увидели Рид и Робинсон, оказались раскосые черные глаза и оливковая кожа. Говорили они на странном, гортанном наречии. Это были туркмены.
В небольшом местечке, забитом военными, американцы случайно затесались в пьяную офицерскую компанию, где их угостили настойками семи сортов, не считая коньяка.
– Что вам нужно в России? – спросил журналистов какой-то офицер по-французски.
– Во-первых, побывать на фронте, – ответил Рид, – а во-вторых, узнать, что стало с несколькими американскими гражданами.
– Здесь вы ничего не добьетесь. Отправляйтесь в Тарнополь, к генералу, – посоветовал офицер, подливая Джеку одну из семи настоек.
Утром Рид и Робинсон выехали в Тарнополь. Так началось их путешествие по России, во время которого они пережили столько приключений, что их с избытком хватило бы Жюлю Верну на несколько романов.
Первый день пути их неторопливо тащил по одноколейной дороге старый, надсадно пыхтящий паровозик. В вагонах вместо привычных – прямо снаружи – дверей в купе было всего по два входа. Джек не знал, сколько здесь имелось мест для лежания, но не сомневался, что на самые верхние – третьи – полки, под потолком, билеты не продавали, хотя ни одна из них не пустовала. Курить можно было сколько угодно.
Какой-то солдат с изумительным проворством скрутил для Рида толстую сигарету из газетной бумаги и крупно нарезанного табака. Джек опасливо втянул густой сизый дым и закашлялся. Табак оказался невероятной крепости и своеобразного вкуса. Назывался он «махорка».
На остановках все обитатели вагона, захватив большие кружки и жестяные чайники, кидались за кипятком и потом до следующей станции почти непрерывно пили обжигающе горячий чай. Сахар в кружки не клали, а откусывали по маленькому кусочку.
Почти все время в вагоне кто-нибудь пел. Риду понравились проникновенные и грустные русские мелодии. Две песни произвели на него такое сильное впечатление, что он попросил перевести ему слова и записал их.
Первая песня начиналась так:
Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья…
Вторая:
Помню, я еще молодушкой была…
Впоследствии тексты обеих песен Рид привел в своей книге. Появление американцев привело в смятение всех военных чинов в Тарнополе.
– Как, – спросили их, – разве вы не знаете, что корреспондентам не дозволено появляться в Буковине и Галиции ни в коем случае?
– Но мы уже здесь, – пожал плечами Рид.
– Нет, нет! Немедленно уезжайте! Сейчас идет отступление, и вам никак нельзя оставаться в городе. Вы хотите на фронт? Это и подавно запрещено.
Правда, пропуска до Львова им все же дали.
По дороге во Львов Рид много беседовал со случайными попутчиками: офицерами, солдатами, жителями, сорванными с родных мест войной. Постепенно перед ним, несмотря даже на трудности с языком, вырисовывалась выразительная картина разложения российского самодержавного государства. Он слышал десятки историй о полках, дошедших до передовой, но так и не получивших оружия, о снарядах, которые не подходили к орудиям, о предательстве немецких сановников при дворе, о пособничестве им самой «хозяйки земли русской» – Александры Федоровны.
Маленький злой поручик с белым крестиком на потертом мундире рассказал американцам удивительную историю о некоем идиоте генеральского звания, известном своей редкостной бездарностью еще с русско-японской войны.
Встретив полк, совершивший почти без отдыха пятидневный марш, этот военачальник абсолютно без всякого резона распорядился поднять солдат и отправить их в траншеи. «Генерал снова отправился спать, – записывал Джек рассказ офицера-фронтовика, – командиры уговаривали, оправдывались, угрожали солдатам. Ужасно было слышать, как солдаты просили есть и спать. И вот колонна закачалась к передовым позициям… Полк занял окопы в десять часов утра и весь день пробыл под огнем. Походные кухни не могли к нему пробраться. Люди шатались, словно пьяные, и засыпали в то время, как по ним стреляли. Из восьми тысяч вернулись только две, но и из них тысяча двести человек легли в лазарет… Быть может, самым потрясающим во всей этой истории было то, что в распоряжении генерала имелось несколько свежих полков».
Другой офицер рассказал Риду о совершенно невероятном случае воровства.
– Дело было так. В 1905 году наше правительство купило у французов несколько батарей 75-миллиметровых орудий. Пушки проследовали через границу честь честью – и пропали! Растворились бесследно! Никто и никогда их так больше и не видывал.
Через некоторое время французский военный атташе в Бразилии вдруг обнаружил, что в тамошней армии появились невесть откуда орудия фирмы «Крезо». А между тем Франция никогда орудий Бразилии не продавала. Атташе сумел записать номера нескольких стволов и сообщил в Париж.
И что бы вы думали? Там установили по номерам, что пушечки те самые, что купили русские!
Джек явственно ощутил, что его способность удивляться после этого рассказа заметно снизилась.
Порой Рид впадал в отчаяние, что никогда не сможет разобраться в том, что представляет собою эта огромная загадочная страна, непохожая ни на одну другую в мире. Беда эта усугублялась необычайной трудностью красивого, звучного, но абсолютно не поддающегося изучению – по его первому впечатлению – русского языка.
Однажды Рид разговорился (по-французски!) с молодым интеллигентного вида солдатом. Его погоны были обшиты красно-бело-синим витым шнурком (цветов русского флага). Рид спросил, что означает этот шнурок.
– То, что я волонтер, вступил в армию добровольно.
– А как будет «волонтер» по-русски? – спросил Джек.
– Вольноопределяющийся, – ответил юноша.
Рид записал это слово в английской транскрипции так: «volnoopredielyayoustchemusia», после чего окончательно потерял всякую надежду овладеть когда-либо русским языком.
Прибыв во Львов, Рид и Робинсон отправились во дворец генерал-губернатора Галиции князя Бобринского.
Их принял какой-то полковник, взял паспорта, сказал «сейчас» и ушел. В результате Рид узнал, что русское слово «сейчас» может означать несколько минут, неделю и даже никогда. В данном случае оно означало четыре часа. Потеряв в конце концов терпение, Рид и Робинсон отправились разыскивать полковника в бесконечных комнатах старинного польского дворца. Увидев их, полковник страшно удивился, что они еще не ушли.
Все же от него удалось узнать, что генерал-губернатор тоже не правомочен дать им какие-либо пропуска.
– Но кто же в России может это сделать? – вскричал Рид.
– Только его императорское высочество великий князь Николай Николаевич в Петрограде или главнокомандующий войсками юго-западного фронта генерал Иванов в Холме.
Проклиная свою незавидную судьбу, Рид и Робинсон снова отправились на вокзал.
Претерпев множество мытарств (в том числе арест в Ровно), Рид и Робинсон добрались до Холма, где располагался штаб генерала Иванова. Было уже поздно, и они отправились разыскивать гостиницу «Бристоль», так как по длительному опыту уже знали, что гостиница с таким названием непременно должна существовать в любом городе и городке на всем Европейском континенте. Увы, «Бристоль» в Холме разделила участь всех других «Бристолей» – пришла к полному упадку.
Лучшим и единственным отелем города была невзрачная трехэтажная постройка с гордой вывеской – «Английская гостиница». Как потом выяснил Рид, ни один англичанин отродясь не заезжал в Холм.
Утром за американцами пришел офицер с бритой наголо головой и пригласил их пройти с ним в штаб. Он сказал, что четыре человека слышали, как они разговаривали по-немецки, и донесли, что в Холм проникли шпионы. Рид и Робинсон расхохотались: они еще не знали, что такое в России донос!..
В штабе их встретил вежливый офицер, отлично говоривший по-французски. Они показали ему свои паспорта и объяснили, что приехали в Холм для того, чтобы испросить у генерала Иванова разрешения посетить фронт.
Глядя куда-то мимо, офицер сказал Риду и Робинсону, что сначала он должен телеграфировать великому князю (это «простая формальность…»). Ответ придет через два-три часа! Пока же он рекомендует им подождать в гостинице.
Рид и Робинсон вернулись в свой малюсенький затхлый номер с двумя оконцами под самой крышей. Они ждали целый день, но к ним никто не пришел. На следующее утро снова явился бритый офицер и сообщил, что великий князь еще не ответил, но, без сомнения, ответит в течение дня или завтра. Пока же ему приказано затребовать у них обоих документы.
– Значит, мы арестованы?
– Нет. Но, господа, Холм – важный военный объект… – Тут офицер окончательно запутался в невразумительных фразах и поспешил ретироваться.
Через пятнадцать минут у входа в номер мрачно застыли три казака, не спуская с американцев подозрительных взоров.
Рид и Робинсон написали Иванову негодующую записку. В полночь к ним пришел полковник из штаба, извинился и переместил казаков вниз на лестницу.
Американцы потребовали объяснить, в чем их вина.
– Прежде всего, – сказал полковник, – вы приехали без необходимых пропусков.
– Ну, ведь нам были выданы пропуска во Львове князем Бобринским, – удивился Рид.
Полковник пожал плечами.
– Это не те пропуска. Затем, – продолжал полковник, – вам стало известно, что в Холме находится ставка генерала Иванова, а это военная тайна.
Тут уже не выдержал Робинсон:
– Но об этом знают буквально все в Галиции, потому нам и рекомендовали ехать сюда! Это очень странная военная тайна!
В конце концов полковник намекнул, что в штабе считают очень подозрительным список имен, обнаруженных в бумагах американцев.
Посоветовавшись друг с другом, Рид и Робинсон заявили, что они отправят телеграммы американскому и английскому послам.
Их заключение длилось шестнадцать дней! Шестнадцать убийственно однообразных, тоскливых, впустую пропавших дней. Только благодаря врожденному оптимизму Рид и Робинсон спокойно проспали шестнадцать ночей, не портя себе настроения мыслями о том, что их могут отдать под суд как шпионов и повесить.
Целыми днями они по очереди читали единственную оказавшуюся в номере книгу – русско-французский словарь, распевали непристойные песни и сочиняли ядовитые послания царю, Думе, Государственному совету, великому князю и генералу Иванову. Казак ежедневно относил эти послания в штаб. Кроме того, они до одурения играли в бридж с «болваном» вместо третьего игрока, в результате чего Рида до конца его дней воротило от вида карт. По шесть раз в день хозяин приносил им самовар.
К концу восьмых суток Робинсон стал рисовать. Как всемогущий джинн из арабских сказок, он взялся осуществить любое желание Рида. Вначале он нарисовал для Джека автомобиль, потом яхту, потом городской дом, потом роскошную загородную виллу. Так продолжалось до тех пор, пока Риду не стало совестно владеть таким количеством движимого и недвижимого имущества.
Поскольку Рид отказался больше принимать его щедрые дары, Робинсон стал рисовать чубатых казаков, офицеров, хозяина гостиницы, прохожих под окнами. Некоторые из этих рисунков, поразительно острых и точных, вошли впоследствии в книгу, которую Рид написал по возвращении в Америку.
По вечерам, когда казак отлучался, чтобы перехватить стаканчик-другой, Рид вылезал из окна на покатую железную крышу и наблюдал за жизнью городка.
Отсюда были видны длинные унылые здания солдатских казарм, восемь церквей и утопающий в зелени монастырь. Напротив, через улицу, помещались еврейская синагога и хедер, откуда непрерывно доносилось заунывное гудение детских голосов.
Ежедневно перед глазами Рида и Робинсона разыгрывалась трагедия евреев в России. Внизу, под окнами, расстилался отвратительный грязный двор, полный отбросов. На него выходили два покосившихся, облупленных дома, заселенных в невыразимой тесноте еврейской беднотой. Высокий забор отделял двор от улицы. Большие ворота запирались на мощный засов. Двери и нижние окна домов всегда были прикрыты деревянными ставнями. Это делалось для защиты от погромов. Джек записал в своем блокноте несколько грустных фраз: «Тесен мир, где только и разрешено жить евреям в России. Тяжко дышится евреям в черте оседлости».