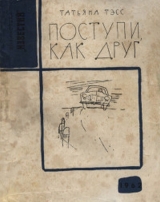
Текст книги "Поступи, как друг"
Автор книги: Татьяна Тэсс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Татьяна Тэсс
Поступи, как друг
очерки
Его дети
Большая душа никогда не бывает одинокой.
Ромен Роллан
…После всего, что я о нем рассказала, я хочу добавить: это человек необыкновенной душевной скромности. Пойдите к нему, познакомьтесь с ним, Вы сами убедитесь в этом.
Из письма в редакцию
И вот я жду в вестибюле клиники. Я совершенно не знаю, как выглядит человек, которого должна здесь увидеть. Скоро начнется заседание научного общества, куда он придет. Дверь поминутно открывается. В каждого, кто входит, я внимательно вглядываюсь.
Порог переступает осанистый человек с большим портфелем. Он не торопясь раздевается, аккуратно стряхивает мокрый снег с воротника, осторожно вытирает платком щеки. В каждом его жесте – уверенность в себе, значительность, неуловимое сознание собственного превосходства. Я гляжу на его широкую, барственную спину, когда он поднимается по лестнице, и думаю: «Нет, не тот».
Сейчас у вешалки краснощекий шумный брюнет с добродушным лицом и свисающим на лоб чубом. Он называет всех входящих по имени, громко и приветливо здоровается, немного театрально протягивая свою большую, широкую руку, кого-то окликает, кого-то просит занять ему место… Возле вешалки сразу становится тесно. Потом он взбегает вверх, перескакивая через ступеньку, а я смотрю ему вслед и думаю: «Нет, не тот!»
Теперь раздевается очень сосредоточенный, ушедший в себя человек. Он настолько поглощен собственными мыслями, что ничего вокруг себя не замечает. Он забывает снять галоши и возвращается назад. Потом он возвращается еще дважды – за очками, за папкой, – сконфуженно извиняется и уходит, не заметив, что с ним здороваются. И опять я решаю: «Не тот!»
Того, кого я жду, все нет. И в минуту, когда я начинаю думать, что он совсем не придет, я слышу за своей спиной восклицание:
– Здравствуйте, доктор!
Здоровается немолодая озабоченная женщина – родственница кого-то из больных.
Она все время сидела в углу, отправив с санитаркой в палату кулек яблок. Я давно заметила ее лицо, усталое и грустное. Сейчас оно просияло, даже глаза у нее стали другими – теплыми, глубокими, изумленными… Тогда я снова поворачиваюсь и смотрю на того, кто вошел в дверь.
Ни в наружности, ни в одежде вошедшего нет ничего заметного. Он неловко и даже смущенно вглядывается сквозь запотевшие очки. У него обыкновенная внешность человека, уставшего после рабочего дня. На вид ему лет пятьдесят с лишним, что-то застенчивое и доверчивое сквозит в очертаниях его лица, во внимательном взгляде, в мягкой улыбке… И я делаю шаг вперед и тоже говорю:
– Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Павел Нилович! Я вас давно жду…
Теперь мы сидим на площадке лестницы, за круглым столиком. Он смотрит на меня с изумлением, так и не понимая, зачем я его разыскала. Для начала разговор заходит о его работе.
…Что говорить, трудная у него специальность! Болезнь – это всегда беда. Но нет, пожалуй, ничего более страшного, чем болезнь, поражающая душу.
Можно пожаловаться, когда болит рука. Можно посетовать на больное сердце. Но нельзя, невозможно даже близкому рассказать о боли, о страхах, о призраках, которые гнездятся в тайниках души, терзая, лишая сна, обрекая на муки, на беспредельное одиночество…
– Чтобы быть психиатром, надо прежде всего любить людей, – говорит мой собеседник. – Если больной почувствует вашу любовь к нему – только тогда он впустит вас в свой внутренний мир. Он ответит вам на вопрос: «Что тебя мучает?» И врач должен снять источник этих мучений, затормозить очаг возбуждения, создать щадящие условия для этой израненной души, для несчастного, страдающего человека…
Он говорит, а мне видится лицо женщины, сидевшей в вестибюле, ее вспыхнувшие глаза и та неизъяснимая нежность, с какой она сказала: «Здравствуйте, доктор!» Мой собеседник продолжает говорить, а я думаю не только о его работе, но о его жизни, его доме, его судьбе, обо всем том, что стало мне известно без его ведома и что узнала я из полученного в редакции письма. И, сказать честно, из-за письма-то я и пришла сюда.
Нового моего знакомого зовут Павел Нилович Ягодка. Пятнадцать лет назад в его семье случилось несчастье.
Смертельно заболела его младшая сестра, еще молодая женщина, мать четверых детей. Муж ее без вести пропал на фронте, она жила с детьми одна. Узнав о ее болезни, брат вылетел к ней на самолете. Как врач он понял, что состояние ее безнадежно. Он увез ее вместе с четырьмя детьми в Москву.
Человек одинокий, он жил в маленькой комнате. Тут-то и поселилась вся семья. Спустя небольшой срок сестра умерла. И на руках холостяка, никогда не знавшего, что такое уход за ребенком, осталось четверо маленьких детей.
Старший уже ходил в школу, младший был мал даже для детского сада. Всех надо было вовремя кормить, купать, надо было зашивать и штопать их порванные штанишки и чулки, следить, как они учатся, жалеть их, когда им больно, вставать ночью, когда им страшно, и утешать, когда они плачут, зовя мать.
Для них нужно было время, которого и без того не хватало на больницу, на научную работу; для них нужно было сердце, которому и без того было нелегко все вместить. Вероятно, ради них, этих четырех вошедших в его жизнь ребят, приходилось порою отказываться от многого.
Не только от сна или отдыха.
Быть может, и от личной жизни, личного счастья.
Дети росли; комната, еще недавно вмещавшая их, с каждым месяцем как бы уменьшалась в размере.
Сквозь сетки детских кроваток высовывались розовые пятки. Диванчик уже не вмещал своей обитательницы. Становились тесными башмаки, становились короткими штаны и юбки. Обо всем этом надо было заботиться и думать.
Но маленький мир комнаты всегда был миром тепла, любви и дружбы.
Дети росли трудолюбивыми, сызмала приученными к самостоятельности, отлично учились, ценили добро, ласку, заботу. Из письма я знала, что старший, Сергей, сейчас уже кончил МЭИ, работает в научно-исследовательском институте, женился, у него родилась дочь. Лена и Наташа – студентки. Младший мальчик, Петя, кажется, в этом году кончает школу. А может быть, уже пора не вспоминать письмо, а расспросить наконец обо всем главу семьи?
И, набравшись решимости, я приступаю к делу.
– Что вы?! – Мой собеседник в изумлении глядит на меня. – Неужели же вы из-за этого пришли сюда? Помилуйте, ведь это же обыкновенная житейская история…
– Расскажите мне о ваших детях, – прошу я. – Какие они?
– Какие? – Павел Нилович задумывается. – Не очень многословные. С чувством юмора. Трудолюбивые. Сережа, еще когда учился в техникуме, был занесен на доску почета. По характеру разные: Петя, к примеру, – романтик… – И вдруг он улыбается. – Очень хорошие дети! – говорит он застенчиво. – Обыкновенные хорошие дети.
– Кто-нибудь из них выбрал вашу специальность?
– Я уговаривал стать врачом Наташу. Но она отказалась. Пошла учиться в строительный институт.
– Почему?
– Чудачка… – Он опять смущенно улыбается. – Сказала: «Не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что это ты меня устроил». – Мой собеседник помялся. – И еще другая причина, совсем детская. «Люблю, говорит, как пахнет известь, люблю небо над стройкой…»
– Павел Нилович, ведь вы доцент, кандидат наук… Значит, вы защитили диссертацию. Когда же вы работали над ней?
– Вот как раз в это время, – говорит он виновато. – Когда они были маленькими. Но, знаете, они как-то старались не мешать! Разговаривали шепотом или играли втихомолку… В общем, как видите, диссертацию написал.
– И еще один вопрос, – говорю я и чувствую, что сейчас уже и у меня виноватый голос.
Я ощущаю усилие, с каким мой собеседник отвечает, его неловкость оттого, что разговор коснулся совершенно неожиданной темы, которую он считает интересной только для него одного, а для других – и неинтересной и незначительной… Мне совестно быть такой настойчивой. И все-таки я не могу не задать этого вопроса.
– Четверо детей… – говорю я. – Ведь они остались у вас на руках совсем маленькими. Как вы, одинокий человек, справлялись с ними, делали все, что для них было нужно?
– Я ведь живу в коммунальной квартире, – говорит он простодушно. – Там народу много. Каждый старался понемногу помочь…
Он нерешительно смотрит на меня, и я читаю в его взгляде опаску, что я задам еще один вопрос.
И я сдаюсь. Разговор наш снова возвращается к вопросам медицины.
Собеседник мой с увлечением говорит о своей любимой науке, а я киваю головой, но думаю совсем о другом. Я думаю о том, что этот застенчивый, добрый, чистый человек в трудных условиях вырастил и воспитал четырех ребят, вложил им в душу чувство долга и чести, научил трудолюбию и дружбе, вывел на большую дорогу жизни четырех порядочных людей, тружеников и строителей.
Мне вспоминаются приходящие в редакцию письма с жалобами на соседей по квартире, рассказы о мелких квартирных стычках и ссорах, о мусоре, которым люди засоряют свою жизнь, – и я думаю о других людях, живущих в такой же коммунальной квартире, людях, которые помогали, как могли, вырастить четырех чужих ребят.
Я думаю и о научных работах, которые этот человек писал и пишет, о воле и организованности, которые нужны, чтобы работать, невзирая ни на что, не делая себе ни малейшей поблажки. Если правду сказать, то вспоминались мне в эти минуты бездельники и лоботрясы, которые выросли в семьях его иных коллег, где их баловали, сдували с них пылинки, осыпали всеми дарами земли, а вырастили людей нищих душой, бездарных и бесчестных…
И еще я думала о том, что живет Павел Нилович, человек с доброй, как в новогодней сказке, фамилией Ягодка, врач, ученый, живет до сих пор все в том же старом доме на Малом Николо-Песковском, довольный и тем, что дали ему с ребятами комнату чуть побольше, чем прежняя, где они жили раньше. И никого не просит, никому даже и не жалуется. А ведь он и по характеру работы и по всей своей жизни, по ее удивительному, бесхитростному подвигу заслужил право, чтобы позаботились и о нем.
– Здравствуйте, доктор! – сказала усталая и грустная женщина, и я не могу забыть ее глаз, полных доверия, благодарности и тепла.
– Здравствуйте, доктор, здравствуйте, Павел Нилович! – говорю и я. – Желаю Вам от всего сердца счастья. Как рада я, что могла рассказать сегодня эту обыкновенную и необычайную историю, рассказать о Вас, человеке большой, щедрой души. Огромная советская наша семья богата такими людьми, богата добротой и верностью – и это одно из самых светлых богатств, какие есть на земле.
Добрые зерна
Воспитание нового человека – процесс сложный и длительный, он требует бережного отношения к человеческой душе, долгого, вдумчивого труда.
Утверждение коммунистической морали, освобождение сознания человека от сорняков, которые веками сеялись в его душу, очищение нашего общества от всего того, что мешает счастью, движению вперед, – огромная и благородная задача. Думается, никогда, еще не ощущали мы так глубоко и полно, как сейчас, общность наших стремлений, нашего труда, направленного к достижению светлой цели, начертанной в Программе партии, в великом плане построения коммунизма.
Нравственные принципы человека формируются постепенно. Немало зависит от того, какие зерна были посеяны в нем в самые ранние годы. До седых волос, до глубокой старости помнят люди первого своего учителя, первый урок справедливости и правды, первую ложь, с которой столкнулись на земле.
Как часто мы узнаем в облике, в чертах лица взрослых людей то детское, неисчезающее, что когда-то, в раннюю пору жизни, натура, как скульптор, проложила своим резцом…
Но в поступках зрелого человека, в его отношении к своему труду, к себе самому и к товарищам мы точно так же, бывает, распознаем без ошибки ростки тех зерен, которые были посеяны в его душе много лет назад.
Существует старая восточная поговорка, утверждающая, что каждый человек должен в течение своей жизни обязательно совершить два поступка: посадить дерево и убить ядовитую змею.
Думается, к этой поговорке, где дерево и змея названы, как поэтические символы рождения новой жизни и борьбы со злом, стоят добавить еще одну строчку: каждый человек должен посеять доброе зерно в душе ребенка – будь то его сын или чужое дитя.
Недавно я услыхала историю, что случилась с двумя маленькими людьми. Мне хочется рассказать ее вам.
В деревне, в летний день, очень маленькая девочка, которую родители привезли сюда из города, заглянула в колодец. Есть неизъяснимое очарование для детского сердца в бездонном блеске уходящего вглубь ствола, в запахе воды и ночи, в грозной и таинственной игре мрака, отсветов, отраженных звуков, что таятся там, где сверкает ледяное неподвижное око воды…
Перегнувшись, маленькая девочка глядела вниз, точно завороженная. Она наклонялась все дальше и вдруг, потеряв равновесие, с коротким изумленным вскриком упала в колодец.
Поблизости были только ребята немного постарше, чем она.
Кинувшись к колодцу, они увидели, что девочка плавает на воде, словно кувшинка. Пока она летела по глубокому стволу вниз, широкое ее платьице надулось, точно парашют, и удержало ее на поверхности. Хрупкость этого случайного чуда была очевидна: в любой миг девочка могла пойти ко дну.
Один из ребят – мальчик лет одиннадцати – решил спуститься в колодец.
Он сел в ведро, и товарищи стали спускать его на веревке. Но веревка оборвалась, и мальчик упал в колодец тоже.
Он умел плавать и не растерялся. Вынырнув, он оказался возле девочки: платье ее, постепенно отяжелев от воды, сворачивалось, как лепесток, и она погружалась все глубже.
Подхватив ее, мальчик поплыл вдоль стен колодца. Вода была ледяной, он плыл изо всех сил, стараясь разогреться, кружась вдоль скользких черных стен. Уцепившись за него, девочка молчала; ему казалось, он чувствует, как колотится ее сердце, словно он зажал его в кулаке. Так, не сдаваясь, не слабея, не теряя мужества, маленький человек кружился в ледяном колодце, крепко держа ребенка, пока не приспели на помощь взрослые.
Они спустили в колодец пожарную лестницу, и мальчуган, усадив девочку на плечи, вылез наверх.
Когда я размышляла над этой историей, она как бы раскололась для меня на две части.
В том, что маленький человек бросился спасать утопающую, проявилась его смелость, решимость, благородный порыв.
Но грозная секунда, когда он впервые увидел лицом к лицу смертельную опасность и осознал ее, высветила, как мгновенная яркая вспышка света, все доброе, что было заложено в его душе.
Порыв переплавился в стойкость, смелость – в осознанное мужество; на смену решимости пришла самоотверженность.
Как уместилось все это в юной, еще не окрепшей душе, от которой жизнь вдруг потребовала недетскую силу?
По праву могут гордиться родители, воспитавшие такого сына; по праву могут гордиться им педагоги, товарищи, все, кто посеял в его душе добрые зерна.
Я не называю имени мальчика, так же, как не назову имен других детей, о которых расскажу дальше. На мой взгляд, делать этого не надо.
Речь идет не о том, чтобы всенародно поставить им «отметку» за добрый или дурной поступок. В поступке ребенка всегда можно угадать того, кто послужил ему примером, почувствовать, как воспитывает, чему учит, от чего удерживает его взрослый человек.
Вот о взрослых я и хочу поговорить.
В Ленинграде в один из новых домов переехал полковник в отставке, пожилой, одинокий человек.
Говорили, что жену и детей он потерял во время войны. По виду полковник был суров, малообщителен; прямой, как штык, он, прихрамывая, проходил через двор, подставив ветру худое морщинистое лицо, ни с кем не вступая в беседу. Вместе с ним переехала его собака – бородатый, шумный эрдельтерьер по кличке Дружок, и кошка с разноцветными глазами.
В первые же дни полковник, проходя по двору, молча и решительно вырвал рогатку из рук мальчугана, стрелявшего в котенка. Быть может, и следовало бы сопроводить этот акт поучением, но полковник, видимо, считал, что выражение его лица было и без того красноречивым.
Ребята во дворе невзлюбили нового жильца. Его самого они побаивались, с Дружком связываться остерегались и свою нелюбовь вымещали на кошке.
Надо сказать, что Дружок и разноцветная кошка были неразлучными друзьями.
В отсутствие полковника они сидели рядом на балконе и ждали его или спали на общей подстилке. Балкон был на втором этаже, со двора их было хорошо видно.
И вот однажды, когда полковник ушел, кошка решила прогуляться и спустилась вниз.
Обеспокоенный Дружок остался один. Он следил за кошкой с балкона, насторожив уши.
В это время во двор вбежала ватага мальчуганов. Один из них запустил в кошку камнем, она взобралась на дерево.
Окружив дерево, ребята с воинственными воплями забрасывали кошку камнями; онемев от страха, она лезла все выше, но и там камни доставали до нее.
Дружок, рыча и лая, метался по балкону. Он выл, рвал решетку лапами, но ребята даже не глядели на него.
И вдруг пес перемахнул через решетку и спрыгнул со второго этажа вниз.
От толчка Дружок сломал лапу.
На трех ногах, с вздыбившейся шерстью, он ринулся защищать друга. Вы легко можете себе представить, что разыгралось дальше. Ребята кинулись бежать, но кое-кому все же досталось от рассерженного пса. На следующий день родители подали на нового жильца в суд.
Вероятно, следуя букве закона, можно было очень быстро закончить это несложное дело, оштрафовав владельца собаки. Но, разобравшись в подробностях, судья поступил иначе.
Он признал виновными родителей.
Он обвинил их в том, что они плохо воспитывают и плохо знают своих детей, если не разгадали в поступке, который показался им простой шалостью, опасный росток жестокости, попытки безнаказанно расправиться со слабым. Судья вызвал к себе ребят и постарался, чтобы и они осознали свою вину.
Заглядывал ли он в это время в свод законов? Вероятно, да.
Но это был закон гуманности, душевной чистоты, утвержденный всем строем нашей жизни, и судья учил ребят уважать этот закон и следовать ему.
Природа и то живое, что существует в ней, – вот с чего ребенок начинает свое знакомство с окружающим его миром. Яркость восприятия природы, стремление дружить с ней и разгадывать ее оставят свой след и в зрелости. К тому, кто был глух к природе в детстве, кто в детские годы не подобрал выпавшего из гнезда птенца, не открыл для себя красоты первой весенней травы или первой звезды, взошедшей вечером на небе, – к тому потом с трудом достучатся чувство прекрасного, чувство поэзии, а быть может, и простая человеческая доброта.
Ибо зерна этого закладываются еще в детстве.
Однажды в школе учительница показала ребятам простую круглую чашку и предложила нарисовать ее. Сидящий впереди мальчик долго смотрел на чашку и наконец поднял руку. Он был маленького роста и поэтому казался младше всех других.
– Можно, я нарисую не чашку, а то, чего я никогда не видел? – спросил он.
– Что же ты хочешь нарисовать? – удивилась учительница.
– Дерево эвкалипт, – сказал мальчик задумчиво.
– Нарисуй, – согласилась учительница.
Мальчик некоторое время молчал и смотрел перед собой. Потом опять поднял руку.
– Можно, я нарисую то, что видели только некоторые? – спросил он.
– Объясни, пожалуйста, что это такое, – сказала учительница с интересом.
– Синяя птица, – сказал мальчик очень серьезно.
– Пожалуйста, рисуй синюю птицу, если тебе хочется.
Весь класс старательно скрипел карандашами, мальчик, спустя какой-то срок, снова поднял руку.
– Я хотел бы нарисовать то, чего никто никогда видел, – сказал он тихо. – Можно?
– Например?
– Мамонта, когда он просыпается, – сказал мальчик виновато.
– Мамонта? – переспросила учительница, внимательно глядя на него.
– Мамонта, – вздохнул мальчик.
– Ну что ж, – сказала учительница. – В конце концов можно и мамонта.
Урок закончился, весь класс отдал учительнице тетради, где была старательно нарисована круглая чашка с ручкой «бубликом».
Только перед мальчиком, сидящим впереди, лежа, чистый лист бумаги.
Мальчик хотел нарисовать эвкалипт, синюю птицу просыпающегося мамонта – и не нарисовал ничего.
Но весь урок он видел их, видел огромное красное дерево с розовым стволом и голубой тенью, стаи попугайчиков, которые клевали его цветы, видел волшебную птицу счастья, видел мамонта, медленно выходящего на луг, поросший гигантскими цветущими травами…
Он видел их, восхищался ими, стремился их нарисовать, но маленькие его пальцы были слабей, чем его воображение, его мечта: лист бумаги остался чистым.
Мальчик не выполнил задания. Учительница был вправе, очевидно, поставить ему двойку.
Но она не сделала этого.
Она поставила ему отметку, не предусмотренную, вероятно, в учебниках педагогики, оценив силу и пылкость его воображения. Она угадала в мальчике поэта. Быть может, когда он вырастет, он вспомнит ее, вспомнит этот первый урок, взрослого человека, который отнесся с уважением и бережливостью к детской мечте.
Кто знает, чего лишаемся мы, когда взрослые нерасчетливо и равнодушно осуждают и искореняют в ребенке то, что кажется им ненужным мечтательством, а на самом деле несет в себе светлый и пылкий дар воображения! Не из этого ли дара рождаются в зрелые годы проницательность ученого, зоркость исследователя, вдохновение художника?
Человек нового общества должен быть гармонически развит. Высокие жизненные принципы соединяются в нем с богатством и красотой духовного мира.
Живые ростки его нравственных качеств крепнут, тянутся к солнцу, дают побеги в течение всей его жизни.
Но первое доброе зерно не умирает никогда.








