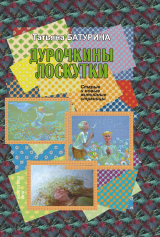
Текст книги "Дурочкины лоскутки. Старые и новые житийные страницы"
Автор книги: Татьяна Батурина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 9 страниц)
Валентина Андреевна, матушка-мама,
Антонина Андреевна, тетушка Тося,
И Павлина Андреевна, тетушка Пава,
И Мария Андреевна, тетушка Маня –
Вы жалельщицы, плакальщицы, мастерицы,
Вы работницы, верильщицы, сестрицы…
Вспоминаю, как к свадьбе моей тетя Тося
Подарила мне стеганое одеяло –
Лоскуток к лоскутку, каждый лучше другого.
Я его и в глаза не видала до свадьбы,
Но, раскинув, узнала мгновенно сквозь слезы:
Тетя сшила его – лоскуток к лоскуточку –
Из моих позабытых изношенных платьев,
Из которых я из году в год вырастала…
И сама я не знала, как много нарядов
Износила, хвалясь всему белому свету!
Только не было в том дорогом одеяле
Ни клочка из одежды ни мамы, ни теток:
Сроду платья они доводили до дырок,
Чтоб годились потом лишь на тряпки в хозяйстве…
Сколько пышных отрезков я им ни дарила,
Своим верным заботницам и хлопотуньям,
Они прятали их в сундуки и диваны, –
Мол, куда нам рядиться в богатые ткани,
На работу? Иль дома вертеться, на кухне?
На работу сгодится поплоше, попроще,
А и дома сам Бог повелел поукромней…
А уж позже, покрывшись простыми платками,
Вовсе на люди выйти стеснялись в обновах.
Нафталином пропахла вся мануфактура,
Сохраняясь в чудных толстопятых комодах.
«И кому берегут? – я, бывало, сердилась. –
Ведь не спички, не мыло на день самый черный –
По извечной привычке наученных жизнью…»
…Умерла тетя Маня.
Когда обмывали
И когда обряжали в холстыню льняную,
Мы нашли в сундуке с жестяными краями…
Много, много отрезов с запиской: «Для Тани».
Для меня!..
Я все ногти себе обломала
О сундук с жестяными навеки краями.
Понимающе мама и тети глядели –
На вину ли мою?
На беду, на прозренье.
Но потом пожалели и к празднику Мая
Все подарки мои воротили обратно,
Чтоб на платьях своих не носила я меты –
Той, что тяги бывает земной тяжелее.
За моими двоюродными сестрами Люсей и Аллой никто не ухаживал – может быть, потому, что они вечерами сидели дома: кроили, шили, вязали, читали. Аллочка была тоненькой, с горделиво вскинутой головкой, весной и осенью ходила в узком черном пальто и шляпке-менингитке. А когда мы увидели фильм «Карнавальная ночь», то поняли: она красавица, ведь у нее такая же талия, как у Людмилы Гурченко!
Люся была другой, но тоже красивой, как красива всякая юность. Улыбчивая и молчаливая, она всегда всех в чем-нибудь выручала. Мне помогала с уроками, за Витькой ходила в садик, бегала для нас в магазин, убирала двор. И когда моей маме подарили в больнице парфюмерный набор «Русская красавица», она передарила его Люсе.
Ах, какая была красота, эта самая «Русская красавица»! Духи, одеколон и пудра с одинаковыми цветастыми картинками: у березы стоит девушка с высоко уложенной вокруг головы косой, в старинном сарафане, с маленьким платочком в руке, а улыбка – не передать, какая ласковая!
Так вот о ком все время пели песню:
На груди ее коса,
С поволокою глаза,
Стар и мал – вся улица
Девушкой любуется!
И подпевали по вечерам Всесоюзному радио наши бекетовские улицы:
Ох, недаром славится
Русская красавица!
Девушка эта была из сказки, именно ее лицо сияло в сказочном фильме «Василиса Прекрасная», который вскоре я с замиранием сердца смотрела в клубе Павших борцов…
Люся набор поделила: себе взяла духи, Аллочке отдала одеколон, а мне досталась пудра. То-то зарозовели-зарумянились мои белесые тряпичные куклы! И сама я несколько дней красовалась перед миром, с головы до ног обсыпанная душистым чудо-порошком. Совсем недавно была у Люси в гостях, зашла в ее спальню с допотопным трюмо, с извечными пустыми пузырьками, коробками, баночками на кружевной скатерке:
– Чего не выкинешь-то? Тараканы заведутся.
– Да жалко, вдруг пригодятся.
Пригодятся… Кому они нужны, эти доисторические склянки? Хотя бы эта… Я взяла в руки овальный флакончик и замерла, не веря своим глазам: «Русская красавица»!
– Люся! Это те самые духи? Которые моя мама тебе подарила?
– А какие же еще! Конечно, те самые. И «Кремль» сохранился, видишь? И «Красная Москва»…
Я перебирала когда-то дорогие фигурные пузырьки, теперь ставшие бесценными реликвиями, откручивала блестящие крышечки, внюхивалась в пустоту за стеклом. Конечно, ароматы давно утрачены, можно сказать, в прямом смысле вымыты водой времени.
– Помнишь, как мы наливали во флаконы воду, когда духов оставалось всего ничего?
– Старались растянуть удовольствие, лишних денег ведь никогда не было… Таня, я давно хотела спросить: там действительно есть жизнь? – и Люся показала головой наверх.
– Ты же крещеная, сама знаешь…
– Но хоронить-то в землю будут. А если что не так сделают?
– Но мы же своих стариков похоронили. А так, не так… Почему не так-то? Кресты стоят на могилах, поминаем…
Я подвела Люсю к трюмо:
– Да мы еще с тобой молодые, ты глянь – ни одной сединки! Времени хватит, чтоб подготовиться…
– Ты опять про церковь…
– А про что же еще, самим-то правильно не умереть.
Алла живет под Днепропетровском в своем доме: сад, огород, куры, гуси, утки. Семья огромная: три сына, пять внуков. Всё – на Аллочкиной любви, на ее безграничном терпении построено. Хорошо, хоть со снохами повезло, такие же работящие.
Аллочку я не узнала, когда увидела лет пять назад: она совсем высохла и словно уменьшилась ростом. Заметив, как я на нее потаясь поглядываю, спросила:
– Что, сильно постарела?
Я лишь молча ее обняла.
Были у нас еще родственники по материнской линии, с которыми мы почему-то не роднились. Помню, жила (недолго совсем) в нашем бекетовском доме девушка – большая, нескладная, с рыжими косами.
Спросила недавно сестру Людмилу:
– Не знаешь, кто она?
– Нет… Может, чья-то племянница?
Помявшись, Люся добавила:
– Была какая-то в нашем роду Валентина, тетя Пава рассказывала о ней как о родственнице. Из богатых, наверное, потому что к ней после войны моя и твоя матеря ходили о чем-то просить. Ни с чем вернулись, плакали, с тех пор и не знались.
Разве найдешь их теперь, тех родственников? А хочется встретиться, сблизиться, ведь, как водится на Руси, нечаянная чёрствость родных людей с годами сердечно-простительно забывается. Но Бог встречи не посылает. Видно, случилось когда-то – давным-давно! – непрощаемое.
Дом и летняя кухня были глиняными, и летом мы с сестрами ходили собирать по окрестным дорогам «серебро и золото»: так тетя Тося называла лошадиные и коровьи лепехи – ценные добавки в глину. Глину месили сначала в сапогах, потом босиком. Обмазывали наружные стены, белили известкой. Мел шел только на внутреннюю побелку, два раза в год – на Пасху и осенью перед Покровом.
И какими же вкусными казались отбеленные стены! Я тайком слизывала мел, а когда однажды попалась, даже не была наказана. Мама только покачала головой и назавтра стала давать какие-то таблетки. (В благополучном семидесятом году меня, беременную, так же тянуло на мел, и врач назначил глюконат кальция ввиду кальциевого голодания. Стало быть, оно оттуда, из послевоенного детства). Тогда, в те самые послевоенные годы, все жили просто, и откуда мне было знать, что – бедно?
Ничего нет в судьбе, только мать и отец
Там, в окрестностях дома и детства:
Беззащитность калитки… земли изразец…
Святость послевоенного бедства…
Впрочем, не бедства, а – братства. Вместе, улицей, строились. И праздники справляли всей улицей у кого-нибудь во дворе, а если где и в будни пекли пироги, хозяйки обязательно разносили по соседям румяные ломти, тут главное было оказаться дома.
Весной, в марте, ладили жаворонков. Ах, как мама любила возиться с вешним тестом! Тетя Тося тоже вносила в наш дом большой противень, накрытый полотенцем, и мы с братом кричали:
– Жаворонки прилетели!
Пекли в нашей большой печи: и мама, и тетя, и сестры, и я – все колготились на кухне. Мама по-особому затейливо убирала «своих» птичек: на крылышках сахарные метинки перышек, а изюмные глазки обложены крупяными бровками. Ох, и вкусно потом хрустели! А тетины жаворонки были с длинными хвостиками – веером.
Выходили смотреть на небо: может, жаворонки мимо пролетят? Во дворе вовсю чирикали воробьи, на подловке ухали голуби, полаивал на цепи Бобик, повизгивал от беспричинной собачьей радости. Вот уж воистину, всякое дыхание да хвалит Господа: скоро Пасха!
Может, и пролетали мимо, над нашей крышей, жаворонки, но, наверное, рано утром, когда я еще спала, и все равно однажды на улице похвалилась:
– А я жаворонков видела!
– Во сне, что ли? – спросила Катька Барсукова, сама соня порядочная.
Показав друг другу языки, мы мирно разошлись.
Весной мама всегда прибаливала, лежала часами на диване. Говорила: давление. Но в жаворонковый день ничего у нее не болело, она была веселой и неутомимой. Знала ли, предчувствовала ли моя дорогая матушка, что уйдет в вечность 22 марта 1999 года – в день прилета жаворонков? Впрямую, конечно, не знала, но Господь каждому дает ведание жизни и смерти, посылает промыслительные знаки, надо только уметь их понимать. Я думаю, мама неспроста любила жаворонков, этих маленьких вестников весны. Они ведь прилетают к нам в день памяти Сорокá Севастийских мучеников, а матушка умирала именно в этот день в муках, после операции, значит, принята на небо мученицей. Дай, Бог, чтобы крошечные крылышки певчих весенних птиц помогли маминой душе взлететь над землей, оторваться от житейской тяги.
Иногда прожитые мгновения возвращаются сами собой. Видно, взрослая жизнь, жалеючи меня за душевную натруженность, через воспоминания дает силы для продолжения бытия.
Кто-то оставил на подоконнике лестничной площадки старую-престарую глиняную копилку-кошку с покорябанным носом и красным бантом на шее. Такое случается частенько, соседи (и я в том числе) избавляются от ставших ненужными вещей: выбросить – жалко, может, кто-нибудь возьмет в свое владение?
Недавно даже пакет с лекарствами обнаружился. Я удивилась, но из любопытства покопалась в груде початых пузыречков и коробочков: оказалось, все таблетки – от сердечной хвори. Вспомнила, что на днях умерла Людмила Лапина из 93-й квартиры… Кому-то, значит, оставила наследство стариковское, нужное. А мне вот встретилась кошка.
Я погладила темно-глянцевую кошачью спинку, взяла неожиданную диковину в руки и увидела, что кошка хороша: улыбчивая мордочка, кокетливо подведенные, на манер восточных красавиц, глаза…
Главное – копилка была целой, хотя и пустой. Выходит, что деньги в ней никогда не водились, иначе это наивно-сказочное хранилище сокровищ давно бы разлетелось на обычные глиняные черепки. А какая же сказка живет в осколках?
Но эта сказка была все-таки настоящая – живая, пусть и глиняная. Интересно, чья она? Впрочем, заниматься поисками бывших хозяев копилки не хотелось, и я перенесла кошку через порог своей квартиры: добро пожаловать!
Кошка удобно устроилась в прихожей на полке в плетеной корзине, где над перчатками и шарфами издавна владычествуют зонты. Я походила мимо туда-сюда, привыкая к новой жилице, и убедилась: теперь главная в прихожей она, кошка. Что ж, будет сторожихой, тем более, что один кошачий глаз косил на входную дверь, а второй следил за циферблатом настенных часов.
И, кажется, за чем-то еще – невидимым, неслышимым, давно позабытым. В сердце свежó запело предчувствие – так бывает, когда я сажусь за письменный стол и раскладываю черновики, выбирая: кто или что проявится нынче на белой бумаге, по моему велению покинув нети на сверканиях времени-пространства души?
Такие детские копилки под видом кошек, собак, арбузов, тыкв или виноградных гроздий водились в каждом, наверное, послевоенном русском доме. Монетки собирались трудно: бегали-то мы тогда не по тротуарам, которых почти не было, а по прибитой башмаками придорожной грязи, а в грязи разве что путного найдешь?
И все-таки нам с братом попадались и копейки, и пятаки, а однажды у клуба Павших борцов я даже нашла свернутую в трубочку двадцатипятирублевку. Похвалилась находкой дома и неожиданно получила выговор от матери:
– Одна копилка на уме! Ну, ладно… Давай-ка деньги сюда, скоро нам уголь покупать!
Конечно, денежки не только под ногами отыскивались – и тети, и сестры, и сами родители нет-нет да и бросали в узкую прорезь детских копилок «ненужную» мелочь.
К Новому году копилки заметно тяжелели, и мы радостно встряхивали их, вслушиваясь в разнобойный монетный звон. А когда наступала заветная новогодняя полночь, отец выносил копилки на двор и разбивал их на заледеневшей дорожке возле порога. Нам оставалось только собрать денежки – наши новогодние подарки.
Но однажды из-за бросовой монетки я чудом осталась жива: в Москве, посреди людской толчеи оторвавшись от материнской руки, кинулась через дорогу, наперерез мчащимся машинам, за ярко блестевшим посреди асфальта гривенником. Из-под смертоносных колес меня вырвал молодой парень и вместе с хорошим подзатыльником сдал на руки плачущей маме. Я совсем не испугалась, лишь заметила, что косичка расплелась:
– Мам, ну что ты плачешь, подожди, надо ленту завязать…
Ох, и заплетала мне тогда мама косу – аж до самого Сталинграда! Она припомнила мне все мои ослушания и проделки и обещала никогда, никогда больше не давать мне спуску…
Под стук вагонных колес и паровозные гудки мы с братом гадали, какое страшное наказание ждет меня дома.
Оказалось, не только меня: прямо от порога мама прошла в детскую и, не медля, одну за другой разбила наши копилки о железную грядушку кровати – моей. Монеты сверкающе разлетелись по полу…
– Вы уже взрослые, – жестко сказала она.
И больше ничего не произошло. Может быть, эти мамины слова и явились наказанием, потому что были неправдой? Ведь мне совсем недавно исполнилось всего-навсего девять лет, брату – семь… А может, мама специально велела нам стать взрослыми – действительно, в наказание?
Денежки мы собрали и отдали ей – думали, на уголь, но мама послала нас в дар-горский магазин за белым хлебом и самыми дорогими конфетами «Мишка на Севере».
Скоро Пасха!
За зиму собрана луковая шелуха – целая жестяная банка из-под фабричного повидла. В этой шелухе красили яйца. Если шелухи было много и если подольше ее кипятить, яйца получались красными. Другие цвета мама не признавала, говорила, что красные яйца на Пасху – это древний обычай. Я теперь думаю: она боялась, чтобы мы всякой синькой да зеленкой не поотравились.
Отец выносил по утрам из курятника яйца в лукошке и отдавал мне:
– На вот, не урони!
Яйца содержались до Пасхи в чулане, в деревянном ящике с соломой, а внизу, в подполе, хранились картошка, капуста, морковь. Соленьем и квашеньем тоже занимались, как и потом, после переезда на Дар-гору. Отец держал несколько деревянных кадушек с обручами, запаривал их да затаривал огурцами, помидорами, капустой, яблоками, арбузами – квасились-солились на наше здоровье!
В Пасхальную субботу пекли куличи: мама с тетей ставили тесто, а меня с сестрами подряжали взбивать желтки. Скорее и лучше получалось у Аллочки, и она легко убегала от нас к своим иголкам и ниткам. Зато на мою долю доставалось обмазывать яичным гоголем-моголем и посыпать крашеным сахаром уже готовое печиво. Куличи сладко пахли ванилью, сияли светло поджаристыми теплыми боками, так и хотелось отщипнуть кусочек! Но – нельзя: их еще надо святить в церкви, в Отраде. К этому времени и пасхочка была уже сделана из творога с маслом и изюмом, а яйца – те еще в пятницу покрашены.
Освящать ходила тетя Тося, иногда с дочерьми. Мама не решалась: говорили, что всех, кто ходил в церковь, переписывали и увольняли с работы, а работала мама в хорошем месте – врачом в больнице, а отец – тем более! – был директором ветеринарной лаборатории. Тетя Тося носила в церковь яйца, пасху и три кулича: один – священнику, другой – на подаяние, а с третьим возвращалась назад, прикладывала его к остальным куличам – и те тоже делались освященными. Святили еще и хлеб, и творог, и сало, и конфеты, и варенье, даже вино.
Мама нам с братом вручала по куличику, а один – большой, его в ведре пекли – ставила на стол в зале, обкладывала по кругу яйцами и накрывала на ночь белой материей. Куличики по-прежнему нельзя было есть, ведь Пасха наступала в воскресенье, но мне и самой не хотелось разрушать душистую красоту.
Над моей кроватью в детской на полке стоял маленький радиоприемник, из которого каждое утро звучал сначала гимн, а потом песни: «Нас утро встречает прохладой», «Подмосковные вечера», «Едут, едут по Берлину наши казаки». Особенно мне нравилось про рябинушку, и, когда запевали: «Где-то поезд катится точками огня», я сразу представляла поезд, который скоро, вот пройдет Пасха, повезет нас с братом на Украину, и я снова буду выглядывать вечером из окошка и на каком-нибудь повороте обязательно увижу светящиеся огоньками вагоны… (Да, самой любимой была «Рябинушка», и спустя много лет я узнала, что посвящена песня матери моего приятеля Анатолия Лемякина. Я видела Екатерину Семеновну, в облике которой явственно проглядывали черты юной красавицы. Что ж, песня вполне достойна ее, а она – песни. Стихи сочинил уральский поэт Николай Пилипенко, именно он и будущий супруг красавицы Катеньки Владимир Лемякин ухаживали за ней, и это о них поется в песне: «Справа кудри токаря, слева – кузнеца…». Были и в моей жизни «именные» стихи и песни много-много лет спустя, о чем маленькая бекетовская босомыга, конечно, еще и знать не знала…)
На полку с песенным радиоприемником я однажды и поставила свой кулич – на блюдечко, а вокруг разложила яйца, все сделала так, как учила мама. Не спала, время от времени поднималась и разглядывала в темноте кулич: светится или нет? Ведь его святили! Кулич и вправду чуть посвечивал белой своей шапкой из гоголя-моголя. Однажды он закружился, плавно покачиваясь из стороны в сторону, а яйца, мелодично позванивая красными боками, запорхали в кругу неведомо откуда слетевших лучей… Тут наступило утро. Значит, кулич и вправду святой, коль приснился в праздник! Все девчонки на нашей улице знают, что в праздники снятся вещие сны.
Гуляли на Пасху все, особенно цыгане: те по дворам ходили, выпрашивая куличи и яйца. С утра пораньше мы с братом Витькой, вдоволь наевшись пасхальных сладостей, выбегали на улицу катать яйца. Самое гладкое место было перед домом Пашуковых, там и собиралась вся слободская босота.
Мне в этих игрищах везло мало, а вот брат побивал всех. Он как-то по-особенному поверчивал-подбрасывал яйцо, выбирая одному ему видимую самую гладкую земляную полоску, и незаметно-сильным верным движением руки совершал праздничный победный бросок-каток навстречу катившемуся с другого конца дорожки яйцу: есть, попал! Я была рядом, чтобы сразу же забрать добычу, и домой мы приносили целую гору выигранных яиц с битыми носами и попками – законные пасхальные трофеи!
Многие с нашей улицы после Пасхи ходили на могилки, а у нас на кладбище своих могилок еще не было, в те времена в Сталинграде все мои родные, кроме бабушки Татьяны Алексеевны, были живы. А к бабушке как дойти? Ее ведь в войну в воронке похоронили, как и других, кто погибал под бомбами.
Теперь-то я уже много знаю о том августовском дне, когда небо над Сталинградом было черно от фашистских самолетов, а город горел, как огромный костер. Рушились многоэтажки, горели родильные дома, госпитали, больницы. Горела Волга, куда хлынула нефть. Моя мама, тетя Тося и сестры Люся и Аллочка в тот день выжили, а бабушка не спаслась. Она пошла на Волгу за водой, а тут – бомбежка. Потом бабушку отыскали среди развалин: в руке ведро, в ведре – голова… Снесло осколком снаряда. Поминаем ее 23 августа.
Теперь, конечно, в семье есть родные могилы. Все наши старики лежат в разных местах: отец и матушка на новом дар-горском кладбище, тетя Маня и дядя Фолий – на старом бекетовском, а тетя Тося и тетя Па-ва – в Волжском, там за ними ухаживает сестра Люся. Земля на всех одна – сталинградская.
Самая старшая в нашей сталинградской семье – моя двоюродная сестра Людмила. Живет она в Волжском с сыном Олегом и внуками. Видимся мы нечасто, но уж если встретимся, то все разговоры наши о том, какими были родители, как жили до и после войны, ведь все мы долго-долго вели именно такой отсчет времени: до и после войны. Я записала Люсины рассказы – не обо всем, конечно, многого и она не помнит, но я рада и малым ее воспоминаниям, в них – Сталинград.
…Мы по рождению Шаталины, повествовала Люся, а после замужества бабушки – Седенко. Бабушку Татьяну выдали замуж насильно, мужа Андрея она не любила, даже не хотела иной раз по имени назвать. Бывало, ей надо пригласить его со двора в дом обедать, так она битый час могла в дверях простоять, пока он не поднимет голову, не взглянет, и тогда уже говорила:
– Исть иди!
Жили на Быкóвых Хуторах, на Волге, только перед самой войной в Сталинград переехали. Дед наш занимался извозом и однажды по весне простудился: то ли куда-то в яму залетел, то ли легкие на морозе застудил свои чахоточные (еще с Первой мировой), но только скоро умер. Валя, мама твоя, только родилась.
А бабушку я помню такой, какой она была еще до войны. Выглядела, как все бабушки: худая, темная, сморщенная, она, видно, болела, потому что из-за нее мы не уехали в эвакуацию, ее нельзя было перевозить. Она ходила на базар и приносила мне пончики, которые «огурчиками» назывались, в общем, тесто длинненькое такое, запеченное в масле. Как она защищала меня от матери, когда та ругала меня, как мы ходили с ней за травами на городскую окраину – почему-то об этом вспоминаю.
Вот началась война. Не поехали в эвакуацию, остались в Сталинграде. У нас дом двухэтажный был: четыре семьи на одном этаже, четыре на втором. А потом дом разбомбили, и мы стали жить в окопе, сами его выкопали во дворе: яма, сверху накат из бревен и земли, там и скрывались с августа по октябрь 42-го. Я помню, осенью должна была идти в школу, купили мне заранее кожаный портфель, а потом, когда мы в окоп перешли, в этом портфеле хранились белые сухарики, и он висел над входом. Улицу занимали то немцы, то наши. Немцев выбьют – наши приходят, и так все время. И вот, когда в первый раз немцы заняли улицу, полезли проверить окоп: «Солдат, солдат!» – а у нас одни женщины, и первый немец, которого я увидела, схватил портфель, вот так вытряс его и забрал. А во второй раз, когда немцы заходили, один наступил мне на руку сапогом, я, наверное, запищала, так он меня по голове погладил, а матери дал какие-то таблетки, сахарин, наверное. Она не брала: «Нет, нет!». Боялась, что это отрава, а он ел сам и все на нас показывал, дескать, детям.
Ну вот, в этом окопе и сидели, и мать твоя Валентина с ребенком была, с восьмимесячным Витенькой, а мужа ее Георгия забрали в армию. Голодали, конечно. Помню, мать брала меня за руку, сестру Алку – на руки, и мы спускались как раз туда, где сейчас автовокзал, вниз, к железной дороге, там составы горели с пшеницей, сахаром, пшеном. Люди копошились, собирали, и мама тоже, а почему нас с собой брала? Ну, мол, если налет, так убьют всех сразу. А потом маму твою ранило, как раз то ли обстрел был, то ли бомбежка началась, и ее ранило в голову и в ногу. Улица была занята в это время, наверное, нашими, потому что помню, что Валю поместили в госпиталь, и мама моя ходила ее проведывать. А тетя Пава во время этих переходов улицы туда-сюда умудрялась к нам пробираться, приносила продукты, которые ей на работе выдавали. А работала в милиции и еще ранеными занималась. Ну вот, когда маму твою забрали в госпиталь, ребенок ее остался с нами и ел то, что и мы: горелую пшеницу отваривали на костре, отжимали и ели. А воду брали из колодца, он был внизу, надо было только спуститься. У колодца бабушку и убило. Вот как это было.
Она взяла ведро и говорит:
– У вас маленькие дети, – и пошла за водой.
И нет ее, и нет, и нет, а тут началась бомбежка, да такая, что в прямом смысле света не взвидели: все небо покрыто было самолетами немецкими. Это было 23 августа 42-го года. Мы в своем окопе спасались, а уж после взрослые пошли искать бабушку. Ну, и принесли ее: голова в ведре…
Как только эта страшная бомбежка окончилась, мы, дети, выбрались из подвала и в ужасе застыли на месте: землю словно взрыхлили, и осколков много было. На дороге перед нашим окопом лежала убитая женщина, а рядом сидел живой котенок. И так мне стало жалко этого котенка, что я попросила:
– Можно, я его возьму в наш окоп? – но мне отказали, мол, в окопе нельзя животным быть, они притягивают снаряды.
Во время налетов, помню, мы бежали к оврагу, где скрывались в вырытых в склонах ямах. Там и другие люди прятались, не только мы, а на противоположной стороне был, наверное, аэродром: наши самолеты словно картонные, и я видела, как они поднимались в воздух, как горели, как падали. И как в таких игрушечных самолетах можно было сражаться с немцами?
Наши солдатики – грязные, замотанные, израненные… На окоп поставили пулемет и стреляли, у нас перепонки чуть не лопались. Страшно было очень: стрельба, взрывы, осколки, но я ни разу не была ранена.
Перед тем как поселиться в этом окопе, все люди вещи свои в землю закопали, и мы тоже: сундук, машинку швейную «Зингер», другие вещи, уже не помню какие. В этом дворе и похоронили бабушку, там, где вещи закапывали. А сейчас здесь большие девятиэтажки, и один, окнами прямо на вокзал, стоит на месте нашего дома, адрес такой: улица Пархоменко, 57, я очень хорошо помню. Здесь бабушка и лежит.
У малыша Витеньки во рту от горелой пищи появились язвы, и скоро он от голода умер. Господи! В госпиталь невозможно было пробраться, потому что на улице утром – наши, вечером – немцы или наоборот. Мама твоя месяца полтора лежала в госпитале, а ребенка ее мы тут же, во дворе, и похоронили, где и бабушку. Про кладбище и речи не заходило: вся сталинградская земля тогда, в 42-м, кладбищем была.
Матери моей Антонине в то время исполнилось 30 лет, всего 30… И как она нас сохранила? Я бы, наверное, не смогла. Тетя Маня, самая старшая, жила и работала на тракторном заводе, о судьбе ее мы не знали, она к нам не пришла, думали, может, ее в живых нет.
Наступил октябрь, немцы стали нас выгонять из окопа. Валя уже пришла из госпиталя, хотя сильно хромала, и голова у нее была перевязана. Женщин с детьми погнали, указали направление, и – иди, иди, иди… Вот мы и пошли и, когда вышли за город, оказались в хвосте целой колонны.
Может, кто-то и подгонял нас, не помню, знаю только, что несла чайник с водой, мама твоя сумку какую-то, а моя – Алку двухлетнюю, сестру мою, на спине – рюкзак. А одеты – во всем, что только было у нас: по нескольку платьев натянули, наверное, и пальто было, потому что помню, как Алка все время кричала:
– Продай пальто, купи хлеба!
Еды почти не было. Когда мы проходили мимо сел, жители нам что-то выносили. Или мы сами ходили просить? Не знаю, но что-то ведь мы, наверное, ели.
Народу шло много, и все такие, как мы. И помню, у дороги лежала женщина убитая, рядом сидел ребенок, ну, может, полутора-двух лет, плакал. Все проходили мимо, и никто не брал ребенка, все ведь со своими детьми. Взял ли его кто потом, не знаю. Гнали нас и гнали и пригнали в Белую Калитву. Много подвод там стояло, людей тьма, а солдаты немецкие всех сортировали: молодых в одну сторону, детей и матерей – в другую. Молодые – те назначались к угону в Германию. И Валентину хотели угнать, она ведь совсем молодая была, двадцати трех лет. А мать моя усадила ей Алку на руки и просила солдатика, а тот – ни в какую, вроде того, боится офицеров, но факт тот, что – упросила, упросила… И махнул рукой, и мы дальше пошли. (Далекий путь проделали мои женщины, ведь Белая Калитва – это в Ростовской области, и там немцы устроили концлагерь. Слава Богу, что пожалел моих родных молоденький немецкий солдатик. А если бы попали в неволю, а если бы маму угнали в Германию? Сохранилась бы семья? Была бы я на свете?) Погнали опять нас, мы и на подводе долго ехали и приехали в хутор Янов.
Там уже немцев не было, только полицаи. И стали нас расселять по домам, мы попали к одинокой хозяйке с детьми. Несколько дней жили у нее, а потом она отселила нас в летнюю баню. Началась зима, холодно было. Утром просыпались, а волосы приморожены к стене. А чем жили – просто удивляюсь. Меняли одежду, ту, что на себе, на продукты, оставались кое-как одетыми. Мать еще ходила стирать по людям, убирать, что-то шила, Валя лечила. Алка все просила есть. Ой, как она следила за всеми! Помню, мать тыкву парила в кастрюле, а у нас была чайная чашечка, мы ее с собой принесли, и мать этой чашечкой тыкву всем накладывала, а Аллочка так смотрела, так смотрела, чтобы ей столько же чашечек дали, сколько всем остальным! И снова кричала:
– Продай все, купи хлеба!
Хозяйка, бывало, вынесет своему псу похлебку, Аллочка опять:
– Мама, забери, есть хочу!
Конечно, похлебку собачью не ели, а вот куски по дворам собирали. Наверное, было Рождество, потому что читали молитву, мать научила, что-то там такое было: «Воссияй мирове свет разуму…» – больше не помню. Ходили по домам, просили еду. Некоторые люди без разговоров подавали, а некоторые очень возмущались. Так зиму и прожили.
А потом нахлынули немцы – отступали вроде. Пожрали всех кур и свиней, все съели. И разнесся слух, что Сталинград освободили и нам можно возвращаться. И весной мы пошли обратно. То ли на подводе ехали, то ли все время шли – не помню. А в Сталинграде на нашей улице рядом с окопом огромная воронка появилась, я туда однажды спустилась по малой нужде и вижу: ноги человеческие – синие, в трупных пятнах. Я так кричала! А во дворе, в сараюшке, где раньше дрова хранили, подвал был залит водой, и в воде лежал наш солдатик в одном нижнем белье, руки-ноги связаны, мертвый. Мучили, наверное…
Окоп наш весь оказался изрытым, все закопанные вещи пропали, и даже останки бабушки и ребеночка были разбросаны. Кое-как их собрали, опять зарыли и двинулись в Бекетовку. А мама твоя Валентина ушла на фронт.
Почему Бекетовка? Весь Сталинград был разбит, кроме Бекетовки, только здесь и сохранились дома. И мы на Сталгрэсе, напротив Дома культуры, в избушке сначала поселились, там и тетю Паву встретили в каком-то общежитии. Помню, как она нас купала в корыте, отогревала. Стали мы кочевать по разным квартирам, мать моя устроилась на работу – куда, не знаю, то ли в столовую, то ли в магазин. Скоро и тетя Маня пришла к нам, ее Пава тоже отыскала, а потом и Валя с дядей Мишей, твоим отцом, с фронта вернулась. Я забыла уже, как она выглядела в военной форме, но помню ее платье голубое с серым и жилеточку синюю. С ней ходили в кино, «Небесный тихоход» смотрели. Мы как подружки были, всего 15 лет разницы в возрасте. Запомнилась она мне грустной, даже печальной, хотя из всех сестер она одна судьбу свою устроила.








