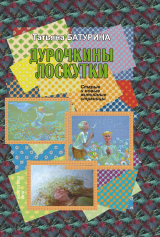
Текст книги "Дурочкины лоскутки. Старые и новые житийные страницы"
Автор книги: Татьяна Батурина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
А может быть, собака и не подозревает о существовании времени? Что если земная жизнь для нее вечность, в которой непременно надо быть рядом с человеком?
Через много лет я открыла «Псалтырь в Святоотеческом изъяснении», изданную на Святой Горе Афон, и прочла: «Глас Господень – это благодать Святого Духа. Глас Господень творит чудеса в чувственных стихиях: в морях и реках, в воздухе и в облаках… Всякая тварь едва не вопиет, возвещая о Своем Создателе. В пророческом смысле – это предсказание Гласа с Неба на Иордане, который возгремел над водами многими, Своему свидетельствуя Сыну»…
Вскоре после выхода книги о веригах любви я получила первый отзыв – длинное письмо из Суровикино от старого станичника Алексея Алексеевича Лободина. О многом это письмо: о детстве и войне, о городе и деревне, о стариках и детях. О минувшем, настоящем и будущем.
Между прочим, не зная о моих научных изысканиях, Лободин предлагал мне «засесть» за кандидатскую диссертацию о языке эпохи Александра Невского: «Еще поработать – и с Божьей помощью…».
И далее: «Особо хотелось бы коснуться темы о Сталине. Вы пишете: «Всю жизнь ищу ответ на очень важный для меня вопрос: почему плакали мои родные, когда умер Сталин?». А у меня к Вам вопрос: Вы читаете то, о чем пишете? Вы же сами отвечаете, и совершенно правильно отвечаете! И я считаю так же, как и Вы: в эпоху Сталина народ знал, что находится под надежной защитой, что Сталин защищает страну, а значит, народ. Вот поэтому все и плакали, ведь никто из простых смертных не ведал, что будет после. Назовите хоть одного человека, кто плакал бы о Хрущеве или Ельцине (кроме родных). В период ельцинской «свободы» вспомнили древнюю фразу: «Надо собирать камни». На самом деле Ельцин так их разбросал, что Путин за восемь лет своего правления собрал лишь малую толику булыжников. И неизвестно, сколько десятилетий будем их собирать…».
Длинное письмо, которое Лободин, стесняясь, называет «умномыслием» (кавычки его, авторские), успокоило и утешило: не наврала я, стало быть, не напридумывала. И впредь мне наука: не умом сочиняются книги, а сердцем. А в сердце у каждого – Бог, чего же бояться, если – с Богом?
Книгу мою Алексей Алексеевич Лободин обсудил с другими стариками на бугре, куда они с молодых своих лет собираются для бесед под хорошую чарочку. Разные старики: Лободин, например, бывший милиционер, а кто-то ветврач или, к примеру, механизатор…
Письмо имело продолжение: супруга Алексея Алексеевича – Лидия Васильевна – прислала со своим сыном поэтом Николаем Геннадьевичем Луневым посылку с припиской: «Здоровья Вам под Покровом Божией Матери и Ангела-Хранителя. Попробуйте деревенских гостинцев, все свое, домашнее: молоко, сливки, масло, вино, травы. Из сушеных яблок, груш, слив и вишен сварите взвар и насладитесь этим древним казачьим напитком».
Лидия Васильевна и позвонить не забыла – узнать, понравились ли скромные дары. Прощаясь, благословила: «Храни Вас Господь в Ваших мытарствах». Высока цена прозорливости материнской, ох, и велика… И посылка тоже была со значением: в простом бумажном пакете с православным крестом.
Спасибо, матушка Земля.
А вскоре я встретилась с добрейшими Алексеем Алексеевичем и Лидией Васильевной в их доме в Суровикино, три дня гостила в золотоосенней усадьбе, согревалась в лучах октябрьского солнца и крестьянского радушия. Ни то, ни другое не подвластны никаким потрясениям, наоборот: Божие солнце да человечье сердце держат, обогревают русскую земелечку всегда, бессрочно. Вечно.
Ну как не поговорить об этом! И говорили: за чаем на крылечке, за обедом в доме, во время прогулок за околицу к Поклонному Александро-Невскому кресту, по возращении с церковного богослужения из храма Михаила Архангела…
– Что удивительно! – восклицал Алексей Алексеевич. – Столько переживаний, мол, не так живем, то да сё… А почему? Если, конечно, закрыть глаза на то, что страну разрушали исподтишка много лет подряд и свои, и чужие супостаты, то теперь, когда злодейство состоялось и правда вышла наружу, что нам делать? Продолжать трандычить, что раньше было лучше?
– А чем мы сию минуту занимаемся?
– Тогда так: да, было лучше, потому что была дисциплина. Без неё русскому человеку не выжить. А где она сейчас, дисциплина? Народ в растерянности: куда идти, кого держаться? Или чего?
И вспомнились мне слова моего отца об этой самой дисциплине: «Никакой дисциплины жизни не будет, если подрубать ее под корень, если все на западный лад переиначивать, – для русских это не подходит! У русских всегда порядок был от совести, потому что каждый хозяин по совести дом держать должен». Отец, отец, как мало, как рассеянно я тебе внимала!.. Между тем Лидия Васильевна вздыхала и поддакивала супругу:
– Все так, все так… Но только никакой дисциплины не будет без Бога, без молитвы. Так жили встарь, так живем и мы. Иначе давно бы все сгинуло…
Правда ваша, Лидия Васильевна, да и наша тоже.
Если в Житне-Горах идет дождь, село становится совсем другим: небо, задымленное сырыми даже на погляд тучами, склоняется низконизко к окошкам, к завалинкам, к плетням, к огородам и садам. Хаты в притворном испуге прижимаются друг к дружке, ознобно-мокро сдвигают чубатые лбы, стряхивают с ресниц дыряво-соломенных карнизов серебряные небесные нитки, но дождевые струи все равно приминаются к стеклам, бело-прозрачно растекаясь по ним парным молоком домашнего тепла. Сквозь этот легкий парной туманец неясно, но все же видны и кусты малины рядом с завалинкой, и горки яблок-падунцов на садовой лавочке, и тучи, из которых кто-то хмуро смотрит на меня, а мне совсем не страшно в старых стенах дедовой хаты.
Дождь в полной своей босяцкой красе гуляет по селу, не боясь ни колдобин, ни ям: кроме пуховой пыли, на сельских дорогах нет ничегошеньки, только трава да деревья смиренно вздыхают вдоль обочин с утра до ночи, с ночи до утра. О своем молодецком загуле дождь всегда предупреждает загодя: залетает вдруг сразу во все окошки сильный и нежданный посреди зноя прохладный сквозняк, и вся хата наполняется несказанно свежим запахом, в котором аромат листвы перебивается веянием спелого вишенного клея и дорожной пыли, незакрытой копешки сена и черненной солнцем соломенной крыши, сохнущего на конопляной веревке белья и забытых на крыльце деревянных, крашенных морилкой, кукол… Но над всем царствует благорадный дух земли.
Благоуханье деревенского дождя сравнимо лишь с таинственно-нездешним благовонием церковной службы. Не потому ли, что их роднит Небо?
Идет дождь – хорошо и саду, и мне. Душе уютно знать, что там, за окошечком, густая мокрая зелень, и на ее дымчато-пуховом, с серебряной искринкой, фоне сияет в струях небесных свечечка красно-оранжевой лилии.
А потом, после дождя, такое в саду победное птичье пение! Хрупкие створки окошечка легко поддаются ладоням, растворяются, и я, ныркая прóсвернь, перелетаю через узенький подоконник – в сад, к вишням и яблоням, смородинам и малинам. Главное, чтоб началось утро с лилии за окошечком. Или с розы, или с георгины, или с астры. Здравствуй, окошечко, с дождиком и солнцем тебя, с летом и зимой!
Сад этот – дедов, и хата, крытая соломой, дедова, и в поющих деревьях или снегах село дедово, и речка внизу, под огородами, дедова, и даже небо над деревьями – дедово, потому что с детства гляжу я на сад, на речку, на небо из дедова окошечка в украинском селе Житне-Горы.
В окошечко это видно и сталинградское мое детство, и до того ладно соседствуют Украина и Россия! На всю свою жизнь, на все окрест себя гляжу из единого родного окошечка воспоминаний. Иногда рядом со мной есть кто-то, кому тоже хочется заглянуть в мое окошечко, – пожалуйста, теснюсь я, милости прошу! Каждый Божий день окропляю окошечко водой из украинской дедовой криницы, вытираю старенькое стекло чистым холстом из русского бабушкиного сундука. Рядом с окошечком на беленой стене висят фотографии в самодельных рамках из вишневых веток, украшенных соломкой, – труды отца. На другой стене – портреты сына и внучки. Я смотрю на свой дом неведомо откуда – словно изнутри, иногда не понимая: а где же я? Вглядываюсь в меловой экран стены, и на нем, трепеща, проступают мои косы, моя улыбка, мои слезы, мой взгляд навстречу мне, навстречу детству и юности, зрелости и старости.
Недавно подумала: жизнь – действие неосязаемостей, но разве можно осязать время или воспоминания? Между тем они и есть жизнь на том самом экране из холстины, из рядна ли, из цветной ли бумазеи. Надо ли поддаваться влиянию осязаемостей? Кто знает, все равно ведь то, что тебе уготовано, произойдет. Когда-то в юности я написала: «Как же узнать, что уже получилось?». И ответила самой себе: «Надо все это прожить».
У времени разная скорость. В зрелости становится непонятным и загадочным то, что молодость считала обычным. «Неужели это я? – думаю я. – Осторожная, вздрагивающая, окутанная видимыми и невидимыми тайнами, живущая сновидениями и воспоминаниями…». Где мое время? А вот оно – в настоящем. Потому что прошлое – уже воспоминание, а будущее – неосязаемая надежда.
Детская душа наблюдала, да забыла многое, чем наполнялись ее корешочки, ее серединочки и вершочки. Но самое главное, чем воспиталась (вос-питалась) моя душа на земле, она знает, и это знание – Дом.
Какое счастье, что мы с братом не ведали сиротства, что у нас были отец и мать, по-разному, но одинаково заботливо нас пестовавшие и любившие! А ведь в бекетовском переулке Апухтина, где мы жили, и в других переулках, на других улицах многие сверстники наши росли без отца или без матери, и это было горе.
Когда наступает лето, в открытые окна моей нынешней квартиры, смеясь, влетают ветреные сквозняки, в цветастых кухонных занавесках озабоченно хлопочут случайные, но от этого не менее прекрасные осы и пчелы, в стеклах посвечивает-отражается блестящая листва верного приоконного тополя, а с зеленотравного поля двора разлетаются на весь окрестный белый свет колокольчики детских голосов. Радость, радость, радость!
Много-много миновало и осталось в памяти моего многонаселенного дома хороших детских лет, называемых счастьем. Сегодня, наверное, такой же день, такой же вечер. Вот уже мамочки выкликают из окон своих деточек:
– Маша, домой!
– Коля, кино начинается!
– Роза, ужинать!
Потихоньку колокольчики стихают, и для меня наступает пора тихого сумерничанья. Привычно зажигаю любимую настольную лампу, раскидываю умом, вглядываясь в свои утренние почеркушки: ужó, душенька, потрудимся… Но что-то отвлекает от чистой бумаги, ожидающей пришествия письмен.
Колокольчики, детские колокольчики, нарастая, приближаются и вот уже звучат прямо под моим балконом, и столько в них слез, столько горя!
– Дядя, отдайте, ну, пожалуйста!
– Дядя, это мой телефон, вон он у вас в кармане!
– Я вот папе скажу, он вам задаст!
Перегибаюсь через перила балкона, вглядываюсь в быстро темнеющее дворовое пространство, по которому стремительно удаляется в уличную арку полноватый мужчина в светлой майке, на ходу громко-раскованно говоря:
– Какой телефон? На кой он мне сдался, ваш телефон?
Голос человека лет сорока… наверняка отец семейства… телефон для сына, наверное, у чужого ребенка отобрал… может, спьяну? Впрочем, этого уже не узнать: мужчина ныряет в арку и пропадает – видимо, навеки. Его уже не догнать, да и кому? Словно в подтверждение моих мыслей, с соседнего балкона доносится возмущенное:
– Вот гад! Не успею ведь, ушел!.. Ребята, эй! Гоните на остановку, за ней пост милицейский, слышите? Да быстрее, может, поймают!
Но дети-колокольчики побежали в обратную от арки сторону, тоненько-слезно дрожа голосами:
– Папка не заругается, я не виноват…
– Не бойся, у тебя отец добрый!
– Я не боюсь…
– А дядьку этого отец твой найдет?
– Не знаю… У нас ведь собаки нету, нужна собака…
Дети убегают, а я, потрясенная случившимся, долго не ухожу с балкона. Мне кажется: что-то еще должно случиться, и это «что-то» удержит исплаканное сердце от разрыва. Без этого «что-то» мне не выжить сегодня…
Звонит телефон, беру трубку с величайшей осторожностью, словно она может разбиться от первого же сказанного кем-то слова. Но Бог милует.
– Привет-привет, бабуля!
– Здравствуй, Люсенька! Как ты? У тебя ничего не случилось?
Внучка смеется:
– Баб, ты всегда так спрашиваешь! Что со мной может случиться? Звоню сказать, что сдала все экзамены, буду получать стипендию!
– Как, и психологию сдала? Ты же ее так боялась…
– Баб, мне некогда, меня Ксюша ждет, пока-пока!
– Ну, пока…
Вся в мамочку свою Риту, та тоже так: привет-привет, пока-пока… Нет чтобы по-человечески здороваться и прощаться… И тут же я устыдилась своего ворчанья, раскаялась: слава Богу, что есть кому со мной здороваться-прощаться по-родному. Не искушай Господа, баб Таня.
Душе полегчало: ведь произошло хорошее «что-то», мой семейный колокольчик прозвенел, утешил. Но вернутся ли те, другие? Зазвенят ли снова у моего балкона раненные чужой подлостью голоса? Двор у нас общий, разные люди проходят по его живому полю. Добрые и травинки не примнут, а иные приносят на своих подошвах гиблые семена повилики. Приносят горе.
Такого в моем послевоенном детстве не случалось… Каждый ребенок был святыней – свой ли, чужой, – младенцем мира. Что же происходит нынче? Ведь нет ни войны, ни послевоенного бедства, ни голода. Но множеству «беспредельных» пап и мам, народивших детей в эпоху «нового мирового порядка», чего-то не хватает. Чего?
Может быть, священного желания жить, которое передали нам вернувшиеся с войны родители-фронтовики? Великой нежности, упасенной ими среди смертельного огня? Послушания старшим? Почитания предков-праотцов? Веры?
Все меньше их, великих стариков и старух, среди нас. Колышутся по стежкам-дорожкам, реют на ветрах-сквозняках. Какая бы погода ни стояла на дворе, для стариков она единая – стылая, не земным морозцем прихваченная, а – Вселенским.
Пергаментно-морщинистые, согбенно-медлительные старые люди смиренно взглядывают вокруг, не понимая: все их хлопоты о детях и внуках давно стали заботами о самих себе… Да ведь что-то надо им делать, чем-то надо заниматься, чтобы совсем не обезручеть, не обезножеть, не зарасти заживо травой.
…Привычно провожаю взглядом через окошко малолюдной «маршрутки» знакомые с детства дома и скверы, рассеянно сопрягая зрение с каждой подробинкой городской дороги. Вот сейчас будет поворот с Рабоче-Крестьянской на Огарева, здесь всегда кто-нибудь подсаживается. Так и есть: старик в бело-кремовой чесучовой паре, в соломенной шляпе призывно поднимает руку, близоруко всматривается в приближающуюся машину и уже ступает с тротуара ей навстречу. Хорошо, что рядом со мной есть свободное место.
Но «маршрутка», чуть замедлив на повороте, вдруг делает рычащий рывок и проносится мимо. До меня случившееся доходит не сразу: ну не остановил водитель машину, такое частенько бывает. Но ярко вспыхивает внутреннее зрение, и при его резком свете я вижу растерянную празднично-светлую фигуру старика: он опирается на древне-темную трость и вглядывается изумленно почему-то в меня… Словно молит о помощи. И я бросаюсь в бой.
– Остановитесь! – кричу так, как будто мне надо переосилить сразу все: и усмешку водителя, лениво отразившуюся в зеркале кабины, и недоуменно-безразличные лица пассажиров, и ставшую вдруг нестерпимо громкой «попсу», от которой глохнет белый свет. И главное – свою усталость, свою болезнь, свою одинокость.
«Маршрутка» резко тормозит, водитель, не оборачиваясь, тихо и как-то угрозно спрашивает:
– Чего надо?
– Вернитесь, заберите человека!
– Я сам знаю, что мне делать.
– Не имеете права! Он ведь старик…
– Выметайся.
Все молчат, но я и не надеюсь на поддержку, наученно понимая житейскую справедливость этого молчания: надо ехать, а тут – баба ненормальная… ишь, умная, очки нацепила… таким на дорогом такси надо ездить… и нечего водителя расстраивать, еще опрокинет машину…
Выметаюсь из «маршрутки» – она тут же срывается с места, мчит вдаль – и остаюсь одна. Одна – потому что не знаю, найду ли старика. Наверняка его уже нет на том повороте, наверняка уехал. И все-таки возвращаюсь – сама не знаю зачем.
Издалека вижу, как старик, неуклюже согнувшись, забирается в другую «маршрутку», дверца захлопывается. Знаю: мне стоит только поднять руку, и я буду не одна, я тоже поеду.
Но номер на ветровом стекле незнакомый. Выходит, старик просто ошибся? Когда же: в первый раз или теперь? Да что это со мной? История-то пустяковая. Надо ехать.
И еду. Иной раз, забывшись, слежу из окошка за прохожими, будто выглядываю среди них кого-то очень и очень мне нужного. Ну, не старика же… Тогда кого? Догадываюсь, конечно, и от этой догадки хочется плакать. Да и внутреннее зрение иной раз подтверждает удивительное: на дорожном повороте стоит мой отец в старомодном чесучовом костюме, в соломенной шляпе, и машет мне вслед, не пытаясь задержать, остановить, окликнуть. Знает: мне очень нужно ехать, чтобы продолжить движение к Вечному Дому.
Самые важные истины открываются в этой долгой-предолгой дороге – сердечные, нечаянно-великие. С годами особенно внимательно вглядываюсь-вслушиваюсь в движение жизни, сравниваю новое время с пережитым, и от этого сравнения иной раз бывает душе радостно, а когда и досадно. Хотя умом и понимаю: нельзя жить прошлым. Но при чем ум… Самое главное, самое родное согревается в сердце, и оттого оно сладко, непреходяще болит. Поэтесса Лиза Иванникова однажды придумала прекрасную строку: «Я родину по боли узнаю». Не умом сочинила – сердцем.
У всех ведь так – сердечно, не иначе – судьба сочиняется. И у этого старика, только что вошедшего в троллейбус и оглядывающегося в поисках свободного сиденья. Но людей много, и старик стоит, держась обеими руками за придверные поручни. Ему тяжело, но что делать… надо терпеть… Наконец, на очередной остановке статно сидящая в первом ряду краса-девица выпархивает из троллейбуса, и старик усаживается на ее место, утирает лицо огромным клетчатым платком: жарко! Но все же полегче, чем нам, стоячим пассажирам, теснящимся в душной троллейбусной толчее.
Через минуту наблюдаю, как старик возвращает в карман своей древней рубашки-«ленинградки» платок, взамен достает мобильный телефон:
– Тоня, я ведь удостоверение забыл, что теперь – возвращаться? Да нет, не пенсионное! Ты что, не знаешь, оно у меня в кошельке всегда… Великое, великое забыл, ты посмотри, в столе, там оно… Нету? Значит, на тумбочке в спальне. Я, как собирался, туда положил его, наверное, да забыл… Нашла? Ну, слава Богу. Ты привезла бы мне его на наше собрание, а? Другие-то великие будут с удостоверениями… Это во Дворце культуры Ленина… Тоня, привези, сам я обернуться уже не успею…
Из троллейбуса мы выходим со стариком вместе, я некоторое время иду рядом со старым человеком, но потом опережаю его. Оглядываюсь один разочек, удостоверяюсь: великий шествует потихоньку-полегоньку, значит, опоздать не боится. Значит, у него еще есть время.
Вот как, оказывается, старики-ветераны называют себя: великими. И удостоверения у них великие. И вся их жизнь, навек соединенная с Великой Отечественной войной, великая.
Я знаю: великое множество русских людей издревле шествует по родимому Русскому времени-пространству, удерживая великую землю в своей невеликой горсти.
Родители мои родились в селе: отец – на Украине, в Житне-Гóрах, мама – на Быкóвых Хуторах под Сталинградом. А встретились на войне. Мама в молодости была настоящая красавица: черноокая, с длинными косами, величаво-стройная. Отец полюбил ее, едва увидев, и – на всю жизнь.
В моем архиве хранятся их военные билеты, в них – даты и места прохождения воинской службы, звания, должности, награды. Отец отдал армии почти десять лет: на финский фронт он ушел в 1938, вернулся с Великой Отечественной в феврале 1947 – из Болгарии, а позже Румынии, там после войны служил начальником двух отделений, эвакуационного и инфекционного, в ветеринарном лазарете. А мамина служба была короче: мобилизована в феврале 1943, когда вернулась в Сталинград из-под Белой Калитвы, и служила затем врачом на разных фронтах Великой войны. Когда же и где они встретились, мои родители? Я листаю военные билеты, сопоставляю цифры и наконец нахожу: 3-й Украинский фронт, Запорожская Краснознаменная и ордена Суворова дивизия, апрель 1945 года. Они встретились накануне Победы!
В Россию, в Сталинград, приехали только в феврале 1947-го, и вскоре, в июне, родилась я, а еще через два года – брат Витя. Когда я размышляю о своем существовании в вечности до прихода в этот мир, я пытаюсь неведомое (или забытое) достроить воображением и всегда вижу почему-то бескрайнюю снежную землю, по которой идут мужчина и женщина.
Ложились отческие рати
Во снеги смертны, аки в сны,
Но шли и шли отец и матерь,
Все шли по времени войны.
Их души прятал огнь Небесный
От преисподнего огня –
И возвышался ход сокрестный
В святом предчувствии меня.
Мне всегда было важно знать, какой она была, моя земля, явившая меня на белый свет. Какой она была до войны, во время войны, после войны? Ведь я сама выбрала место своего рождения, как и всякая душа выбирает… Почему Сталинград? Что особенного в этом земном краю?
Семья наша всегда жила на городских окраинах. Сначала в поселке Отрада, в доме у дороги: там снимали комнату. Этот дом и поныне жив, но, проезжая мимо, не плачу о нем, не горюю, ведь настоящий наш дом, свой, появился много позже. Его построил в Бекетовке отец – конечно, не без помощи мастеровых людей, но и сам он умел и стену сложить, и раму связать. Дом казался мне огромным: с двумя печами – русской и голландской, с кухней, верандой и чуланом.
Так и вижу: дым под родименькой крышей струит себе, струит – до первой звезды дотягивает, а потом, слившись с враз ставшим темным небом, становится ночью. И это не страшно: ведь ночь состоит из многих-многих дымов над бекетовскими домами. Рассказала о своей догадке отцу – он улыбнулся. Значит, я придумала правду.
На крашеных гладких полах мы с братом любили кататься на одеялах, как по льду: разбежались и – кто дальше? Между оконными рамами зимой лежала вата с елочными украшениями, а весной с подоконников внутрь комнат свисали бутылочки для сбора талой воды. Помню нашу мебель – самодельную, крашенную морилкой, только деревянный диван со спинкой и валиками да железные кровати с блестящими шариками на грядушках были фабричными.
А какая веранда открывалась взору каждого, кто входил в нашу калитку! Стены были сплошь стеклянными, лишь тонкие деревянные прожилки чудом держали на себе эту прозрачную красоту. Во дворе помещался большой дощатый сарай (о, сколько всего там было!), где хранились дрова и уголь, но главным был верстак с огромным рабочим столом. Отец постоянно что-то мастерил, весь наш дом – и крыша, и стены, и печи, и летняя кухня, и курятник, и забор – держался его руками. Детская память сохранила особенно хорошо живописные отцовские картины – про Житне-Горы! – и деревянные, темного лака, соломенно-узорчатые шкатулки и рамки.
Одна такая шкатулка до сих пор годится мне для всякой портняжьей всячины, еще с кукольной поры. Куклы обшиты были с головы до ног: мама, хотя сама шить не особо любила, меня портновскому делу обучала, приговаривая:
– На что и мать, коль неча дать!
Любовь, или привычка, к шитью (мама сказала бы «к шитву») у меня, конечно, от нее. В девушках я уже полностью обшивала себя, однажды даже пальто срукодельничала из мешочного старья и обтерханного собачьего воротника. А уже о моих юбках да платьишках мама могла не беспокоиться. Да, пороть и шить я умела сызмала.
Портняжий зуд нападал всегда нежданно-негаданно, и тогда самая большая комната в доме превращалась в швейню: на столе, на диване, на стульях, на полу – выкройки, отрезы, лоскутья, тряпки, бывшие когда-то матушкиными платьями и отцовскими рубахами, ножницы и мотки ниток… Над всем царила швейная машинка из Подола.
Однажды в этой куче-неразберихе утонула самая обычная иголка: ну не было, не было ее нигде, сколько я ни искала! Между тем уже опаздывала – пора было ехать на лекции в техникум. Вот тут-то иголка и нашлась…
Помню, я в слезах и страхе сидела на полу и от боли не соображала, что делать: одна игольная половинка сидела глубоко в ступне, другая – в толстом ворсистом половике. Может, обойдется? Может быть, иголка сама из ноги выйдет? Нагрела воду, стала парить ступню, лезвие на отцовской полочке в ванной отыскала – резать… Но это было еще страшнее, чем сломанная иголка в ноге.
И – нечего делать – я поехала в техникум. Зима выдалась холодная, меховые ботинки с модными толстыми рантами, вчера еще наилюбимейшие, сегодня казались странно чужими: в одном нога мерзла, в другом нестерпимо горела.
Продержалась я всего пару уроков и поковыляла в ближайшую поликлинику, где хамоватый, с бессмысленными прибаутками, подвыпивший хирург удалил иголку, а потом ничтоже сумняшеся выпроводил меня из кабинета, даже не побеспокоившись о том, как я буду добираться до дома…
А добиралась я сначала трамваем, потом пешком – разве можно было тогда, в шестидесятые годы, дождаться автобуса в нашу даргорскую глубинку? Дома едва смогла разуться: «горячий» ботинок был полон крови. Потом пришла с работы мама… потом приехала «скорая»… потом я оказалась в больнице… Пешком после этого не передвигалась долго.
Больше я иголок не теряла, но портняжить не бросила и с тех пор не то чтобы шью – придумываю. И воплощаю. Благо, лоскутков и лоскуточков за жизнь насобирала – море! Но о сломанной иголке никогда не забывала, ведь в кои веки и она была целой… И хотя иглой дорог не меряют, но, как говорила мама, на игле да бороне русская деревня – сиречь жизнь – стоит.
Матушка не раз иголку поминала, когда о ком-то хотела сказать поточнее: «Словно игла в щель!» – о пронырах, а еще: «Была игла, да спать легла» – про колких да вострых, наказанных жизнью. Терпеть не могла скупых: «Хоть иглой в глаза – не выщербишь», но уважала хозяйственных и строго-справедливых: «Иглой шьют, чашей пьют, а плетью бьют»…
Мама всегда разговаривала с выражениями. Нет-нет, но вдруг слетает и посейчас с моих губ мамина фраза: «Чем в таз, лучше в нас!». А это: «Без соли стол кривой», «Недосол на столе, пересол на спине», «Хлеб за брюхом не ходит», «Хлеб да вода – наша еда», «Хорош кус, да не для наших уст», «Сухая ложка – не лепешка, рот дерет», «Не до жиру, быть бы живу»… Были и другие присловья, но больше запомнились эти. Может быть, потому, что – хлебные?
Мама всю жизнь боялась голода: с рожденья жила в батрачьей семье, потом училась на нищенские гроши старшей сестры Павлины, а в хуторе Янов под Белой Калитвой, куда в 42-м году из Сталинграда ее с сестрой Тосей и племянницами угнали немцы, спасалась голодным куском в людях. А смерть от голода первого маминого ребенка? А я, едва не умершая на ее руках от голодной дизентерии?
Да, мама боялась голода. И даже в сытые уже шестидесятые-восьмидесятые годы сушила сухари. Ни один кусочек хлеба у нас не выбрасывался, а присоединялся к уже собранным в духовке. Накапливались целые мешки, мама все время их перетряхивала-пересматривала, потом относила в сарай, а отец подвешивал за потолочную балку – чтобы не сгрызли мыши. Потом эти сухари заменялись другими, но – не выбрасывались. Отец отвозил их в деревни, куда часто ездил в командировки, отдавал знакомым сельчанам: добрый был корм для домашней скотины.
Мама нас с братом жалела: «Доча, сына…».
Как мы ждали ее с работы! Выглядывали, не показалась ли из-за поворота со своей большой парусиновой сумкой. Матушка всегда заходила в шлакоблочный магазин, крюк порядочный делала, появлялась усталая, и мы с братом подхватывали сумку, вдвоем несли в кухню, водружали на стол и садились вокруг в ожидании: что в ней сегодня? Как будто не знали – что: хлеб, селедка, сахар, постное масло, маргарин, карамельки-подушечки…
А мама сбрасывала у порога обувь и падала на диван. Тревожить ее не полагалось.
– Вот немножечко полежу, – говорила, – встану, буду варить…
Летом готовили на керогазе или электроплитке, зимой – в печи. За день в доме нахолаживало, и матушка сначала затапливала «голландку» в большой комнате, а потом принималась за кухонную печку. Мы с братом любили ворошить уголья в красной пещере огня, стерегли, чтобы он не соскочил на пол. Хоть отец и набил жестяные покрытия под печными дверцами, все равно надо было следить. Я всегда выбирала «голландку», стелила перед ней одеяло, раскладывала игрушки. Огонь пел потихоньку свою древнюю домашнюю песню, с кухни уже доносился вкусный запах сваренной с луком картошки, вот-вот должен был вернуться отец… Это был наш дом.
Повернуло на холод, на грусть –
Зов зимы я люблю наизусть.
Что несет эта чистая весть –
То ли новость любви, то ли песнь?
Осенины легки и цветны,
Но в ограде цветы холодны,
И последний осенний букет
Будет долго оттаивать свет
В древних зорях домашних огней,
В теплой тверди домашних камней.
В зимних песнях морозная Русь
Будет долго оттаивать грусть…
В хорошие минуты мама что-нибудь рассказывала из прошлой своей жизни. Например, о том, как она мечтала стать химиком. Откуда в ней это было? А вот мечтала. До войны на химиков учили только в Москве, в институте Менделеева. Но денег не было даже на дорогу, и мама отнесла аттестат зрелости в Сталинградский медицинский.
Институт – не школа, в дырявых башмаках не потопаешь. Старшие сестры сложились и купили Вале туфли, а за отрезом на юбку она поехала на базар-толчок сама. Выбирать было особо не из чего, купила темно-синий бостон с наклонными рубчиками. Впрочем, ткань ей понравилась, да и торговка, отмеряя товар, громко нахваливала его, заодно показывала на свою юбку:
– И моя из бостона, видишь, как сидит? Портниху только найди хорошую!
Шить собиралась Павлина, мама, радостная, примчалась к ней, разложила ткань:
– Смотри, какая красота!
– Погоди-погоди, – опытный глаз старшей сестры заметил что-то неладное, она поднесла отрез к окну, развернула во всю ширь – на темном фоне засияли солнечные дырочки.
– Молью побитая, видишь? Ну, спекулянты проклятые!
Это было самое настоящее горе, но долго горевать – красоту сживать, и первую взрослую мамину юбку Павлина сшила из своей поношенной милицейской шинели. Мама рассказывала, что и на фронт ушла в этой юбке, потом, конечно, выбросила за ненадобностью: армия есть армия.
…Матери исполнилось двадцать два года, когда началась война. В то трагическое воскресенье 22 июня 1941 года они с мужем (первого ее супруга звали Георгий) собрались на отдых за Волгу. Мама была «в интересном положении», появления ребенка ждала через семь долгих, как казалось, месяцев.








