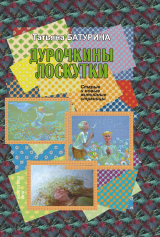
Текст книги "Дурочкины лоскутки. Старые и новые житийные страницы"
Автор книги: Татьяна Батурина
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
День выдался замечательный, мама беззаботно радовалась безоблачному небу и солнцу. Наверно, тогда она была совсем другая: веселая! А уж красивая и счастливая – определенно. Я же знаю ее молчаливой, задумчивой, усталой. Мамину душу, как и всю русскую жизнь, война разделила надвое.
Уже были упакованы сумки с нехитрой едой, когда вошла соседка:
– Сейчас по радио передали: в 12 часов будет выступление Молотова.
– Ну и что? – откликнулась мама. – Потом расскажешь.
Но Георгий сказал:
– Останемся.
И они остались, чтобы услышать известие о нападении Германии на Советский Союз.
Поначалу казалось: пройдет немного времени – и немцев прогонят, поэтому мама старалась не думать о другом – противоположном – исходе событий, боясь навредить ребенку. Но 3 июля по радио выступил Сталин, и после этого сомнений уже не осталось: война будет долгой и страшной. Сталину привыкли верить… И сказал он: «Братья и сестры!», и мамина душа затрепетала от этих слов, и в слезах обняла она мужа, по-древнему прощаясь навеки…
Потом, когда Георгий ушел на фронт, когда она ждала писем, когда рожала сына, когда спустя восемь месяцев хоронила его, умершего от голода, в сталинградской воронке, она не помнила этих сталинских, утробно родных слов. Они снова явились в ее жизнь позже – на войне. В судьбе появились новые люди, стал складываться характер, и Евангельская истина о Вселенском Христианском братско-сестринском родстве просто и ясно воплотилась в мамину жизнь с той же обыденной легкостью, с какой она сменила домашнее платье на военную форму.
– Мам, а за тобой немцы гнались?
– Что им, больше делать было нечего?
– Так и не видела ни одного фашиста?
– Лучше было бы не видеть, доча…
Однажды в Румынии она, капитан медслужбы, вместе со старшиной пошла в село проверить воду: немцы часто отравляли колодцы. Ну, пришли мама со старшиной в село, в самом крайнем дворе попросили воды, а хозяйка еще и молока вынесла. Старшина на крыльце уселся, стал крутить самокрутку, а мама зашла в дом: так хотелось побыть в домашних стенах, пусть и чужих! В передней комнате увидела длинный застекленный шкаф с посудой, в углу – зингеровскую швейную машинку, круглый стол под вышитой скатертью в простенке между окнами. Подумала: «Зажиточные», – прошла дальше, в глубь дома, и в боковом окошке, куда и глянула-то ненароком, заметила нескольких немцев. Рванулась к старшине, а он – и сам навстречу: что делать? Одна винтовка на двоих… Хозяйка недолго думая показала на дверь – поняли, встали за нее, вжавшись в стену, а женщина еще и стул приставила к дверной створке, потом подхватила ребенка на руки и вышла на крыльцо.
Немцы, видно, осторожничали: в дом не вошли, только забрали яйца да кур переловили. Все время спрашивали:
– Русиш найн?
– Найн, найн, – хозяйка даже улыбалась, маме было хорошо видно ее лицо сквозь щелку в двери. И вдруг, к ужасу обеих, младенец стал тянуть ручонки к этой щелке: неразумному дитяти захотелось поиграть с тетей за дверью!
И опять спасла хозяйка: ну ругать, ну шлепать ребенка – несильно, для виду, знаками показывая немцам, мол, напрудил в пеленку – и младенец не замедлил заплакать. Немцы засмеялись и ушли. Потом мама узнала, что это была одна из немецких групп, выходивших из окружения.
Вода в колодце оказалась для питья пригодной, и целый вечер медички из санбата мылись и пили чай в том самом доме, задабривая хозяйку сахаром и сгущенкой.
Однажды в госпитале раненый капитан сказал маме:
– Врач не Бог, но пол-Бога есть…
Хорошо, что мама не забыла передать эту фразу мне.
Самой любимой в рассказах про войну была Победа. Я по слогам выучила название венгерского города, где мама закончила воевать, и все время просила:
– Мама, давай про Се-кеш-фе-хер-вар!
И она в двадцатый раз начинала с того, как решила отоспаться хотя бы одну ночь, ведь на сто верст вокруг немцев не было. Как вдруг ни свет ни заря началась стрельба, мама вскочила и спросонок сунула левую ногу в правый сапог, правую ногу – в левый, да так и выбежала из дома мадьярки Анны с табельным оружием в руках – растрепанная после сна, полуодетая. Выбежала – и глазам не поверила: стреляли в воздух, просто так!
Да нет, не просто так стреляли…
«Победа! Боже мой, она!» –
И губы долго привыкали
К словам: «Окончилась война!..».
На войне мама была контужена, и отец, жалея ее, частенько сам готовил и убирал. Он варил отменные борщи – на сале, я потом нигде таких не пробовала, даже на Украине, а уж там борщи так борщи. По воскресеньям папа раным-рано ставил тесто, и мы просыпались от ни с чем не сравнимого запаха жареных пирожков – с картошкой и капустой. Это был праздник, только без гостей. Пирожков всегда было много, хватало на целый день. Ну, и улица, конечно, кормилась, так уж было заведено.
Но в семье не всегда бывало ладно. Мама так уставала, что иной раз ей было ни до чего, а отцовские утешения только раздражали. Отец замыкался, уходил в себя и в работу. В доме все шло шиворот-навыворот, и мы с братом, как беспризорные, слонялись по улицам. Однажды, подходя к дому, я услышала громкие голоса, распахнула дверь и с порога увидела небывалое: прижавшись лицом к стене и стуча по ней руками, страшно плакал отец. Мама сидела на кухне, у печки, глядела в окно.
– Доча, – позвала она, и я бросилась к ней, боясь отца и ничего не понимая. – Папа хочет от нас уйти…
Я заревела в голос, уткнулась было в материнские колени, но мать сильно встряхнула меня, прикрикнула:
– Хоть ты замолчи! Иди проси, чтоб остался!
Из детской выглянул испуганный Витька, видно, прятался там от родительской ссоры. Я схватила его за руку, потащила к отцу, брат упирался изо всех сил, цеплялся за дверные косяки, но я была сильнее… Скоро мы с ним, плача в четыре ручья, стояли перед отцом и беспрестанно повторяли:
– Папа, не уходи, папа, не уходи!
Отец не ушел, да и куда ему было идти? Но, наверное, мать очень сильно его обидела, потому что, давая последний выход гневу, батя схватил единственный наш будильник и так грохнул им об пол, что чуть не проломил половицу, а от часов остались только винтики, стрелки и стеклышки… Этим дело и кончилось. Но еще несколько дней в доме сохранялась холодная тишина, и только утром в воскресенье я снова проснулась от знакомого вкусного духа папиных пирогов.
Пироги пирогами, а историю эту мы с братом долго не забывали. Часами, спрятавшись в сарае за верстаком, играли в куклы, «в родителей», строя всевозможные версии взрослой ссоры. Вот кукла-папа приходит домой, а кукла-мама не приготовила ужин…
– Нет, – отметала я, – папа сам умеет варить, даже лучше мамы.
Возникали новые предположения, потом еще и еще. Витя даже придумал небывалое: будто кукла-мама что-то отобрала у куклы-папы и не отдает.
– Ты ведь не отдаешь мне монету, – доказывал братик, – а она не твоя, я ее нашел!
Витя действительно нашел старую нерусскую гнутую монету у клуба Павших борцов, показал мне.
– Сто раз тебе говорила: я ее потеряла!
– Я вот маме скажу…
– Ябеда, ябеда! – и я выскочила из сарая, донельзя возмущенная: нет, больше никогда не буду играть с братом в куклы!
Спустя много лет я спросила маму:
– Почему хотел уйти отец?
Она никак не могла вспомнить.
– Ты еще нам с Виктором велела просить отца остаться!
– Доча, в семье все бывает, сама ведь знаешь…
Конечно, я уже знала, не первый год была замужем, сын Андрей вот-вот в школу пойдет.
– Мама, ты любила отца?
Мы сидели в беседке в нашем саду, сумерничали. Это очень уютное время суток – сумерки, когда природа как бы укутывает тебя в пухово-невесомое состояние умиротворенности и покоя, а душу охватывает тихая нежность ко всему и всем. Наверное, поэтому я и задала свой великий вопрос, а мама по той же причине рассказала о своей любви.
Ее первый муж Георгий, став на войне инвалидом, в Сталинград не приехал: у него появилась новая семья. Мамин ребенок умер в сталинградских окопах от голода, и мама ушла на фронт. Прошлого не существовало, настоящее сулило гибель, жить оставалось только одним – послевоенным будущим. И оно появилось в облике веселого разведчика Александра. Любовь возникла стремительно, они даже успели зарегистрировать свой брак. А потом Александр погиб во время артобстрела на маминых глазах от прямого попадания: осталась лишь воронка… Мама неосознанно искала смерти: не пряталась ни от пуль, ни от осколков, ей было все равно. Не спасала даже надежда на возвращение домой: что ее там ждет, зачем жить дальше, когда вокруг одна смерть?
Как знать, что было бы с мамой, если бы в апреле 1945 года она не встретила отца? Видно, сам Господь соединил их, коль оба остались живы и с войны вернулись вместе.
– Кого из мужей ты любила больше, мама?
– Знаешь, сама себе удивляюсь, но любила всех одинаково. А отец… Это прекрасный человек, он многое мне прощал, жалел. А как он уходил, я не помню, наверное, что-то сказала обидное… Хотя обижать его было не за что, он только для семьи и жил.
Отец мечтал вырастить сад, но первая же весна убедила его в непригодности земли: мы поселились на горьких солонцах с белым налетом и близко подступающими грунтовыми водами. До сих пор не ведаю: почему именно здесь было выбрано место для постройки дома? Может быть, потому, что недалеко находилась ветеринарная лаборатория, директором которой отец стал сразу по приезде с войны? Наверное, не сам выбирал землю, спасибо и за ту, что дали. Было ведь не до житейских разносолов… Белесый пустырь с горько-соленой травой и талыми глиняными канавами, вдалеке – пожарная каланча, еще дальше – здание горбольницы, а где-то за ней – тот самый дом на улице Кирова, где содержался после пленения в 43-м немецкий фельдмаршал Паулюс.
Да, саду здесь не расцвесть, наверное, никогда. Отец огорчался, переживал. В то время он курил, и часто через стеклянную стену веранды я наблюдала, как ходит он по темному двору, освещаемому лишь огоньком папиросы да лампочкой у калитки, а вокруг – ни деревца, ни кустика…
Как мне хотелось, чтобы хоть какая-нибудь зеленая живность в нашем дворе выросла папе на радость! Сердцем чуяла, как не хватает ее, простой радости, моему мягкохарактерному, ранимому отцу. Только став взрослой, я припомнила своим нутряным зрением, как батя, словно Добрыня-богатырь, незаметно для детей отодвигал от дома всякие житейские тяготы и заботы. Впрочем, мама была такой же. И, наверное, поэтому времена послевоенного бедства были для нас с братом просто-напросто замечательными детскими годами, обласканными родительской любовью.
Недавно пришло письмо от старейшего врача Сталинградской ветеринарной лаборатории Анны Павловны Тарабриной. Помнится, при встрече я просила ее рассказать о первых послевоенных годах работы моего отца в Сталинграде, и вот, наконец, держу в руках письмо. Несмотря на преклонный возраст, Анна Павловна сохранила прекрасный почерк, которым воспользовалась ее не менее прекрасная память.
Старая женщина повествовала о том, что работала рядом с моим батей почти тридцать лет – с того самого времени, когда в 1947 году Михаил Кондратьевич Бойко стал директором лаборатории и одновременно заведующим серологическим отделом. Лаборатория тогда размещалась в маленьком частном доме в Бекетовке, надо было строиться снову, а землю под стройку городские власти выделили на Дар-горе. «После военных лет, – писала Анна Павловна, – было очень тяжело, но Михаил Кондратьевич смог выдержать и построил лабораторию в 1955 году».
Помимо директорства, отец руководил научно-практической работой в хозяйствах области – по словам Анны Павловны, «боролся с бруцеллезом коров и овец». Благодаря лабораторным исследованиям тогда были оздоровлены животные поголовья многих колхозов и совхозов.
На места врачи выезжали большими группами, неделями находились в хозяйствах, и лишь по выходным дням отец разрешал людям отлучиться. Ну, а сам оставался работать. Вот почему мы с братом так редко видели его дома, да еще и мама по ночам дежурила в своей больнице…
Но вернусь к письму, в котором Анна Павловна не упускала деталей: «Однажды (в марте 1960 года) в Кумылженском районе наша экспедиция пересекала овражью балку с глубокой водой, и вдруг машина дернулась и остановилась. Кругом – мерзлая вода. Лично я очень испугалась, но Михаил Кондратьевич успокоил всех, не разрешил водителю покидать машину и сам вошел в воду, поднял крышку капота и долго устранял поломку. Мы очень переживали: ведь потом много километров ваш папа ехал с мокрыми ногами, и это в марте, который в нашем краю такой холодный… Михаил Кондратьевич был очень чувствительным к чужой беде. Никогда не забуду, когда он дал мне безвозмездно 100 рублей, а было это в голодном 1947 году. У меня давно закончились все деньги, дома ждали старая мать и годовалые дети… Я шла к ним, несла молоко и хлеб, а сердце не пело – плакало от счастья. Вот такой был ваш папа – можно сказать, человеческий человек. Светлая ему память…». Письмо храню – для своих.
А ведь я помню тот маленький лабораторный домик в Бекетовке, куда иной раз отец привозил меня. Конечно, где уж «бекетовцу» было сравниться со сталинской двухэтажкой-ветлабораторией, много позже затмевавшей собой все окрестные дома и домишки на Дар-горе!
Зато маленький бекетовский дом подарил незабываемое ощущение прикосновения к настоящей тайне, заключенной в блестящих пробирках и ретортах, в белых халатах и шапочках врачей, то приникающих к окулярам микроскопов, то склоняющихся над прозрачными стеклянными чашками с какими-то неведомыми мне срéдами. А во дворе была конюшня с двумя лошадками, где я однажды отведала отрубей: вкусно! А в виварии на меня настороженно глазели, не даваясь в руки, разноцветные морские свинки и пушистые кролики. Иногда свинки причудливо свистели. Я их жалела: ведь на них ставились всякие опыты. Но отец объяснил однажды, что животные приносят науке пользу, и мне пришлось смириться.
Вечерами отец подолгу сидел на кухне, писал. Лишь однажды я спросила:
– Пап, ты что, тоже уроки делаешь?
– Да нет, Таня, это отчеты.
– Что такое «отчеты»?
– Как же объяснить… Ну, вроде рассказов про то, как я езжу в командировки.
– Про это я знаю! – обрадовалась я, потому что действительно с самых малых своих лет хорошо знала: командировки – это дни и ночи без отца, а иногда и без матери, постоянно дежурившей в больнице.
Отчеты большими кипами укладывались в ящики отцовского письменного стола, а спустя годы оказалось, что это были проекты научных статей. Кое-какие наблюдения отец опубликовал в ветеринарных журналах, остальные записки исчезли, словно их и не было. Видно, становиться кабинетным ученым батя не собирался. Или не мог?
Его уже не было в живых, когда я случайно встретила бывшего врача ветлаборатории Хачатура Карапетовича Оганяна, ветеринара-ветерана. Повспоминали, повздыхали, как водится, о былом, а в ответ на мой вопрос о пропавших отцовских записках Оганян развел руками:
– Он мог стать ученым. Во всяком случае, практический материал Михаилом Кондратьевичем был собран огромнейший, богатейший, ведь батюшка ваш, директор научно-практического учреждения, сорок с лишним лет трудился и как простой врач на сельской ниве.
– Да уж помню его бесконечные командировки…
– Да, да, все мы наездились по районам, – и Оганян добродушно засмеялся. – И я записи вел – знаете, для служебного порядка, не более того. А Михаил Кондратьевич делал серьезные обобщения. Помню, он советовался со мной, как посолиднее обосновать решение проблемы, связанной с воздушной обработкой полей ядохимикатами. Наш директор был уверен, что делать этого нельзя, ведь в результате гибли не только вредители-насекомые, но и домашние, и дикие животные: яды отравляли пастбища, луга, леса, даже водоёмы…
– Представляю себе, как отцом были недовольны там, наверху!
– И вы правы, у него действительно были неприятности с начальством, но в некоторых хозяйствах от такого «ухода» полей отказались. Я как-то поинтересовался, не подумывает ли он о саратовской или московской аспирантуре, и ваш отец ответил, что, мол, жена против, двое детей не должны расти безотцовщиной…
А я и так, без этого нового для меня знания, всегда помнила, что у меня был настоящий отец – самый знающий, самый надежный. И ещё чувствовалось в нем что-то настолько доброе, чему я, маленькая, не могла дать названия, а теперь могу: жертвенность.
Мы жили, кажется, на самом краю света, но как же я любила этот бекетовский край, как тосковала после переезда на Дар-гору! В детстве – особенно, да и сейчас горячо делается сердцу, как вспомню, как увижу в памяти летнюю тропинку, мимо нашего забора бегущую к калитке. Я даже приехала однажды в юности в переулок Апухтина, подошла к чужому уже дому, заглянула в любимую дырочку от сучка в заборе: как тут теперь? По-прежнему ни деревца, одна лишь куцая трава, у собачьей пустой будки валяется тряпичная кукла с оторванной рукой, я вгляделась: надо же, моя, забытая! Наверное, нашли в сарае… Окна дома в глухих занавесках, вместо стеклянной стены веранды – кирпичная кладка, и кухня во дворе обросла кирпичом. Много перемен, если присмотреться, только куры по-прежнему бродят вокруг да около, поквохтывая.
Ах, как вольно мы здесь когда-то жили – посреди огромного бело-черного глиняного пустыря с белесой полынью! И вольно, и больно. Это необъятное поле столь сильно раскисало весной и осенью, что невозможно было добраться до асфальтовой дороги, поэтому приходилось далеко обходить, вдоль чужих заборов, цепляясь за них, аж до пожарной каланчи, а там – по новым кругам к дороге. Однажды я не захотела делать эти долгие круги, пошла напрямик и с ревом вернулась назад в одних чулках: резиновые сапоги, как свинцовые, ушли в бездонную землю, утонули… И вызволить их было некому: отец и мать были на работе.
Много позже я узнала, что же это за земли такие – Отрада и Бекетовка. Там, где нынче прямо посреди жилых дворов растет камыш, текла когда-то речка, как звали – никто не ведает. На месте нынешней Отрады на левом берегу речки были замечательные дубравы, росли березы, били родники. Ехал в ту давнюю пору, в 1762 году, через Царицын в Астрахань новый астраханский генерал-губернатор Никита Афанасьевич Бекетов. Увидел дивную красоту и молвил:
– Какое место отрадное!
А еще через десять лет, оставив государственную службу, Никита Афанасьевич обосновался в этих местах, в своем поместье, которое стали звать Отрадой. Он построил здесь большую усадьбу с настоящим дворцом, но позже все сгорело при большом пожаре. А главное – Бекетов заложил церковь, и построена она была на его средства, уже после кончины. Благодарные прихожане назвали храм Свято-Никитским во имя святого Никиты Исповедника, небесного покровителя Никиты Афанасьевича Бекетова. Брат же Бекетова, отставной майор Петр Афанасьевич, поселился на правом берегу речки, и слобода эта была именно им названа Бекетовкой. Речка за два века утекла в нети, оставив после себя непригожие пустырные земли, которые потихоньку все же заселялись, обрастали кое-какой зеленью, а вот настоящие сады не заводились.
И на нашем подворье в переулке Апухтина так и не вырос сад, зато трудами отца появился еще один дом – летняя кухня, где поселилась мамина сестра тетя Тося с дочерьми Люсей и Аллочкой. Нас стало много!
Я помню беспряничную бедность со всеми ее перелицованными платьями и стоптанными башмаками, с неизменной жареной картошкой и вываренной до крошева сушеной рыбой, с самым лучшим лакомством – ржаным хлебом, политым горчичным маслом и посыпанным сахарным песком, только Таня Могилевская всегда хвалилась белым ломтем с топленым маслом. Когда все дети со своими заветными кусками выходили на улицу, надо было успеть крикнуть:
– Сорок один, ем один! – и никто уже не мог претендовать на твой кусок, даже тот, кто кричал запоздало вслед:
– Сорок восемь, половину просим! – и каждый должен был отдать требуемую половину победителю.
И откуда взялись эти присловья? Может быть, в детских душах неосознанно трепетала общенародная память о сорок первом годе, когда началась война, и о сорок восьмом, когда закончился послевоенный голод? Как бы то ни было, нашими играми управляла улица, она всегда все знала, все умела, всему учила – надеюсь, хорошему, потому что шпана в слободе не водилась. Или мы не знали о ней?
Многие люди рассказывали подобные истории о своем детстве. Что ж тут удивительного, ведь в одной стране живем, и послевоеннье на всех одно было. А Владимир Иосифович Секирко из Хосты, в семье которого я всегда останавливаюсь по приезде на море, после ознакомления с моими житийными страницами поведал похожее о своих довоенных детских годах:
– Как будто про меня написано, хотя я на десять лет старше, и детство мое окончилось еще до войны, причем не на Волге, а на Кубани. Особенно удивительно, что вы про хлеб с подсолнечным маслом вспомнили! Мы тоже таким лакомством на улице хвалились, только хлеб сахаром не посыпали. Такая бедность в нашей станице была – не передать…
– Значит, вы из крестьян?
– Из них… Одна лишь семья в станице считалась зажиточной. Помню, у хозяйского сына был велосипед, и станичные мальчишки по очереди прокатывались один разок до околицы и обратно за полмешка травы. Так что этих «полмешков» я насобирал в детстве много. А чтобы мяч футбольный купить, все пацаны станицы огромное поле отавы выкосили за два дня. И лепехи коровьи собирали – глину месить да стены мазать, и полы были в наших избах глиняные… Было, все было, да вы и сами знаете.
Да, теперь я знаю, а в раннем детстве и думать не думала о том, что семья наша бедная. И только однажды, когда мы с братом попали в дом, показавшийся нам сказочным замком, удивилась: а почему мы живем по-другому?
Когда отец бывал в командировках, а мать сутками дежурила в больнице, в нашем доме ночевала соседка тетя Наташа. Но иногда она болела или уезжала к родне в деревню, и мама «раздавала» нас по знакомым – простым и небогатым.
Почти в каждой такой семье росли дети, и наши краткие гостевания не приходились в тягость, даже наоборот: привычно подражая взрослым, мы играли в хозяев и гостей по заведенному в Бекетовке порядку, было не до баловства. Судьба потихоньку прирастала друзьями.
Но как-то с утра пораньше мама повела меня с братом на другой конец нашей слободки, за «пожарку», в большущий каменный дом. Я не понимала, отчего она всю дорогу сердилась, то есть молчала, ведь ни в чем мы с Витькой с утра не провинились. Только открывая чужую калитку, мама сурово произнесла:
– Если тетя Света на вас пожалуется, пеняйте на себя.
Яснее сказать было нельзя.
А с крыльца уже спускалась самая красивая тетя на свете в ярко-желтом, переливающемся шелком халате с черными кружевами. Вокруг румяного лица кудрявились рыжие волосы, на длинной шее поблескивали красные бусы. А когда тетя протянула навстречу тонкую руку, я увидела, что и ногти у нее такие же красные, как бусы.
– Светлана Ивановна, вот, привела детей, – сказала мама, пожимая диковинные пальцы, – завтра только после работы заберу, к вечеру.
– Да вы не переживайте, Валентина Андреевна, – отвечала обладательница роскошного халата, – присмотрю за детками, не обижу.
Когда успокоенная мама ушла, я огляделась и увидела, что дом – и не дом вовсе, а сказочный замок с разноцветными окнами, с железной – высоким коньком – крышей, с огромной кирпичной дымовой трубой, которая, по летнему времени, неизвестно зачем возвышалась над всеми тайнами и загадками этого царского двора.
Но самой большой тайной казались цветы. Они росли везде: и вокруг деревянной кружевной беседки, и вдоль каменной дорожки, и возле сарая в глубине двора. А у нас дома не то что цветы – деревья не приживались.
Мне стало так обидно, что захотелось домой, в свой пустынный, с редкой чахлой травой, двор. Но дома ночью одним быть нельзя… надо оставаться здесь… А цветы будто мучили, и я низко склонилась над ближайшим розовым кустом, потыкала пальцем во влажную почву и тут заметила ровно выступающие из земли деревянные доски.
Светлана Ивановна, издали наблюдавшая за мной, сказала:
– А ты любопытная девочка. Знаешь, что это такое? – и повела рукой в сторону цветущего розового дива.
Я смущенно покачала головой.
– А хочешь узнать?
Я согласно кивнула и, осмелев, промямлила:
– Я про это папе расскажу, у нас во дворе цветы не растут…
Оказалось, глубоко в солено-горькую, как и во всей Бекетовке, землю были врыты большие деревянные ящики с плодородной почвой, привезенной еще отцом Светланы Ивановны с ее родины – из далекого донского хутора.
– Отец оставил мне и дом, и хозяйство, поэтому и занимаюсь цветами, а иначе зачем? – и хозяйка безнадежно махнула рукой. – Кругом ведь соль да горечь…
И так она это печально проговорила, что я своим юным умом поняла недосказанное: соль да горечь присутствовали не только в земле, но и во всей неустроенной у многих людей послевоенной жизни.
Светлана же Ивановна жила справно, берегла отцовское наследство, выращивая цветы на продажу: такая торговля во времена моего детства была еще в диковину, не то что нынче.
Я бродила по цветастому двору и радовалась: ни сегодня, ни завтра не надо идти в детсад, у нас с братом – приключение! Может, в этом замке не только цветы, но и привидения водятся?
Братик еще мало что понимал, ведь ему было всего пять лет, но, увидев обсаженный георгинами и бархотками сарай, он проворно устремился к нему: знал, что найдет там всякие гайки и чурбачки – свои любимые игрушки.
Однако Светлана Ивановна повелительно позвала:
– Дети, завтракать! – и Витька так же торопко повернул назад.
Сказка продолжалась: на столе вместо ненавидимой манной каши сияло большое блюдо творожных шариков под сметаной, узорились разноцветными слоями куски шоколадного торта, розово светились чем-то, наверное, очень вкусным высокие стаканы.
– Это клюквенный мусс, – объяснила хозяйка, – детям он очень полезен.
Дома нам никогда не говорили про полезность еды: главное, чтобы она была.
После завтрака Светлана Ивановна занялась поливом цветов. Я тоже схватилась за ведро.
– Не тяжело? – только и спросила хозяйка, на время превратившаяся из золоченой красавицы в цветастую, ладно шлепающую по земле босыми ногами.
– Не-а! – шлепая следом, я бурно радовалась тому, что цветастая похожа на всех других женщин нашей слободки.
Брат целый день пропадал в сарае: стук да стук, стук да стук. К вечеру похвастался:
– Гляди!
Я поглядела: деревянный человечек, криво сбитый из неровных тонких брусочков, с разнодлинненькими ручками и ножками, с квадратной головой, но человечек! Эта поделка была одной из первых в мастеровой жизни брата: долгие годы я наблюдала, как он учился строгать, выпиливать, сбивать, вырезать, пока не стал настоящим плотником – совсем как умелец-отец.
В обед мы угощались супом на бульоне из бараньей косточки, тающими во рту котлетками и абрикосовым компотом, а на ужин Светлана Ивановна нажарила никогда не приедающейся картошки, и мы, овеянные воспоминаниями о родном доме, улеглись «валетом» спать на широком мягком диване.
Привидения так и не появились, но время от времени тишину ночного замка охорашивал мягкий, почти шелестный, звон больших настенных часов. Я засыпала и просыпалась, засыпала и просыпалась… А потом совсем проснулась вместе с солнышком.
Вспоминаю, как Светлана Ивановна ходила с нами в парк напротив шлакоблочных домов, как покупала мороженое и газировку, как мы смотрели в «Спутнике» кино…
А вечером пришла мама, внимательно оглядела нас, спросила:
– Не баловались?
– Они у вас дýшки, – вмешалась хозяйка, – помогали мне по хозяйству, молодéчики!
Пригорюнилась, попросила:
– Приводите деток еще, мне не в тягость.
Но в чудесный замок мы больше не ходили.
Витя подарил Светлане Ивановне своего деревянного человечка, мне же дарить было нечего. Заметив мою неловкость, добрая хозяйка сорвала белую розу, протянула со словами:
– Возьми, она твоя, коль ты поила ее живой водичкой.
Живой водичкой? Тетя Света ошиблась: вода была самая обыкновенная, из скважины.
По дороге домой мама расспрашивала, чем мы занимались, что ели – особенно подробно про то, что ели. Вздохнув, невесело заключила наше восторженное повествование:
– Вот подрастёте, выучитесь, начнете работать, будете хорошо жить. А пока нам не до разносолов.
Наверное, поэтому она и сердилась, когда отводила нас в богатый дом Светланы Ивановны: маме было стыдно за нашу бедность. А может, она боялась, что про эту бедность узнают несмышленые дети?
Тетя Тося и двоюродные мои старшие сестренки были рукодельницами, и в летней кухне, и на стенах в нашем доме висели коврики из мешковины и медицинских бинтов с лоскутными рисунками, а на полах красовались связанные из лоскутов и старых чулок половики. «Пылесборники», – смеялась матушка, но пылесборники служили нам много лет, и даже когда в доме появился первый настоящий ковер, эти самодельные половики, уже поблекшие, выцветшие от стирок, потихоньку лежали-полеживали во всех комнатах.
Тетя Тося никогда ничего не выбрасывала – ни газет, ни склянок, ни коробок, ни тряпок каких-нибудь. Впрочем, все сестры мамины были такие же боязливые соберихи: и Тося, и Маня, и Пава, да и мама сроду боялась расстаться с самым малым клочком прожитого. Из старых пальтовых подкладок тетя Тося выстегивала халаты, они переливались реденьким светом старенькой спаржи, словно настоящие дорогие атласы, и поэтому назывались барскими. Своего халата я стеснялась и при людях никогда не надевала, и он до сих пор хранится на антресолях среди доброго старья, с которым так жаль распрощаться!
Раньше-то все береглось в сундуках. Самый большой стоял в общежитии на Шлакоблочной у тети Мани: ох, вот где всякого добра дополна было! Многое не запомнилось, а вот лоскуты и отрезы мануфактуры я словно до сих пор перебираю, перегнувшись через край сундука, а тетя Маня, помогая мне, ласково приговаривает:
– Вырастешь – все твое будет.
Детей у тети Мани не было, дядя Фолий умер рано, и она любила тетешкаться со мной и братом. Особенно же переживала за наше будущее, потому и хранила для меня ткани, а для Вити – разные щипцы, молотки и молоточки, сверла, гвозди, наждачную бумагу… Шить тетя Маня не умела, зато вязала такие воздушно-белосиянные салфетки и скатерти! Теперь они живут в моем доме рядом со старинными мережковыми накидками и подзорами с Украины.
Тетя же Тося, в отличие от других сестер, была заправской портнихой, она всех нас обшивала с головы до ног: косыночки, платки, халаты, платья, рубашки, даже чувяки. Они делались просто: изношенные вдрызг шерстяные носки обшивались кусками старой сапожной кожи или дерматином, вот вам и теплые домашние чуни. Но самая главная память – ватное одеяло, которое тетя Тося подарила мне на свадьбу. Нет, это не одеяло, это вся наша давняя семейная жизнь через много лет волнисто раскрылась передо мной, когда я развернула и расстелила одеяло на диване: оно было сшито из кусочков старых, но теперь таких дорогих платьев…








