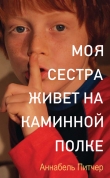Текст книги "Артемидора (СИ)"
Автор книги: Татьяна Мудрая
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Мудрая Татьяна Алексеевна
Артемидора
АРТЕМИДОРА
I
Как говаривал некто Гильберт Кийт Честертон, когда возвращаются монахи, возвращается и брак. Верно для Британии, верно для всей Большой Земли, верно и для Вертдома. То есть в Верте, в отличие от кое-кого, всегда было в порядке с тем и другим: никаких тебе возвращений из небытия. Напротив.
Монахи вообще были началом начал, поскольку они и обнаружили Остров за Многими Радугами, как пышно величают этот – не остров, не малый континент, а скорее архипелаг, Ибо наткнулись плавучие клирики на крошечный голый островок, кое-как населённый мелким смуглотелым народцем, – и сразу его окрестили и перекрестили, по пути насилу сообразив, кто из аборигенов мужчина, а кто женщина. Путешествовали же монахи на лодке из коры или, возможно, кожи, такой толстой и грубой, что она показалась здешним "морянам" камнем. Тем более что прибывшие тотчас перевернули свой транспорт кверху днищем и обнесли вокруг булыгами, обточенными волной, таким образом от неё отгородившись. И от ветра с ледяными брызгами тоже.
Позже пришлецы основали орден колумбанов, по имени самого славного из своих проповедников, и приняли за обычай при вступлении в иноческий чин брать имя в честь какого-либо растения, чтобы хоть таким образом создать вокруг себя флору.
К тому времени, когда здесь пышно разрослась настоящая флора в придачу с фауной, на материке появилась тьма-тьмущая союзов подобного рода – словно все они вылезли из-под земли, где до того коренились наподобие трюфелей. Насчёт братьев-ассизцев, лекарей и травников, сложили присловье, что они словно любимый ими бурьян: плюнь, и в ассизца попадёшь. Братья-сенбернары, мощные телом и духом, были из рода нелюдимов – появлялись в миру лишь когда приходилось срочно кого-нибудь спасать. Братья-езуиты славились военной дисциплиной, умением легко перенимать и переменять манеру поведения, облики и пол и до крайности ловко вмешивались в политику; оттого прослыли донельзя коварными. Сёстры-юханнитки, как и кларинды, женская ветвь ассизцев, держали свои врата крепко запертыми для другого пола, что, собственно, значило лишь возведение в принцип обычного монастырского устава. А новоиспечённый орден бельгардинок (именно о его возникновении пойдёт речь в нашей повести) был открыт всему свету – настолько сильна была в нём уверенность в своих силах. Если прочие ордена культивировали растения – лекарственные и прочие, – то бельгардинки занимались улучшением пород скота, как безрогого, так и рогатого. Из их стен выходили самые тонкорунные овцы, годные для стрижки, высокоудойные коровы, обильные семенем быки и прекрасные лошади с норовом, находящимся в прямой зависимости от чистоты породы.
Что же до брака, то праотцы-колумбаны всемерно старались укрепить его основы хотя бы в христианском мире, что густо и непонятно перемешался в Верте с исламским.
Теперь опишем, как это выглядело не с духовной стороны (с ней, в общем, понятно, если не касаться сомнительных морян), а с экономической.
У мусульман заключение их брака неизменно сопровождалось выплатой солидного махра, который передавался женихом невесте – из рук в руки – и становился её неотчуждаемой долей, которой она не лишалась в случае развода по желанию мужа, а на условиях чёткого соблюдения моральных норм – и по своему. Собственно, брак, никах, и представлял договор сам по себе.
У христиан невеста приносила с собой приданое, и оно делалось неотделимым от дома, семьи и их бесспорного главы. Жене принадлежали разве что личные вещи и подарки мужа – если она умела их удержать при разъезде. Полного и окончательного развода не было предусмотрено каноническим правом.
Оттого мусульмане подвергались вечному соблазну переметнуться в иную веру и получить жену с хорошим денежным привеском. Награды за переход в христианство, взятый сам по себе, не полагалось – о том шейх-уль ислам всея Скондии с окрестностями договорился с архиепископом Вертдомским задолго до воцарения короля Ортоса Мохнатого. Прозвали владыку так, ибо родился он весь в густой шерсти, которая, как водится, в первые же дни начисто слиняла.
Неприглядной из себя горожаночке Артемидоре удалось купить себе прекрасного мужа из самых родовитых. Корень долог и крепок, на щеках играет здоровый румянец, под золотым волосом ни одной лишней бороздки не завелось, а жить не на что: и не оттого, что майорат, а по той причине, что третий младенец и первый сын у матушки. До того и после одни девицы рождались – отцово имении уцелело, да обглодали дочиста, словно дворовая псина огузок. Ясное дело: какой деве приданое, какой уж там вклад в обитель.
Приданое самой Доры обернулось ухоженным замком с исправными службами, сворой франзонских мраморных гончих, конюшней мощностью в две лошадиных силы и светлицей для детских кроваток. Муж, высокий Эрвинд, был верен и не гульлив. Никаких байстрюков по деревням, одна лишь конкубинка, да и та из дочерей Энунны, а их, храмовых, учат не зачинать почём зря. "Никак у нас в Вертдоме третья вера получается", думала Артемидора всякий раз, когда её супруг отлучался на охоту, а ни своры, ни псаря не брал. Впрочем, себя она никак обделённой не считала: что ни год рождалось по умильному дитяти, и все как на подбор золотые да пышнотелые, что ржаной сноп, а не тощие чернявые подобия самой Доры.
И носила-то она поначалу легко, и рожала без особенных болей, и молока было столько, что кормилицу держали, можно сказать, для одного фасону. Хлопот с послушанием особых тоже не было – одна радость и сладость.
Но ведь известно: за желание иметь детей расплачиваешься всю жизнь и всею жизнью. Душа Доры, и без того не весьма крепко в теле держащаяся, истекала из неё по капле. Тускнел и редел волос, зубы серели и расшатывались, и всё чаще ныла поясница от ходьбы и езды верхом, хоть не на большое расстояние или в удобном седле. Женщина даже в росте поубавилась. Это накатывало после каждых родов, потом вроде отступало, но медленней прежнего.
Сельская повитуха говорила:
– Что хотите, благородная инэни, никакое счастьице не бесплатно. Для своих костей ребёнку нужна материнская кость, для питания – чистые материнские соки. А выделять всякую дрянь ей, пока носит, приходится за двоих – вот потрох и надрывается.
Врач-акушер, которого призвали как-то в помощь бабке, покачал головой и прописал настой чертополоха от почек, шпинат и орехи от станового хребта и костей, а заодно маковое молочко: чтобы спалось глуше. И прибавил к бабкиным словам:
– Вы, госпожа, обменяли плотскую крепость на потомство.
– Думаю, дело того стоило, – кивнула Дора, соглашаясь. Она и в самом деле так считала: зрелая дама на склоне лет может ничего не страшиться, коли рядом с ней её дети. И, разумеется, муж – но муж всё-таки не вечен.
Вертдом – тот же Кархайд, говорил один из почётных гостей с той стороны. Не государство с единой волей, а куча вздорных родственников. Оттого и полноценных войн не бывает: размениваетесь на стычки.
Пример подобного не замедлил случиться. Король Ортос Медведь незадолго до описываемых событий пожелал присовокупить к наследственным землям побережье и прибрежные воды, где становился на якорь кочевой Морской Народ, когда уставал гонять свои плоты по открытому морю. Сам король счёл последовавшие за тем события войной, моряне и их новый вождь, законный сын и наследник короля, Моргэйн – поводом для государственного переворота. В результате Ортос пал от сыновней руки перед строем войск, Моргэйна казнили за отцеубийство (что с самого начала было своего рода добровольной жертвой с его стороны), а вдова принца и мать его будущего сына, крутая нравом Марион Эстрелья, учинила розыск подстрекателей и лжепатриотов, кои натолкнули короля на мысль, ставшую для него самоубийственной.
Короче, стало ясно, что недалёкий и добродушный с виду Эрвинд посещал любовницу через раз, а в остальные разы охотился на самом деле. Вернее, готовился к королевской охоте. Имелось в виду – на короля Ортоса. То бишь примкнул к своре гончих, которые прикидывали завалить сразу медведя и медвежье отродье, а на трон посадить верного человека.
В изложении доброхотов, которые навестили будущую вдову после ареста мужа, все эти обстоятельства казались до крайности запутанными. Те, кто явился с ордером, и другие, с резолюцией, несущей на себе факсимиле королевы-матери, объяснять и вовсе не стремились. Одно поняла бедная Дора: в прежние времена за цареубийство, хотя и косвенное, мужа бы распялили на косом кресте, как лягушку, и выпотрошили, а теперь только голову отрубят и заберут движимый скарб в государственную казну. Ибо опустела она как раз по вине таких, как Эрвинд. А недвижимое имущество разберут по камешку и присыплют получившуюся плешь крупной солью.
– О Господи, а невинные дети как же? – невольно воскликнула Артемидора, когда до неё дошла суть дела.
– Детей тоже можно взять на казённый кошт, – один из чиновников, говоря это, ухмыльнулся, и от этого женщина вообразила себе нечто уж совсем гнусное.
– Не отдам, – твёрдо ответила она. – В них вся моя жизнь до капли.
– Оно и видно, – чиновник снова изобразил ухмылку.
Дора хотела было съязвить в ответ, что как можно судить не видя. Но тотчас сообразила, что имеют в виду её саму.
– Как нам сказали, восьмеро детишек, трое мальчиков и пять девочек, младшей и полутора лет не исполнилось, – добавил другой, по виду более сострадательный. – И на них нету вины, и вы, госпожа, невинны. Но у вас нет выделенной доли, которую запретно конфисковать. Как справляться будете? Мы ведь правду советуем.
Из этого рассуждения и лёгкой грамматической неправильности оборотов речи женщина рассудила, что он мусульманин – бывший или настоящий.
Замок начал разрушаться задолго до того, как пошатнули в нём первый камень (а сделать это полагалось не раньше, чем остатки семьи хоть как-то справятся со своей скорбью). Ушли, не потребовав никакого расчёта, слуги. Главный псарь заявил, что кормить свору согласен, если она достанется ему даром, – а то ведь мяса не напасёшься, хоть удавку на псин надевай. Мерин и кобыла достались королевскому двору, бывшая владелица надеялась, что хотя бы не зачислили в войско. Кормилица "поскрёбышка" заявила, что вырастила бы деточку вместе с её молочным братцем, но чтобы матери и близко не появлялось. А то дурная слава к ним прицепится – мало нам детской "трясци", что вволю гуляет каждую весну. Ей пришлось пойти навстречу: молоко в грудях у самой матери не высохло, но стало горьким. Остальных детей на время сумятицы охотно разобрали по рукам Эрвиндовы дядья и сёстры. Малые детки – большие бедки, большие ребята – к любой дыре заплата.
Так что на публичную казнь местных заговорщиков Артемидора приплелась одна и пешком, сама дивясь, как достало сил. По пути она неоднократно укоряла себя, что ввязалась в путешествие; но ведь надо было кому-то проститься с беднягой, несмотря на то, что он подставил под удар всех, кого только смог.
На её счастье, стольный город Ромалин, где долженствовало происходить торжество закона, простирался всего в двух днях ходьбы от их с мужем обиталища. Время стояло сухое и душное – самое начало осени. Оттого Доре пришлось поневоле вспомнить отрочество, когда отец брал её с собой скупать чёсаную шерсть по дворам. Для экономии средств, уже тогда немалых, они одевались попроще и ложились ночевать прямо в копну сена, если погоды стояли светлые и безоблачные; сеном же и накрывались поверх одежды. Худых людей можно было почти не бояться – странники охранялись правом и обычаем, в отличие от обитающих за стенами, ибо все люди – чужаки и иноземцы в этом мире, а исполнение всеобщего закона оберегает.
"Делать то, что в юности, означает становиться юной, хотя времени на это тратишь побольше", – сказала себе Дора, просыпаясь раньше, чем взошло солнце, и выдёргивая солому из растрепанных после сна волос, прежде чем спрятать их назад под старый платок. Для двуногой торбы, набитой золотом и зародышами, это было почти гениальное рассуждение.
Возвышайся вокруг Ромалина крепостная стена, все её ворота стояли бы этим утром нараспашку, а стражники на заставах не брали бы никакой пошлины. В торжественные дни, подобные грядущему, порядок сам себя охраняет: сообщникам неинтересно отбивать осуждённых и волочить потом через кучу малу протестующего народа, ворам легко срезать кошельки и потрошить карманы, оттого они не утруждаются грабежом, а площадь вокруг эшафота забивается народом ещё с полуночи.
"Вот и хорошо, что их много, я недалече постою", – сказала себе Дора, завидев густую толпу, которая колыхалась, словно ржаное поле под ветром. Вслух она говорила поблагородней, чтобы муж не ругал и детки не перенимали. Но уже на подходе её стиснули с боков и с тылу, а поскольку она считала неучтивым работать локтями, чистя себе путь справа и слева, то невольно изобразила собой гладкую вишнёвую косточку, которой мальчишка стреляет, сплюснув между большим и указательным пальцами.
Так и вышло, что плюнуло ею прямо в высокий помост, где в ожидании события воссела знать. Не достигая шагов пяти – как раз там стояла живая цепь оружных морян.
В прорехи живой цепи, состоящей из исчерна-смуглых тел, рубах небелёного полотна, широких кожаных поясов и ожерелий, Артемидора отчётливо видела лица. Узнавала: там были отцы семейств, где Эрвинда принимали с охотой, её саму – слегка покривясь. Чай, грехи нынче отмаливали. Городской глава с супругой, судя по осанке – в лучших своих одеждах. "Как только кровью забрызгать не боятся", – подумала женщина без обиняков и сама подивилась такой своей смелости. Хотя исполнитель ведь должен работать не прямо здесь, а напротив: так всегда устраивают. По слухам, на самые большие казни соизволяют прибыть королева с королёнком, хоть тому и пяти ещё не исполнилось. Но их вроде как нет, хотя вон та троица персон держится куда как серьёзно: милая лицом дама в чём-то светлом и алмазном, рыжекудрое дитя в золотом и красном – ну нет, на короля не тянет, больно шаловливо, его так и позывает извернуться. И высокий ростом господин, что вот сейчас поднялся из кресел: стальные волосы, бронзовая кожа, серебряные глаза под серебряными бровями.
Сьёр Хельмут Торригаль – "во плоти живая сталь", оберегатель королевского чрева и младенца Кьяртана Первого. Ныне – верховный конюший.
Про него в своё время говорили немало странного и ещё больше страшного...
Дора не додумала мысли, потому что на помост – на эшафот! – начала подниматься вереница тех. Со связанными за спиной руками и скованных по поясу одной цепью.
Поднялись. Вытянулись по краю шеренгой.
А дальше пошло то самое. Страшное.
Торригаль выпрямился ещё больше и скинул с плеч мантию. Кажется, под ней он был совсем нагим – или это лишь почудилось, ибо его вмиг одело некое мерцание, будто купол из металла, раскатанного на валках до полупрозрачности. "Святой Езу Нохри, это и впрямь снова он! – ахнула женщина. – Живой палаческий меч..."
Клинок почти двухметрового роста поднялся ввысь, двигаясь вместе со своей аурой, повернулся почти горизонтально помосту. И двинулся.
С лязгом упало первое звено цепи. Второе. Третье. Только мелкий прах и тёмные брызги на досках позади. Очень быстро.
Артемидора стояла как заворожённая. Потом она вспоминала, что совсем не чувствовала страха, только – что звено за звеном спадали незримые кандалы, и это было почти не больно. "Эрв – последний", – сказала она себе уже совсем без чувств.
И вдруг прихлынуло – жаркое, алое. Будто с ног до головы оплеснули валом свежей крови, в которой растворено солнце. От неизмеримого наслаждения, которое уже нельзя было вынести, она очнулась, ахнула – и без чувств упала на тех, кто подпирал её сзади.
А когда подняла голову с чего-то неожиданно мягкого – площадь была та же, но без единой души. Если у тех троих, что окружили беспамятную, была душа.
Дама-беляна, видимо, как раз и подложила Артемидоре под голову свой свёрнутый плащ и теперь хлопотала вокруг, то и дело отпихивая локтем назойливого мальчишку, – да, Торригалева сынка, не иначе! Батюшкина копия во всём, кроме волос. Благородный Хельмут стоял в стороне – кожа отливала уже не в бронзу, а в ту же красную медь. Женщина внезапно припомнила, что лет пятнадцать назад, когда она была совсем девчонкой, непослушных ребятишек пугали мертвенно-бледной кожей "королевского призрака".
– Я что – теперь как вы? – пробормотала она.
Мальчишка – Бьярни его кличут, вспомнилось ей, Бьёрнстерн Хельмутсон, – рассмеялся:
– Оттого, что на алое запала? Да нет, многовато тебе чести. Батюшка ловок: без боли, без тревог – и враз на Елисейских полях оказываетесь. Я-то не имею навыка – едва от мамочкиной груди отлип. Ты как Бельгарда, одна разница: она принцесса, а ты святая простота.
– Принцесса, тоже мне, – тихонько засмеялась беляна. – Нынешняя королева-мать родилась от первой королевской жены, с которой он подзабыл развестись. Я от второй, парадной, да к тому же не от самого Орта-Медведя: от любимого пажа, что дорос до фаворита и водителя военных кораблей.
– Классика жанра, – хихикнул мальчишка. – Имею в виду – комедии положений. Королева играла в тесном замке Шопена, и под звуки Шопена погубил её паж. Виноват в одном – казнили за другое, как царь Пётр Вилима Монса: опять же классика.
– Ты можешь язвить, – серьёзно ответила девушка. – А за Фрейра-Солнышко я твоему отцу очень благодарна, что и при жизни дружил, и в миг смерти отпустил легко. Один словно пёрышком коснулся – другой как пёрышко отлетел. И судьбе моей благодарна, что во мне светлая кровь, а не дикая, медвежья. И бракокрадством такую матушкину любовь не считаю. Они же с Ортосом нечаянными братом и сестрой оказались: куда уж хуже.
Артемидора подумала было, что уж очень длинно Бельгарда отвечает для чистой и радостной, да бросила такие дела. Своя незадача чужой ближе.
– Отчего тогда – это всё? – спросила она. – Лежу, а в то же время как на широких крыльях летаю.
– Порвались узы, – Бьярни кивнул, как бы утверждаясь в своей правоте. – В тебя вкладывали детишек, каждый из них прилеплялся к тебе и прикреплял тебя к семейному источнику, словно пупочным канатом. Только от такой связи иные кормятся, иные кормят до упаду. Ты кормила.
"Дура я, – подумала женщина. – В обмирании голова кружится, рук-ног не чувствуешь, вот и мерещится, а я туда же – разлеталась. И выдаю тайное кому ни попадя, а они, наверно, зубоскалят исподтишка. Как же можно деток не кормить, коли уж появились".
И снова ухнула в тёмную яму: то ли от сугубого смущения, то ли от ушата жутковатых откровений, что на неё обрушили.
II
Очнулась Дора во второй раз в комнате, до того светлой и чистой, что сразу было понятно: Бельгардина. Особой роскоши незаметно, уж не лучше, чем дома (да какое – дома!) у самой Доры. Только на сводах ни паутинки, на полу ни соринки, тростниковые маты-плетёнки не далее как час назад вытряхнуты, а свежи до того – текучей речной водой от них пахнет. Говорят, чистота – единственная роскошь бедняка, Дора бы со своего горького опыта добавила: бездетного. И животных тут быть не должно, как ты их ни люби: все одно что запустить паразита под кожу.
Подняла голову с подушки: рядом зашевелились. Ох, и верно – она самая: сидит без венца и покрывала, волосы белокурые по плечам распущены.
– Очнулась, красавица моя?
– Это ты красавица, – ответила Дора с неожиданной для себя смелостью. – Верно, вся в батюшку пошла. Не чета мне, чёрной кости.
Вспомнила ещё своё девчонское: огневое золото под головным обручем, чёрные одежды – королева Бахира, в крещении Библис. Ибо не скрывает горя: до того смела. Ибо стоит у шеста напоказ, как соромная Дочь богини Энунны на площади. Поговаривают, что и взял её король Орт прямо с языческого праздника весны, что празднуют всем Скондом, думая, что берёт принцессу чужой страны, а на деле оказалось – дочь ихнего выборного амира и жрицу-недоучку.
А с верху шеста падает на чёрные плечи чёрная же кровь, каплет с обрубка шеи, с кончиков кудрей цветом в белое золото. Господина Фрейра голова на шест насажена: ибо не принял морского боя с людьми солёной воды, пожалел флот, струсил их мелких пушчонок, что жидким огнём плюются.
И говорили, что то неправда. Или наполовину правда.
Только всего Бельгарде не расскажешь.
А вот о другом спросить-рассказать можно.
– Какой кофе душистый, – говорит Дора, прихлёбывая из чашки. Ноги с постели свесила, одеяльце на плечах.
– Матушка научила, – отвечает Бела. Они вмиг стали накоротке: распитие кофе из одного кофейника – дело чисто семейное.
– Ты меня молодше, а только я, видать, дурнее. Совета прошу. Ничего, что я по-простому? По-благородному умела, да вмиг соскочило.
– Умеешь, только выламываться тебе нынче вредно. Мы, женщины, всегда такое в себе чувствуем, а вот мужчины – нет. Ни о себе, ни о нас. Вот и сами рвут жилы, и нас понуждают через силу работать.
– Так и я о том. Вроде бы горе великое, сама вдовой стала и детей, считай, от меня отлучили напрочь. Я ведь взгляды родичей на себе чуяла – добром ребятишек матери не отдадут. Как говорят – где двое, там и семь, где семь – там и долгая дюжина. А с меня точно лихое бремя скатилось. Почему бы это?
– Полного ответа ты сейчас не примешь. А вот помнишь, что Хельмутов Бьярни сболтнул? Иные кормятся: это по большей части мужчины. Иные кормят: то женская судьба. Пока дитя внутри – кровью, родится – молоком, от груди отнимется – телесной теплотой. И всю жизнь – душою своей. А душа и плоть по вере едины.
– Но почему у меня так резко? У других такого не замечается.
– Вот об этом и впрямь после.
Поправлялась Дора всего-ничего. Уставшим своим нутром почуяла не так доброту, как "всамделишность", неподдельность той, что её приютила. Словно и муж-покойник, и дети от него, и толпа родичей – все были тяжким дурманным сном, а вот теперь Дора проснулась на той стороне, на какой нужно.
Как-то незаметно обе женщины стали задушевными подругами. И не печалило Дору то, что хозяйство и в самом деле было бедновато. Денег хватало на свежий хлеб с молоком, утренний кофе и кусок пахучего ядрового мыла в день: запасали, сушили и стружили, оттирали всё вокруг себя до блеска. Служанка была всего одна, и то приходящая: для самых грубых работ.
– С чего такая нужда? – с неким стыдом спросила гостья хозяйку.
– Мне хватает и ещё на тебя остаётся: работать пока нет надобности. Какая это нужда? – отвечала Бельгарда.
– Уж никак не королевский обиход.
– Так и я королевна лишь по благорасположению высоких. Ма Библис как меня подрастила и скопила приданое, так и отошла в свой Сконд: не держать же взрослую дочь у юбки на привязи. Королева, королёнок и стальные королевские няньки меня любят, но казна ведь, как водится, пуста после минувшего правления. Пушками вместо масла не накормишь. Оттого мне и просить стыдно. О-о. Слышала, я думаю, что наша милая Марион Эстрелья продавала зрелище своего разрешения от бремени? Посреди главной площади, в разгар зимы, в кровати-шатре; а входная плата пошла малютке Кьяртану на пелёнки. Само по себе это обычай, и почётный: все видят, что наследника не подменили, а раз о таком тревожатся – значит, он по умолчанию законный плод.
– Ох, ну и ужас.
– Пошло с древней королевы Констанции: никто не верил, что она зачала после долгого бесплодия и сама родит, а не подложат ей мужнина бастарда.
– Но это такая мерзость, если смотреть со стороны, – роды.
– Святой Августин говорил: "Inter faeces et urinam nascimur", "Между калом и мочой рождаемся". Так что освящено авторитетом.
– И орёшь; на худой конец, стонешь, сопишь и потеешь. Ой, я в первый раз поганую дырку пелёнкой затыкала – стыдилась, что от потуг из меня дерьмо прёт.
Сказала – и застеснялась: засмеёт подруга. Но Бельгарда осталась серьёзной.
– Как думаешь, правильное дело, дело, чреватое жизнью, должно быть таким некрасивым и доставлять мучения? – суховато сказала она. – Даже раненный в бою, с выпущенными кишками; даже умирающий от кровавого поноса, даже распятый на колесе – и то мало сопоставимы со зрелищем, представляемым родами. А первые три ведь дела погибельные. Более того: в самой тяжкой казни палач по мере возможности щадит достоинство преступника, а кто сделает это с роженицей? И природа измывается, и люди подчас на то горазды. Выходит, дело жизни по сути своей ущербней дел смерти?
– А почему ты спрашиваешь?
– Думаю, ты уже дозрела. Вот, смотри: из того Рутена, что за туманом и радугами, откуда к нам пришли слова святого и весть о королеве Римской империи, один наш негоциант привёз верные картины. Так называемые фотоснимки – в Вертдоме ведь до сих пор живописной иллюминацией обходятся.
Бельгарда положила на столешницу футляр с цветными гравюрами...
– Альбом фотографий, у богатых бывают такие – с иноземельными пейзажами. Только здесь снимающий аппаратик заправляли внутрь.
В самом начале – две слитых кругляшки, как бы медь с прозеленью. Катится по туннелю круглая штука, от раза к разу всё больше пузырится – кладка саранчи. Странная, на вид поддетая слизью загогулина – рыбка барабулька, медуза, раскисшая на солнце. Затем идёт тощее тельце словно бы ящерки со вздутым животом, торчащей хребтиной и пузырем вместо раздавленной головки. На следующих рисунках (нет, не рисунках, это световой отпечаток на чувствительной бумаге, поправила себя Артемидора) пузырь растёт, в середине появляется тёмная клякса, тело распухает, как в водянке, и от него явственно отделяются куцые растопыренные лапки. Извитая кишка тянется от середины живота к стенке. Всё на неприятно багровом фоне.
На следующей серии картинок Артемидору осенило:
– Оно палец сосёт. Ох, это же младенец. Он только сейчас формируется, и лицо такое мерзкое – лоб молотком навис, а ещё ухмылка эта. И это мы все в себе носим?
– Конечно. А ты думала – он сначала маленький, в половину ладошки, но проработанный до мельчайших деталей, а потом только увеличивается в размерах? И можно без помех на него умиляться? Мы, повитухи, матери выкидыш не показываем, откуда вам-то знать?
Это было верно, хотя совсем наоборот: Артемидора с чего-то представляла себе, что несмотря на эти толчки ручками-ножками, плод – бесформенный сгусток мяса, который обретает форму, лишь переступив грань между своим укрытием и миром.
– Ты принимала роды?
– Не совсем: помогала. Не только, понимаешь, стояла рядом и ахала от ужаса. И ходила в няньках. Знаешь, что скажу? Дети, особенно грудные, – не беззащитны. Они умеют возбуждать симпатию – и пахнут так, чтобы действовало на мозги, особенно бестолковые. Вот ты ведь испытывала родовые муки? Это первая привязка. Боль – а потом, по разрешении – блаженство, как после удачной исповеди. Называется "эндорфиновый кайф", точный смысл потом разъясню. Опять же вид трогательный, родовую память пробуждает – древние архетипы. И через такой покров не пробиться ужасной истине.
Дора выслушала, захлопнула альбом и без особой логики, но твёрдо сказала:
– Никогда больше не пойду замуж.
– Вот и я тоже, – кивнула Бельгарда и улыбнулась. – Только я там и не бывала. С самого раннего детства хотела в монашки идти.
– И на монастырский взнос у тебя, верно, есть?
– Нет: успела растратить приданое. Кругом беда, понимаешь.
– И у меня тоже. И скарба нет, и беда кругом, – ляпнула Артемидора невпопад и задумалась: зачем она себя-то приплела? Холостяковать и без монастыря можно. Хотя вон как муж говорил: единственная надёжная защита честной женщине – стены. "И уточнял, – трезвея, добавила она. – Что для женщины главная честь, если есть с нею рядом мужчина. А где муж – там снова законные и желанные детки. И расплачивайся потом за свою безудержную страсть и хоть всю жизнь".
Как она уже решила, восемь было для неё достаточно круглым числом.
– Нет такой беды, чтобы на себе самой крест ставить, – отозвалась Бельгарда, и Дора подивилась: до чего реплика попала в струю.
– Может быть, и нет, – сказала она. Только жить мне не на что, призрение – то же, что презрение: стыдно добиваться. А сидеть на широком крыльце или идти по широкой дороге – сил у меня не хватит.
"И тем паче – набираться сил за твой счёт, – додумала Дора внутри себя чёткими словами. – Ты ведь и мне самой никогда не скажешь, что я в тягость, и убийцу Эрвинда не раз попросишь занять тебе денег – уже просила, похоже".
Хотя нет, нимало не убийцу, поправилась она тот же час больше чувством, чем внутренней речью, – доброго проводника на тот свет. Только вот Бельгарде можно сьёра Хельма просить, почти что родственница, самой же Доре – стыдно.
– Иноческий уклад – не по тебе, – отвечала в это время Бельгарда. – Но ведь и не по мне пока: монашеству тоже надобно учиться. Я всё думаю: а если в конверсы, иными словами, лаборанты, попроситься? Это ведь как договор сроком лет до десяти, жалованья не положено, зато кормят и дают остальное для жизни. Выйдешь на волю – сможешь решить насчёт себя с полным разумением.
– Это ведь рабство, почти как у дикарей, – возразила Дора и подумала: откуда она знает про дикарей и рабов, если в Верте их нет и, можно сказать, не было? Не бродяжников-морян ведь имела она в виду?
– Рабство – это когда от начала до самой смерти, – задумчиво сказала Бельгарда куда-то в воздух.
"Церковный брак, например", – прибавила Дора про себя, а вслух спросила подругу:
– Выйти до срока из этой работы можно?
– Можно, ну а как же. Если нерадива будешь в ремесле или учении – выгонят с позором и более не пустят на порог.
Такая перспектива сильно Доре не понравилась и в то же время вогнала, так сказать, в азарт. Ей захотелось доказать, что она-то уж наверняка окажется достойна того, чтобы её оставить, – в рабстве ли, в учении – без разницы. Что сил у неё для преуспеяния маловато, ей на ум не пришло.
– А чем бы ты сама, Бель, хотела бы заняться в этом лаборантстве? – спросила она.
– Знаешь, от братьев-ассизцев, можно сказать, на днях отделилась малая ветвь: женский орден кларинд. Самим братьям надоело надзирать над мирской обителью сестёр, вот так оно и вышло. Ты, может быть, слыхала, чем занимаются ассизцы? Не просто выращиванием лечебных трав и составлением снадобий. Они пытаются приручить растения таким образом, чтобы выращенные на грядах были не менее жизнестойки, чем дикие прототипы, но в то же время не выламывались из общей природной гармонии; а пользы человеку от них было бы больше, чем от диких. Уже давно кто-то из ассизцев открыл наследственное вещество, которое в Рутене именуют "хромосомы" и "геном"; и теперь монахи пробуют на него влиять, и не без успеха. Так вот. Я бы хотела попробовать похожее с живыми существами. Правда, сёстры-кларинды пока рискуют лишь повторять достижения братьев.