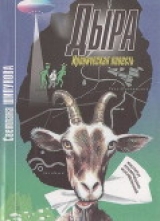
Текст книги "Дыра"
Автор книги: Светлана Шипунова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 8 страниц)
Светлана Шипунова
ДЫРА
Ироническая повесть
– Золотая рыбка!
Хочу, чтобы у меня все было! – А у тебя все было…
Русский анекдот конца XX века
ГЛАВА ПЕРВАЯ,
в которой выясняется истинный возраст Иисуса Христа
В пятом часу утра на берегу речки Пропащенки сидели в неподвижных позах два мужика с удочками, в одинаковых брезентовых куртках, резиновых сапогах и черных вязаных шапках, натянутых до самых глаз. В воде неподвижно стояли поплавки, не обещая мужикам ничего хорошего.
– Я так думаю, – сказал негромко один из рыбаков, – что двадцать первый век начнется все-таки не с двухтысячного года, а с две тыщи первого.
Второй никак не отреагировал на это умозаключение, только поежился. Был конец сентября, и по утрам у реки стоял холодный, сырой туман.
– С чего это ты взял? – спросил он минут через пять.
– Посчитал, – коротко отозвался первый и опять надолго замолчал.
Спустя некоторое время поплавок у него чуть дрогнул, мужик осторожно повел удочку на себя и, не почувствовав признаков рыбы, вернул ее в прежнее положение.
– В веке сколько полных лет должно быть?
Сто? – спросил он, не глядя на своего товарища и рассуждая как бы сам с собой.
– Ну, сто.
– Вот и считай. Сейчас идет 99-й, а следующий за ним – сотый, то есть в нашем случае – 2000-й. Значит, что получается? Что 2000 год – это есть последний год нашего двадцатого столетия. И не новый век с него начинается, а совсем наоборот – старый век им заканчивается! А вот следующий за ним – это да, это уже будет, как положено, первый год нового столетия – 2001-й! Все просто, Коля! Первый – он и есть первый. Понял?
Некоторое время Коля смотрит на поплавок, молчит и соображает.
– Ты, Санёк, неправильно считаешь, – говорит он, что-то надумав.
– Я неправильно? Ну сам посчитай: первый, второй, третий… девяносто девятый… Дальше – какой?
– Не первый-второй, а девятьсот первый, девятьсот второй… Так? А девятисотый ты куда дел? Одна тыща девятисотый? Был такой год?
– Ну был, – нехотя отвечает Санёк.
– Вот он и был первый, а девятьсот первый это уже на самом деле второй.
На берегу становится тихо, будто и нет никого. Коля косит глазом на товарища, ждет, что он скажет.
– Ха! – говорит через некоторое время Санёк. – Так мы ж девятисотый не засчитываем!
– Как это не засчитываем?
– А так, что это был последний, сотый год того-о еще, девятнадцатого века, а наш, двадцатый век начался, как и положено, с 1901-го! – Торжествующая улыбка появляется на небритом лице Санька.
– Ни хрена! – мотает головой Коля, которого этот разговор начинает понемногу захватывать. – Я точно знаю, что двадцатый век начали считать с 1900 года.
– Откуда это ты точно знаешь? Ты там был, что ли?
– Зачем я? Дед мой Костя. Он же как раз с 1900 года, рождения.
– Ну и что из этого? У меня бабка вообще была с тыща восемьсот девяносто какого-то…
Но Колю уже не собьешь. Он осторожно перекладывает удочку из правой руки в левую, нашаривает в лежащей на земле пачке сигарету, ловко, одной рукой раскуривает, после чего, не спеша, обстоятельно продолжает:
– Дед Костя, к твоему сведению, родился как раз в ночь с 31 декабря 1899-го на 1 января 1900 года, из-за этого его даже не знали сначала, каким годом записать, но потом все-таки записали 1900-м, и батюшка в церкви сказал: «Первый младенец нашего прихода, крещенный в новом веке». Дед мне сам рассказывал.
Санёк тоже достает сигарету, но раскурить одной рукой у него не получается, и он тихо злится.
– Значит, ошибся батюшка. Год-то он ему, может, и правильно записал, а века он девятнадцатого должен считаться, а не двадцатого.
– Ну кто лучше знает, какого он века, – ты или дед Костя? Про него даже в газете сколько раз писали: «Ровесник века».
– Мало ли что в газете! Там и не такую брехню напишут, – Саньку наконец удается закурить. – То дед, а то – летоисчисление. Разные вещи.
Коля открывает рот, чтобы возразить, но не сразу соображает, как. Некоторое время он так и сидит с открытым ртом, вдыхая и выдыхая прохладный речной воздух, пока новая мысль не осеняет его.
– А летоисчисление у нас от чего ведется? Случайно не от Рождества Христова?
– Ну, допустим, – почему-то встревожившись, соглашается Санёк.
– А Иисус Христос у нас сначала был кто – человек?
Впервые за все время разговора Санёк поворачивает голову и с интересом смотрит на товарища.
– Ну, допустим.
– Ты согласен, что сейчас идет 1999 год от его рождения? – напирает Коля.
– Не возражаю. И что это доказывает?
– Все! Все доказывает. Вот смотри. Деду моему Косте…
– Ну ты достал со своим дедом!
– Нет, ты послушай! Деду моему Косте 1 января 2000 года исполнится ровно сто лет. Если, конечно, доживет.
– Доживет, куда он денется.
– А после 1 января ему какой год пойдет? Сто первый! Понял? Полных сто, а идет-то сто первый! Теперь возьмем Иисуса нашего Христа. Если бы он тоже дожил до 2000 года, ему бы сколько исполнилось? Две тыщи лет. И пошел бы две тыщи первый!
И снова на берегу воцаряется молчание, и кажется, что слышно, как в глубине реки проплывает рыба.
– Ерунда какая-то получается, – говорит наконец Санёк. – По-твоему выходит, на календаре – 2000 год, а в действительности уже 2001-й?
– Выходит, что так.
Санёк напряженно думает, даже губами беззвучно шевелит, будто подсчитывает про себя возраст то ли Христа, то ли Колиного деда. Вдруг он хлопает себя по лбу:
– Понял! Я понял, в чем твоя ошибка!
– Тихо ты, рыбу распугаешь!
– Да какая к черту рыба, на этом месте сроду рыба не ловилась, говорил тебе, надо было на старое место идти. Слушай внимательно. Когда рождается простой человек, вроде твоего деда или хоть нас с тобой, то ему, конечно, не сразу год исполняется, ему сначала месяц, потом два, потом полгода, так? Значит, что получается по арифметике Пупкина? Что у простого человека в начале жизни есть как бы нулевой год, а только после этого – год, два и так далее. Понимаешь, что говорю?
– Не дурак.
– Вот! А у Иисуса Христа никакого нулевого года не было!
– Почему это не было? Он что, сразу годовалым родился, что ли?
– Он родился, как положено, – младенцем, но этот год никто не засчитывал за нулевой.
– Ага, забыли засчитать.
– Не забыли, а просто не может в летоисчислении быть никакого нулевого года! Ты про него когда-нибудь слыхал вообще? И я не слыхал. Значит, его и не было. Просто тот год, когда он родился, засчитали потом, задним числом за первый год нашей эры. А перед ним был первый год ДО нашей эры. И никакого промежутка между ними не было! Значит, двухтысячный он и есть двухтысячный, последний в этом тысячелетии.
Вообще-то крыть больше нечем, но Коля хочет, чтобы последнее слово осталось все-таки за ним.
– А вот увидишь: никто эту математику разводить не станет, а как только в календаре выскочит двоечка, так люди и начнут отсчитывать новый век. Спорим на литр?
– Все может быть, – неожиданно соглашается Санёк. – Но лично я бы не спешил. Куда спешить-то? Так целый год в запасе, а так…
Они бы еще спорили, но тут произошло событие, заставившее их ненадолго отвлечься. Откуда-то сверху послышался вдруг быстро нарастающий шум, за спиной у них встрепенулся, как от сильного ветра, лес, река пошла густой рябью, а их самих чуть не сдуло с берега в воду. Мужики побросали удочки, вскочили на ноги и, задрав вверх головы, стали смотреть в небо. Темным пятном на фоне встающего рассвета на них надвигалось что-то большое, круглое и плоское. Над лесом оно зависло, покачалось и, мигнув огнями, стало снижаться.
– На Муравьиную поляну садится, – предположил Коля. – Медом им там помазано, что ли?
Рыбаки еще немного постояли, раздумывая, лезть им наверх по склону или не стоит.
– Да ну их! – сказал Санёк. – А то сегодня без рыбы останемся.
Они вернулись к своим удочкам и очень вовремя: рыба – то ли из-за поднятой поперек реки волны, то ли с перепугу – косяком пошла к берегу.
ГЛАВА ВТОРАЯ,
в которой некто неизвестный сваливается с неба на землю
«Летающий объект» опустился над Муравьиной поляной совсем низко, но земли не коснулся, а только выбросил вниз похожую на веревочную лесенку, по которой скатились на землю два темных и узких, почти бестелесных силуэта. За собой они волокли кого-то третьего, на вид более широкого и плотного. С размаху бросив его на землю, лицом в мокрый от росы мох, они быстро исчезли в чреве летательного аппарата, словно их пылесосом туда всосало. Аппарат качнулся, зажужжал и легко взвился над лесом, пару минут еще видны были слабо мерцающие огоньки, но потом и они исчезли. В лесу стало тихо и почти светло, был седьмой час утра.
Некоторое время выброшенный из летательного аппарата лежал, не шевелясь и даже не открывая глаз. Но вскоре длинный нос его, успевший отвыкнуть от всяких ощущений, сам собой дернулся, потянул сырой запах мха и сразу же сильно и часто засопел, отчего нечаянно вдохнул мирно спавшую во мху букашку и тут же громко, с удовольствием чихнул. Вслед за этим несчастный выпростал вперед руку и стал шарить ею вокруг себя, как шарят слепые, наткнулся на пень и долго, словно не веря собственным ощущениям, его оглаживал. И только после этого решился открыть один глаз и стал бешено врашать им, силясь углядеть как можно больше, пока наваждение не кончилось. Наваждение, однако, не кончалось – он действительно лежал лицом вниз на лесной поляне, ранним утром, в тишине, среди забытых земных запахов, и вычихнутый им муравей полз у него по руке.
Тогда выброшенный из аппарата стал неуверенно подниматься – сначала на четвереньки, потом на корточки, потом распрямил коротковатые ноги и встал, тревожно озираясь по сторонам. Лес был совсем редкий и уже пожухлый, где-то невдалеке, внизу, проглядывала то ли река, то ли дорога, спуститься к которой не стоило труда – несколько хорошо протоптанных тропинок лежали прямо перед ним. Он старательно отряхнул с себя травинки, потом задрал голову и внимательно посмотрел в небо. Но ничего такого в нем не заметил, небо было нежно-розовое, высокое и совершенно чистое. Тогда он вздохнул глубоко, свободно, так, что даже голова закружилась, и неуверенно шагнул на одну из тропок.
В эту минуту из-за кустов вышла и стала поперек тропинки худая серая коза с веревкой на шее, он проследил взглядом за веревкой и обнаружил стоящую в кустах и с интересом наблюдающую за ним женщину. Как потом выяснилось, женщина эта давно тут стояла и видела все – как прилетела «тарелочка», как из нее выбросили кого-то и как этот кто-то сначала лежал совершенно без признаков жизни, так что она решила про себя: «мертвец», а потом вдруг зашевелился, встал и пошел прямо на нее.
Женщину звали Люба, а козу – Машка. Они были здешние жительницы, жили на самой окраине, в пятиэтажке, которой заканчивалась черта города, а дальше начинался лес. Машка была Любина кормилица, за что Люба относилась к ней с благодарностью и бережно, выводила погулять и попастись с утра пораньше, пока на Большой Свалке, мимо которой им приходилось идти, не появлялись бывшие домашние, но давно одичавшие собаки. С ними у козы были сложные отношения, она считала их дармоедами и норовила боднуть, а те в свою очередь злобно скалились и огрызались, мечтая когда-нибудь встретить эту козу одну, без хозяйки, и разобраться с ней как следует.
Летающих «тарелок» женщина Люба совсем не боялась: во-первых, она кое-что в них смыслила, а во-вторых, в последнее время они летали здесь так часто, что местные жители перестали обращать на них внимание, словно это были вороны или галки. Даже старое их название – НЛО – как-то стерлось, забылось, теперь их называли просто «эти».
– Что-то «эти» опять разлетались, видать, зима холодная будет, – говорили, глядя в небо, местные жители.
Но Люба никогда еще не видела, чтобы «эти» выбрасывали кого-нибудь на землю. В первый момент она подумала, что они выбросили-своего, но потом, приглядевшись, поняла, что на земле лежит ничком обыкновенный человек с головой, руками и ногами. Когда же он встал и двинулся прямо на нее, она увидела, что роста он среднего, возраста непонятного, сильно, видать, исхудавший, так как приличный когда-то костюм висел на нем обветшалым мешком, а из-под него выглядывали несвежая сорочка и такой пожамканный галстук, что можно было подумать, будто им подпоясывались или пытались на нем повеситься. Голова у человека была очень круглая, с большими залысинами. Щеки его, прежде, вероятно, пухлые, заросли темно-рыжей щетиной, которую он то и дело ощупывал. Словом, выглядел человек преотвратительно. Любу, однако, это совсем не напугало, даже наоборот, внутри у нее шевельнулось какое-то забытое чувство, может, жалость, и она постаралась как можно приветливее улыбнуться незнакомцу.
Что касается выброшенного, то, заметив на своем пути козу и женщину, он поначалу растерялся, так как поотвык видеть женщин и домашних животных, и уставился на них с тревогой, готовый, кажется, в любой момент пуститься наутек. Женщина была невысокая и худая, как коза. Она и одета была в длинную юбку из грубой, козьего цвета шерсти и такую же длинную кофту, висевшую на ней балахоном, на голове ее был низко повязан шерстяной платок, чуть светлее кофты, из-под которого торчал острый нос и темнели живые глаза. Из-за этого платка, скрывавшего лоб и волосы, возраст женщины определить было затруднительно, ей могло быть и тридцать, и тридцать пять, и все сорок. Несколько минут незнакомец затравленно смотрел то на женщину, то на козу и молчал.
– Здрасьте, – просто сказала Люба, словно это был ее сосед по лестничной клетке.
Незнакомец вымучил на своем лице довольно искусственную улыбку, которая кого-то смутно Любе напомнила, и сказал хриплым, как после долгой ангины, голосом:
– Это что, Земля?
– Земля, земля! – обрадовалась Люба.
– Это что, Россия?
– Она самая! – еще радостнее подтвердила Люба.
– Да, да, конечно, было бы странно… – пробормотал незнакомец. – А где именно я сейчас…
– Это Тихий лес, – с готовностью разъяснила Люба. – А вон там, посмотрите, нет, правее – там наш город, Тихо-Пропащенск, может, слышали?
Человек испуганно глянул вдаль, где в утренней дымке виднелось что-то темное, слитое в сплошную линию, неразличимое, и сказал:
– Да, да, я знал… Я всегда знал, что где-то есть такой город… Скажите, это очень далеко от Москвы?
– От Москвы-ы? – протянула Люба и тихо засмеялась.
Он не понял ее смеха и спросил еще, торопливо, словно боясь, что женщина с козой исчезнут:
– До аэропорта далеко отсюда?
– А у нас тут никакого аэропорта нет, – виновато сказала Люба.
– А поезда? Поезда ходят?
– Нет. Уже года два как не ходят.
– А что же ходит отсюда? Может, пароход какой-нибудь? – продолжал допытываться незнакомец.
– У нас тут ничего никуда не ходит.
– А вон там, внизу, это что, дорога?
– Дорога, – подтвердила Люба.
– И куда она ведет?
– Так, никуда…
Незнакомец беспомощно оглянулся:
– Какое хотя бы число сегодня?
– 23 сентября 1999 года, – сказала Люба.
– Как? Уже? Не может этого быть!
Он вдруг побежал назад, на поляну, где только что лежал ничком, потом куда-то вбок, потом снова назад, при этом все время размахивал руками и выкрикивал:
– Подонки! Негодяи! Ничтожества!..
– Да вы успокойтесь! – не выдержала этой сцены Люба. – Пойдемте со мной, я вас козьим молочком напою, отдохнете с дороги, чего тут, в лесу-то, душу надрывать?
Незнакомец еще раз оглянулся по сторонам, словно соображая, есть ли у него другой какой-нибудь выход, и, убедившись, что другого выхода нет, поплелся за Любой. Всю дорогу он что-то бубнил себе под нос, мотал головой, всплескивал руками и даже пару раз нехорошо выругался. Одним словом, неизвестный страдал.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,
в которой женщина Люба приводит неизвестного домой
Час спустя в маленькой однокомнатной квартире на последнем этаже крайней к лесу пятиэтажки сидели женщина Люба и ее лесной незнакомец и пытались выяснить, что к чему. Люба сняла козью кофту и платок и оказалась довольно молодой женщиной со светлой косой, тут же упавшей ниже пояса. Незнакомец, видимо, никогда такой косы не видевший, на секунду задержал на ней удивленный взгляд, но тут же и отвернулся. Сама Люба показалась ему некрасивой, какой-то уж слишком простой. Первым делом она налила гостю чашку теплого парного молока и сказала:
– Вот, попейте, это утреннее, самое полезное.
Коза Машка, привязанная на балконе, высунув морду между прутьев, внимательно следила за собиравшимися на Большой Свалке собаками.
Звали незнакомца Гога то ли Гоша – он как-то невнятно произнес, а фамилия… Вот фамилию он, оказывается, совсем забыл, но это ничего, утешала Люба, он вспомнит потом, сейчас главное не это, а то, что он вернулся.
– Не вполне, не вполне, – говорил Гога-Гоша, ерзая на табуретке. – Есть у вас карта?
Люба нашла в шкафу старый школьный атлас, отыскала нужную страницу.
– Вообще-то наш город на карте не обозначен, но это где-то здесь. – Она ткнула пальцем в невидимую точку.
Он взглянул с опаской и даже присвистнул:
– Мама родная! Так это ж край света! Ну подонки, ну негодяи!..
Люба вздохнула сочувственно, мол, что ж поделаешь, и подлила в чашку теплого козьего молока:
– Вы пейте, пейте, пока не остыло.
Он пил маленькими жадными глотками и украдкой оглядывал комнату. Комната была чистенькая, уютная, все в ней было расставлено и разложено строго по своим местам, нигде ничего не валялось и не висело, но что-то между тем странное было в этой комнате, а что – он еще не мог понять.
– Я вас не задерживаю? Вам, наверное, на работу пора? – спросил он, будто желая поскорее остаться один.
– На работу? Вы сказали «на работу»? – И она снова тихо засмеялась. – Какая еще работа! Вы что, с Луны свалились? Ах, ну да, конечно… Нет-нет, не беспокойтесь, ни на какую мне работу не надо. Вы лучше про себя расскажите, вы случайно не москвич?
– А разве вы меня не узнали? – удивленно спросил Гога-Гоша.
Люба виновато покачала головой: нет, она не узнала его. Может, если он вспомнит свою фамилию, тогда и ей будет легче припомнить…
– Это странно, что вы меня не знаете, – обиженно сказал Гога-Гоша. – До того, как я… как все это со мной случилось, меня довольно часто показывали по телевизору, практически каждый день, я был уверен, что меня все знают. Я… (тут он опять попытался вспомнить свою фамилию и опять не смог).
– Значит, вы действительно из Москвы! – всплеснула руками Люба. – Из самой Москвы! Даже не верится…
Он наконец понял, что странного было в этой комнате – в ней отсутствовал телевизор, а он, оказывается, все это время, сам того не понимая, искал его глазами. Впрочем, в комнате не было и обычной для городских квартир мебели. Кроме стоявшего посередине стола, накрытого самотканой скатертью, и двух табуреток, на которых они сидели сейчас с Любой, у одной стены стоял высокий узкий шкаф, очень старый, под завязку набитый книгами, а у другой – топчан, застеленный шерстяным пледом. Пол в комнате тоже был деревянный, добела вычищенный, и лежали половики, сплетенные косичками из старых простых чулок. По стенам развешано было всякое рукоделие – вышивки гладью и крестиком, аппликации из кусочков шерсти и сухих цветов, у окна же стояла какая-то непонятная штука, накрытая длинным вышитым полотенцем. Люба перехватила его взгляд и сказала:
– Это прялка.
– А почему у вас нет телевизора?
Она пожала плечами:
– А зачем? Света же все равно нет.
– Как нет? Совсем? – насторожился Гога-Гоша.
– Совсем, – печально сказала Люба. – Но вы не бойтесь, у меня лампа есть керосиновая и пара свечей еще осталась, на вечер хватит. Вы лучше расскажите, как там все было с вами? Куда они вас утащили, что они с вами делали?
Он хотел было ответить, но вдруг замер, с ужасом понимая, что с этой минуты, как Люба задала свой вопрос, он ничего не в состоянии вспомнить, ничего совершенно.
– Что, забыли напрочь? Я так и думала, – сказала Люба, слегка разочарованная. – Возможно, они стерли эту информацию из вашей памяти. Типичный случай. Не вы первый, не вы последний. Я, знаете ли, немного занималась этой проблемой, когда наш институт космических исследований еще… а ладно, не будем об этом. Вам надо отдохнуть, прийти в себя. Хорошо бы сейчас ванну горячую, да вот воды нет.
– Что, никакой? – снова напрягся Гога-Гоша.
– Никакой, – спокойно ответила Люба.
– А как же…
– Да как! За водой на ручей ходим, там у нас родник бьет, вода чистая-чистая, а греем во дворе на кострах. Ничего, привыкли.
Он наморщил лоб, что-то соображая:
– А до ближайшего города сколько отсюда?
– Километров пятьсот.
– Машину нанять можно где-нибудь?
– А бензин? – спросила Люба.
Он сидел на табуретке обескураженный и чувствовал себя гадко. Какая-то незнакомая женщина, какой-то Тихо-Пропащенск, черт знает где находящийся, сам он, неизвестно зачем свалившийся сюда, в эту странную квартиру без телевизора, но с козой… И потом эти неприятные провалы в памяти и главное – уже 99-й год на исходе! Он вдруг засуетился, снова стал косить глазом по углам:
– Мне надо срочно позвонить в Москву! У вас, конечно, нет телефона. У вас ничего нет. Как вы тут живете, я вообще не понимаю.
– Так и живем, – вздохнула Люба. – А позвонить можно только из мэрии…
– Ах, у вас есть мэрия? Замечательно. Проводите меня туда немедленно.
– Но… нас туда не пустят. Туда никого не пускают.
– Это меня не пустят? – Гога-Гоша возмущенно надул щеки и опять стал похож на кого-то, но Люба опять не успела сообразить на кого, как он уже с шумом выдохнул и обмяк, как резиновый мяч, из которого спустили воздух. – Да они сочтут за честь, да я… Пусть только попробуют меня не пустить!
Люба строго на него посмотрела и сказала:
– Ну, вот что. Я за водой схожу и молоко Машкино на рынок снесу, вернусь быстро, а вы ложитесь и отдохните немного, потом договорим.
И ушла.
Гога-Гоша почувствовал вдруг, как сильно устал за сегодняшнее утро, и решил, что немного отдохнуть не помешает. Он лег на топчан, натянул на себя плед, подозрительно попахивавший, как и все в этой комнате, козой Машкой, и попытался уснуть, но, как ни ворочался, не смог.







