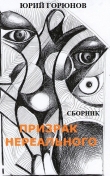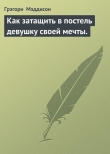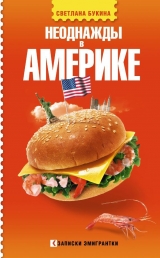
Текст книги "Неоднажды в Америке"
Автор книги: Светлана Букина
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Как пел Гребенщиков, «чтобы стоять, я должен держаться корней». Только корни тоже у всех разные. Возможно, ваш корень напоминает морковку: всё в одной «упаковке», т. е. одна страна, один язык, одна культура. Я ничего не имею против морковки, она вкусная и полезная, и метафора эта – положительная. Мои же корни скорее напоминают корневую систему дуба: один корень в стране, где я родилась и выросла, на языке которой говорю, другой – в стране, где я живу, которую очень люблю и на языке которой тоже говорю и пишу, а ещё один корешок пророс в страну моих предков, с которой какая-то особенная генетическая связь и в которой у меня много друзей и родственников. Стоя на этих обвивших весь мир корнях, я очень стабильно себя чувствую. Крепко так стою, хорошо.
Но с завидной периодичностью появляются люди, объясняющие мне, что Россию я любить обязана, потому что она дала мне «а», «б» и «в», что Израиль любить я не могу, потому что я там была две недели в своей жизни и не говорю на языке страны, что Америку я любить, конечно, могу, но не должна, потому что она «а», «б» и «в», и вообще скорее всего не люблю, а просто наслаждаюсь американским уровнем жизни, и что корни мои растут не туда и не оттуда. То есть фактически люди объявляют себя экспертами того, что творится в моей голове. Они лучше знают. Может, всё-таки стоит говорить «мне здесь нравится/не нравится», «для меня язык не отделим от страны» и т. п., а не проецировать своё видение мира на других и не навязывать дубу морковный менталитет? Может, стоит признать моё право отделять то, что отделяется, соединять то, что соединяется, любить то, что любится, чувствовать себя дома там, где хочется, и говорить на тех языках, на которых я хочу говорить?
Мы космополиты. Только не называйте нас безродными. Мы на своих корнях очень крепко стоим. У нас просто корни другие.
Иммигрантско-обескураженное
Подвизалась я как-то написать статью о поисках секса через Интернет. В частности, мне нужно было проинтервьюировать довольно много свингующих пар. Некоторые из них были русскоязычными и предпочитали свинговать исключительно с другими русскоязычными парами. Как вы понимаете, секс тут вообще ни при чём – большинство иммигрантов предпочитают общаться с друзьями-иммигрантами. Проблема сия стара как мир, но взгляды свингеров меня, честно говоря, поразили. С американцами они уже и трахаться не хотят – поговорить с ними, уверяют, не о чем. Я себе представляю эти глубокие диалоги после групповухи.
Когда я слышу нечто подобное от тех, кто эмигрировал после сорока, да пусть даже после тридцати пяти, я не слишком удивляюсь: личность уже сформирована, да и язык родным никогда не станет. Но когда нечто подобное говорят те, кто эмигрировал и в 20—25, а то и раньше, у меня волосы дыбом встают. Причины чаще всего приводят две – разница интеллектов и разница менталитетов.
Начнём с интеллекта, точнее с интеллектуального снобизма. Многие русскоязычные иммигранты являются… нет, не интеллектуальной элитой, конечно, но образованными людьми, любящими классическую музыку и джаз, читающими литературу всех стран мира, интересующимися разными дисциплинами – от философии до политологии, да просто любящими говорить на серьёзные темы, а не болтать о пустяках. Какой-нибудь кандидат наук из Москвы заявляется на среднеамериканскую вечеринку и приходит в ужас от уровня диалога. Но ведь что интересно: там, в России (на Украине, в Азербайджане – неважно), мы абы с кем не общались, а подбирали друзей долго и тщательно, формируя свой круг по уровню духовной близости и по интересам. К тому же там наш социальный статус был чаще всего выше, чем в эмиграции. В Питере исключительно профессора да поэты за стол садились, а тут с начальником цеха обработки чего-нибудь общаться приходится.
Думаю, что не открою вам Америку, если скажу, что процент интеллигенции в большинстве развитых стран примерно одинаков. Среди моих американских друзей есть много таких, перед которыми я не чувствую никакого интеллектуального превосходства, скорее наоборот. Докторов наук, играющих Бетховена на домашних концертах в свободное от работы время и коллекционирующих предметы культуры инков, здесь хватает, как и людей, объездивших весь свет и говорящих на куче языков.
Я когда-то читала эссе некой дамы, профессора МГУ, которую пригласили читать лекции на пару семестров в университет New Mexico. Она аж слюной брызгала по поводу своих тёмных соседей, жарящих сосиски на барбекю. Почему бы ей не поехать в Рязань и не пообщаться с первыми попавшимися соседями по дому? Откуда эта странная привычка сравнивать столичную интеллектуальную элиту там с абы кем здесь? Поверьте, местные сливки общества по большей части не снобы и с иммигрантами общаются с удовольствием (напомню, что речь идёт о тех, кто приехал сюда в молодости, здесь учился и для кого английский – второй родной язык). Их просто надо найти. Вы любите французскую культуру? В любом крупном городе есть общество франкофилов; пойдите туда, познакомьтесь с людьми, поговорите с ними и перестаньте ныть, что тут никто не слышал о Бреле и Брассансе. Вы любите классическую музыку? После концертов камерной музыки зачастую устраиваются маленькие фуршеты, где зрители и музыканты общаются, знакомятся, разговаривают. То же самое происходит в хороших джаз-клубах. Я вам больше скажу: публика на подобных фуршетах нередко пересекается с публикой из общества франко/германо/еврофилов или с посетителями театральных премьер и интересных выставок. Пересечётесь пару раз – авось подружитесь. Так что «интеллектуальный» аргумент я не принимаю.
Гораздо более часто приводимая причина – разница менталитетов. Разница, безусловно, присутствует, но нежелание её преодолеть есть интеллектуальная и духовная леность со стороны иммигрантов. Никто не призывает вас дружить с пресловутыми соседями, жарящими сосиски, или с первыми попавшимися сотрудниками на работе. В свой круг общения надо набирать тех, кто вам по-человечески симпатичен и интеллектуально близок. Да, американцы немного другие: иная страна, иная культура, смотрели не те мультики, играли не в той песочнице, в очереди за хлебом не стояли. Так что, всю жизнь вариться в собственном соку по этой причине? Говорить цитатами из «Мастера и Маргариты» или «Белого солнца пустыни» можно со своими русскоязычными друзьями, а с американцами (или с иммигрантами из других стран) будем обсуждать… да что угодно, всё, кроме этого. Детей, политику, культуру, последнюю диету, надоевшую свекровь или тёщу, арабский терроризм, погоду, разницу между американским и европейским театром и проблемы собаководства. Для этого надо чуть-чуть, самою малость вылезти из зоны комфорта, попробовать поймать чужую волну, принять как должное изначальную разницу в восприятии вещей.
На это мне говорят: я тяжело работаю, и когда я встречаюсь с друзьями, я хочу отдыхать, а не объяснять каждый анекдот, выстраивая контекст. Что тут скажешь? Если хочется вечно плыть по течению и расслабляться – пожалуйста. Про себя могу сказать, что затраченные усилия, как правило, воздаются сторицей: я приобретаю новых интересных друзей и знакомых. Тот факт, что они смотрят на мир слегка другими глазами, я воспринимаю как плюс, а не как минус. Со временем на это вообще перестаёшь обращать внимание. Я двуязычна не только с технически-лингвистической точки зрения, я двуязычна интеллектуально и духовно. Могу общаться по-русски с русскими, а могу по-английски с американцами. Чувствую себя как рыба в воде и с теми, и с другими при условии, что это близкие мне по духу и уровню интеллектуального развития люди. Я приехала сюда не ребёнком (мне было почти 20 лет), и всё это потребовало нескольких лет усилий. Но чёрт побери, оно стоило того! Я встретила тут удивительных людей, дружбой с которыми горжусь.
Есть два типа иммигрантов: те, для кого опыт проживания в другой стране добавляет некое измерение в их мироощущение, позволяет быть немного там, немного тут, обогащает восприятие мира, и те, кто навеки остаётся пленником своего прошлого, для кого инородные корни – скорее ограничитель. Иммигрант-плюс и иммигрант-минус. Если человек не научился общаться с теми, кто родился в этой стране, и получать при этом удовольствие, если его знание английского/немецкого/иврита, каким бы хорошим оно ни было, остаётся чисто техническим, а менталитет тех, кто на нём говорит, – абсолютно чужим, то это иммигрант-минус. Мне не надо повторять, что речь идёт о тех, кто иммигрировал в молодости, и что речь не идёт об общении с кем попало, правда?
Забавно: мне легче представить себя на месте свингеров, чем понять дискриминацию потенциальных любовников по принципу «русский – американец». Понятно, что если с человеком не о чем разговаривать, то оставь надежду всяк сюда входящий, но если есть о чём, то какая разница, на каком языке это делать?
Баловство в Америке III
Мы поехали смотреть национальный парк Yellowstone. Гейзеры там, уверяли нас, похлеще камчатских. Прилетели вечером, взяли в аренду симпатичную новенькую машину, а на страховку денег пожалели. У нас платиновая кредитная карточка, вроде должна всё покрывать. Пока ехали, стемнело. Шоссе узкое, повороты крутые, а ехали мы слишком быстро: на поворотах фары не успевали высвечивать дорогу впереди. И вдруг – бизон. Вырос как из-под земли, в последний момент. Впрочем, он-то там, может, и давно стоял, это мы его в последний момент увидели. Муж едва успел слегка притормозить, и на тридцати милях (45 км) в час вписался в бизона.
Я открыла глаза и увидела лобовое стекло, разбитое в мельчайшую крошку и держащееся только за счёт внешней плёнки, в двух сантиметрах от своих глаз. Ещё чуть-чуть, и всё это стекло было бы у меня в голове. А так вроде живы-здоровы, только синяки от ремней на теле. Бизон, покачиваясь, ушёл в лес – и не спрашивайте, сама удивляюсь. Машина разбита в лепёшку, вокруг лес и темнота, а мы у чёрта на рогах, довольно далеко от цивилизации. Вышли мы из машины и начали пытаться сообразить, что же делать. По счастью, мимо проезжала машина. Она остановилась, оттуда вышли люди, проверили, живы ли мы, и попросили нас залезть обратно в машину. Там вокруг, оказывается, медведи ходят. Мы сели и начали ждать, а они обещали позвонить в полицию.
Мой муж находился в стрессовом, мягко говоря, состоянии. Ему было явно не по себе. А я почему-то была спокойна. «Да не волнуйся ты, – сказала. И неожиданно для себя добавила: – Мы в Америке». Муж несколько странно на меня посмотрел, но ничего не сказал. Я известная всему миру пофигистка, что с меня взять?
Полиция приехала через пятнадцать минут и тут же вызвала тягач по рации. Нашу развалюху куда-то отогнали, а нас посадили в полицейскую машину и отвезли в ближайший город. Там нас устроили в гостиницу до утра. Утром мы быстренько заполнили пару бумажек, взяли другую машину и поехали обратно в парк. Ещё до отъезда мы позвонили в банк, выдавший кредитную карточку. Всё хорошо, сказали нам, не волнуйтесь, у вас не будет никаких проблем, наша страховка покроет стоимость машины. В итоге мы не потеряли ни времени, ни денег, только спать пришлось в другом месте.
По дороге в парк я думала о том, как легко и быстро мы выпутались из весьма малоприятной ситуации. И вдруг поняла, что тётя-то была права. Мне только потребовалось несколько лет, чтобы понять это. Чтобы окончательно разбаловаться.
Путешествие из Вашингтона в Москву, или Семнадцать лет спустя
В Москву я летела во смирении. Настрой такой был – смиренный. Там все курят, там воняет мочой в подъездах, там сумасшедшие водители, там заставляют платить за пластиковые пакетики в магазинах и не извиняются, наступив на ногу в метро. Так говорили все друзья и родственники, побывавшие в России в последние годы. Те же люди, съездив в Бразилию, Испанию или Индию, вспоминали не пробки в городе или почём там у них «Хонда» и «Вольво», а исторические памятники, интересные особенности национального характера и природные красоты. Если что не нравилось, об этом говорили спокойно, и тут же опять переходили на водопады и соборы. Никому не приходило в голову примерять Чили или Вьетнам на себя.
Мы ездим по миру как туристы, фокусируясь на Тадж-Махале или развалинах храмов инков. Для того чтобы понять, что в Бомбее мы бы жить не хотели, не надо переться в Индию. Коренные американцы от России балдеют, в чём я в очередной раз убедилась в этой поездке, поболтав с ними в аэропортах и музеях. Ах, Дворцовая площадь, Кремль, Кижи, Углич, Оружейная палата, Эрмитаж! Это ж какая красота, какое культурное наследие! На улицах чисто, в ресторанах кормят вкусно и разнообразно, гиды хорошо говорят по-английски, а уж какие шали и янтарные украшения можно накупить тёще и кузинам на Рождество!
И только эмигрантам не до гения Растрелли и монументальности неповторимого московского метро. Мы всё это видели. Мы поглощены сравнениями и примеряем их жизни на себя. Сознательно или подсознательно, мы всё время доказываем себе и другим, что правильно сделали, что уехали, что даже те из наших друзей, у которых сейчас всё хорошо, вынуждены мириться с… далее по списку. Судьба нищих в Калькутте волнует нас как прошлогодний снег, а вот трудности пенсионеров в России режут по живому, даже если ни одного родственника в пятом колене на бывшей родине уже двадцать лет как не осталось. Теоретически на месте полуголодных пенсионерок могли оказаться наши мамы и бабушки. Русскоязычные американцы в России – как русские в Америке, от которых не услышишь об уникальности Вашингтона или о бешеном синкопированном пульсе Нью-Йорка, о природе Калифорнии или о вежливости тех же самых водителей, зато наслушаешься про жиртресов на улицах, картонные помидоры в магазинах, фальшивые улыбки и «деревню», в которой всё засыпает в восемь вечера. Если честно, мне до коликов надоели и те и другие. А у нас в квартире газ, а у вас? А у вас негров линчуют. А у нас сегодня Мурка родила смешных котят. Ага, и всех до одного вы утопили. У вас бабы на баб не похожи. Зато мы делаем ракеты и покорили Енисей. Видели мы ваши ракеты в состоянии полураспада. У вас Буш – козёл. Да вы на Вовочку своего посмотрите, тоже мне – луч света в тёмном царстве! И такая дребедень целый день…
Я решила для себя, что поеду в Россию туристкой. В правильности своего выбора (эмигрировать) я была уверена ещё до того, как ступила ногой в аэропорт, и с тех пор ни на долю секунды в этом не усомнилась. Я люблю свою страну, я считаю себя американкой, мне не интересно сравнивать, кому где лучше жить, а цены на квартиры в Новых Черёмушках волнуют меня не больше, чем цены на квартиры в Каракао. К тому же в Москве я не была семнадцать лет, и больше всего мне хотелось посмотреть на архитектуру, окунуться в культуру, погулять по улочкам, покататься на катере, посидеть в ресторанчиках, побродить по музеям и встретиться друзьями детства и однокашниками.
Мой американский друг недавно вернулся в город своего детства в Вирджинии и написал огромное эссе на тему того, как изменился его городок за тридцать лет, как интересно было повидаться с повзрослевшими и много пережившими за это время одноклассниками и как почти ничего, что он помнил, не сохранилось в первозданном виде. Всё меняется – города, люди, здания, виды транспорта, названия на вывесках, образ жизни. Улицы перестраиваются, дома разрушаются, деревья сгорают, а женщины стареют. Происходит это везде, и попробуй вернуться куда-то через двадцать лет – хоть в Россию, хоть в Ванкувер – не узнаешь.
Итак, никаких сравнений, никаких фантазий на тему «Я и моя семья в сегодняшней Москве». Я просто туристка, заранее смирившаяся с тем, что её будут обкуривать в кафе и обдавать перегаром в метро, что за корзинку с хлебом и воду в ресторанах надо платить отдельно, что водители не уступают дорогу пешеходам, а женщины ходят по городу на огромных каблуках, от одного вида которых у гостей столицы выступают мозоли и болят щиколотки. К тому же там всё дорого, и Путин наступает на ноги, руки и прочие места демократии. Ах да, ещё в Москве обитает много-много медведей, в смысле, я хотела сказать – диких обезьян, то есть, простите, я имела в виду красивых женщин. Чёрт, почему я не лесбиянка? Дайте, что-ли, красивых мужиков для разнообразия. Нет, говорят, с мужиками демографический кирдык: на красивых, трезвых и прилично одетых – очередь, как в советские времена на «Жигули». Ладно, будем завидовать стройным красоткам на шпильках. А также гулять по Арбату и Невскому, петлять по маленьким улочкам Питера и Москвы, любоваться яркими комиксами о жизни Христа на стенах древних кремлёвских соборов, улыбаться старым приятелям – бронзовым скульптурам на станции «Площадь Революции» и в который раз замирать на вдохе от неземной лёгкости разноцветной питерской архитектуры на фоне тяжёлого серого неба.
Я не приняла во внимание, что смиренной туристке надо не выезжать за пределы центра и уж тем более за пределы города, надо забыть русский язык и не общаться часами с теми, кто там остался, надо отключить память о первых двадцати годах своей жизни. Я хотела быть в России обычной американкой. Не получилось.
У меня что-то зашевелилось внутри уже при виде слова «Шереметьево» на здании аэропорта. А уж внутри… Лица вокруг – другие. Совершенно иной фенотип. Вроде две руки, две ноги, один нос, та же раса (я сравниваю с белыми американцами, вестимо), а разница чувствуется сразу. Нас встретил Борин друг, посадил в машину, повёз к себе домой.
Я отчаянно вертела головой. Вокруг ездили покрытые брезентом грузовики родом из моего детства, на постах стояли милиционеры в широких фуражках, один даже держал сильно потёртый зеброобразный жезл, женщины в юбках несли большие сумки, кто-то орал: «Ты чо, бля?», вокруг стояли большие дома с магазинами на первых этажах и вырезанными на фасаде прямоугольниками, у тротуара рос подорожник, а на дороге красовались указатели, которые я учила когда-то в одном из первых открывшихся кооперативов, где нас натаскивали на водительские права. Из-за углов выскакивали знакомые здания, виды, памятники.
«Ну как, изменилась Москва?» – спросил Борин друг. Да ни фига. Кажется, я удивила всех пассажиров машины. Да как же?! Да вот же новые здания вокруг, дорогу расширили, то снесли, здесь перестроили, вон там какой-то шедевр Церетели в виде Летучего Голландца с привиденческого вида кошмаром, летящим на крыльях ночи, на корме (кошмар оказался Петром Первым), а храма Христа Спасителя ведь не было, когда вы уезжали, а магазины, а витрины, а рекламные щиты? «Это совсем другой город, – резюмировал муж. – Я его таким не помню».
Я только плечами пожала. Мой мозг отказывался замечать «Ауди» и «мерсы», рекламу французской косметики и неоновые витрины, стеклянные высотки и многополосные шоссе. Я видела то, что хотела видеть, точнее, только то, что узнавала. Витрины, рестораны и небоскрёбы в мой жизни присутствовали уже много лет в изобилии, не говоря уж о немецких машинах и широких дорогах. Они отфильтровывались. В мозгу существовал, оказывается, некий трафарет под названием «Москва», и всё, что не подходило, отсеивалось. Мне хором пели все и вся, что я не узнаю город. Я узнала его сразу, как узнаёшь давнишнюю подругу, которая из молоденькой девушки превратилась в зрелую женщину, поменяла причёску, приоделась, накрасилась, слегка располнела, чуть-чуть увяла, помудрела, пообтесалась, но по сути осталась той же девчонкой, с которой вы встречали рассвет после выпускного вечера. Другая? Да. Но ведь та же самая!
Медового месяца нам отпущено не было, но медовый день – тот, первый, – был. Мне было хорошо в этом городе; потускневшие негативы памяти вдруг проявились и заиграли красками, все вокруг говорили по-русски, дворы распахивались уютными сквериками, девочки носили гольфы и банты в волосах, у газонов был знакомый запах, в палатках продавали георгины и мохнато-пушистые астры, в ресторанах подавали окрошку на кефире и на квасе, обещанные стройные девушки дефилировали мимо на обещанных же шпильках, и даже полупьяные, воняющие перегаром мужики с пивом в руках казались родными.
Неродное не раздражало, а веселило. Иллюстрированная «Камасутра» в киоске у метро. Там же – мазь для счёта купюр и лак для ногтей. Рядом плюшевые звери и книги Дины Рубиной, сигареты всех мастей и сувениры, ремни и шали, карты города и маникюрные наборы. Подземный переход напоминал восточный базар, только ишаков не хватало. Там я купила ёжика для своей коллекции, пару книг для мамы, музыкальные диски, розовый лак, карту, сок и пирожок. Расплатилась яркими цветными бумажками, поленившись поделить все эти тысячи на двадцать пять и хоть примерно представить, сколько денег я трачу. С рублями эти фантики не проассоциировались никак, а тут ещё выяснилось, что двадцатикопеечных монет больше нет, и двушек нет, и даже пятнадцати копеек нет. Там было весело, гремела евротрэшная попса, какие-то парни освежали ядрёный трёхэтажный русский мат в моей мхом поросшей памяти, кто-то торговался, кто-то целовался, и даже треклятый сигаретный дым, отравлявший мою жизнь все четырнадцать дней пребывания в стране, временно отошёл на второй план. Танцуют все!
В город моего детства приехала ярмарка. Москва бурлила и кипела, выпрыгивая на меня пружиной из порвавшегося матраса.
В тот первый – медовый – день меня поразили только две вещи. Сначала Боря спросил у своего друга, почему тот водит «Хёндай», а не, скажем, «Тойоту». На что друг ответил, что «Тойота» у его начальника, а он в компании второй человек, и негоже ему иметь машину, как у первого, не говоря уж о машине получше. Я надолго задумалась, пытаясь сообразить, какое боссу дело, что водят его подчинённые. Может, у него пять детей и привычка просаживать крупные суммы в казино? А подчинённый, наоборот, одинокий ковбой, всю жизнь мечтавший только о «Лексусе» и копивший на него три года? А может, подчинённая – женщина и новенькую «Ауди» ей подарил любовник? Да вообще, кому охота ранжировать машины? Никак эта логика не укладывалась в моей голове.
А потом мы увидели собаку. Мы только что прошли мимо роскошной новой многоэтажки, квартиры в которой, если верить нашему другу, стоили хорошо за миллион. Вокруг миллионного дома бегал какой-то запаршивевший ничейный пёс, непривитый, без ошейника, со свалявшейся шерстью. Москвичей это не удивило. Да полно, говорят, их тут, в городе. Стаями бегают. А руководство ничего с ними не делает, потому как они город от диких волков (гиен? опоссумов? шакалов? какаду?) охраняют. У подъезда соседнего дома сидели подростки с бутылкой пива в одной руке и сигаретой в другой и разговаривали на очаровательно-непереводимом русском фольклорном. Воистину город контрастов. Я подумала, что обитатели заоблачно-недоступного замка должны выпрыгивать из подъезда прямо в поджидающий «Мерседес» или лимузин, дабы не испортить впечатление от мраморных вестибюлей реалиями жизни в радиусе пятиста метров. Детей на улицу тоже желательно не выпускать, даже с французской гувернанткой. А то ребёнку придётся переводить гувернантке несущиеся со скамеек трёхэтажные деепричастные обороты.
Но это мелочи, издержки, тот самый шаг от великого до смешного, от кошмара пустого полуголодного города до процветающей столицы дороговизны, от развала до глянца, от оттенков серо-коричневого до всех цветов радуги, от края пропасти до вершины холма, пусть и свеженасыпанного. Пятилетка за три дня – это наше всё, а через век за несколько лет без издержек не перепрыгнешь. Глядишь, если цены на нефть ещё немного продержатся, то и собак отловят, и с пригородными волками сами бороться научатся, и чужие деньги считать перестанут, и ещё несколько кольцевых дорог вокруг города построят, причём последнее пройдёт через Ростов-на-Дону.
Детство – время сказок. В городе детства хочется верить в сказку. Но был вечер. И было утро. День второй.
На второй день я решила съездить на дачу, где проводила каждое лето своего детства. Дорога туда заняла два с половиной часа (всего 40 км от Москвы), и в живых я осталась исключительно потому, что мой водитель не курил. Сочетание жуткой жары и загазованной пробки привели меня в состояние, близкое к невменяемому. Зато впечатлений было! Дороги за пределами Москвы практически не размечены. Не знаешь дороги? Архипелаг Гуд Лак. В какой-то момент мой водитель вдруг резко свернул с пути, хотя прямо шла дорога такой же ширины. «Тут главная дорога уходит направо», – объяснил мне он. Почему? Да потому, что направо поехало большинство машин. Ась? А он уверен? Он же никогда тут не был, там не было никаких указателей! Оказалось, прав (мы у гаишника потом спросили). Классная у человека интуиция оказалась. Меня посади там за руль – через неделю найдёте на Черноморском побережье. В другой раз машина так подпрыгнула, что я думала, мы там подвеску оставим. Через минуту она сделала это ещё раз. Я с ужасом посмотрела на дорогу и не обнаружила ни одной ямы. Оказалось, это то, что мы здесь называем speed bumps – небольшие возвышения на всю ширину дороги, призванные контролировать скорость лихачей. С одной большой разницей: там они были повыше и никак не обозначены, не окрашены. После третьего сальто мортале, сопровождавшегося смесью грохота и лязга, мы поехали со скоростью раненой улитки и начали во все глаза пялиться на асфальт. Разглядеть эти «попрыгунчики» оказалось не так просто даже с моим идеальным зрением. Они полностью сливались с дорогой. Разбить там машину – пара пустяков. Нам ещё повезло, что первые три «бабаха» ничего не повредили.
О, это непереводимое прекрасное русское слово «пиздец»! Нет ему равных в ёмкости, в охвате, в масштабе. Потому что Подмосквье – это оно самое. И синонимов нет. Велик могучий… Выезд за пределы всех кольцевых дорог должен быть обязательным в каждом туристическом маршруте. Москва, как всем известно, – это не Россия. У многих моих знакомых, побывавших в Мексике, самыми яркими впечатлениями от недельного пребывания на роскошном курорте остались поездки вглубь страны, на пирамиды Майя. Причём не столько сами пирамиды, сколько вид из окна автобуса по дороге к ним. Там другая Мексика. Под Москвой – другая Россия, хоть в чём-то и более знакомая. Попросту говоря, мы отмотали не 40 км вперёд, а десять-пятнадцать лет назад. Это была страна моего детства, почти не тронутая (про эксклюзивные островки для богатых я, понятное дело, не говорю). Но это было общее впечатление. А детали изменились.
В Кратове я не узнала практически ничего. Найти старую дачу без подсказок добрых людей было бы невозможно. В чём прелесть этих дач, я так и не поняла. Посёлок городского типа, везде дома и заборы, пруд превратился в болото, купаться негде, делать совершенно нечего, ничего вокруг нет. Даже грибов, говорят, в лесу не осталось. Зато остались смородина и крыжовник на даче соседей – вот я объелась! Соскучилась по этим ягодам ужасно. Наверное, детям там лучше, чем в «каменных джунглях», вот и едут. Воздух, кстати, не фонтан – кругом машины, а уж доехать туда… В моём детстве Кратово было заполнено просеками, открытыми пространствами, лугами, тропками, лесами. А теперь всё застроили и заборы понаставили выше человеческого роста. Закрыли пространство. Грустно.
Зато в центре Москвы мне понравилось, особенно то, как отстроили разрушенные в тридцатые годы соборы, как отреставрировали старые здания, как вычистили улицы и дворы. К новострою отношение было сложное. Что-то где-то вписалось, но в большинстве случаев, когда мне с гордостью показывали новое здание или даже целый их комплекс, на меня смотрел во всей своей красе какой-нибудь Спрингфилд, Массачусетс. За современной стеклянной красотой надо ехать в Манхэттен, Чикаго, Гонконг, даже тот же Дубай – это их лицо, их марка. А Москве стоит поучиться у Питера и попытаться вписывать новые здания в архитектуру окружающих районов, не искажая лицо города. Плоские стекляшки в московском интерьере смотрятся ничуть не лучше «шедевров» Церетели. Ещё хуже, если хотите знать моё мнение. Но это болезни роста. За центр Москвы и за её хорошие районы я как-то не волнуюсь.
А вот дом, где я выросла, нынче, оказывается, не в лучшей части города. «Щёлковская», мне объяснили, теперь не котируется: там азербайджанцев много. Дружба народов сыграла с нашим двором злую шутку. Асфальт перед домом разворочен, деревянные двери сменили на уродливые железные, лавочки с бабушками исчезли, а огромное пространство, где были детская площадка, небольшое футбольное поле (а зимой – каток) и огромное дерево с тарзанкой, заставили «ракушками» – уродливыми жестяными гаражами. За ними поставили новую школу, и вид из окон теперь ужасный, да и детям совершенно негде играть. Примерно то же самое мы увидели на другом конце Москвы – около дома, где вырос муж. Я пожалела, что поехала. Память штормило. Как можно сравнивать впечатления от России туристов и эмигрантов, ну как? У них же штиль в голове, чистый лист.
К тому же они не понимают язык. Сначала я никак не могла привыкнуть к тому, что все вокруг говорили по-русски, в первые пару дней всё время оглядывалась да удивлялась. На третий день мы с мужем проходили мимо какого-то роскошного отеля и решили туда заскочить на предмет пописать. На всякий случай перешли на английский. Сработало: дверь открыли, заулыбались, на деревянном английском поприветствовали. Потом муж признался мне, что на какую-то долю секунды испугался, что забыл английский язык. Да и мне в первую минуту этот переход был странен; мы уже окунулись в русский с головой. Вообще утверждение, что всё новое – это хорошо забытое старое, себя не оправдало. Чувство новизны было минимальным, преобладало чувство узнавания. Я с удивлением констатировала, что мне вполне уютно в Москве. Более того, в Москве мне интересно. В Америке я ведь фактически живу в парнике и с иными реалиями сталкиваюсь редко. Ни диких собак тебе, ни пьяниц, ни русского языка, ни иллюстрированной «Камасутры» на одной полке с Камю. А тут не соскучишься, столько колоритных персонажей, интересных ситуаций, забавных моментов. Ну какая же я американка? Так, прикидываюсь.
Оказалось, не прикидываюсь. На седьмой день пребывания в городе я пошла в Кремль. Боря не пошёл, сказал, что ему не интересно, и я потопала в гордом одиночестве. Гуляла себя по соборам, слушала экскурсоводов тут и там и вдруг увидела группу американцев. Дальше было просто смешно. Я бросилась к ним как к родным. Затесалась в толпу, поболтала о том о сём, даже пыталась вместе с ними тихой сапой пролезть в Оружейную палату, куда кончились билеты. Но туристов считали по головам и меня турнули. Когда группа скрылась за дверями Оружейной палаты, я быстренько нашла ещё одну и прилепилась к ней. Они просто болтали о чём-то, а я наслаждалась звуками их речи. Господи, как же мне вдруг захотелось обратно, в Америку! Какими родными показались их западноевропейские лица, их американский английский, их форма одежды! Назад, в парничок, в скромное обаяние буржуазии, к раскатывающимся «r», англо-саксонским типажам и кроссовкам на ногах. Назад, в страну эмигрантов, где нет доминантной нации или культуры, где я не чувствую себя каким-то случайно затесавшимся, инородным телом, подавляющим меньшинством. Дело отнюдь не в «лучше или хуже», и Москва ни при чём, мне просто захотелось домой.