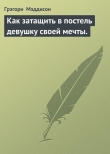Текст книги "Неоднажды в Америке"
Автор книги: Светлана Букина
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Светлана Букина
Неоднажды в Америке
Две грации: эми и имми
Мне думается, что есть люди, которые родились не там, где им следовало родиться. Случайность забросила их в тот или иной край, но они всю жизнь мучаются тоской по неведомой отчизне. Они чужие в родных местах, и тенистые аллеи, знакомые им с детства, равно как и людные улицы, на которых они играли, остаются для них лишь станцией на пути. Чужаками живут они среди родичей; чужаками остаются в родных краях. Может быть, эта отчужденность и толкает их вдаль, на поиски чего-то постоянного, чего-то, что сможет привязать их к себе. Может быть, какой-то глубоко скрытый атавизм гонит этих вечных странников в края, оставленные их предками давно-давно, в доисторические времена. Случается, что человек вдруг ступает на ту землю, к которой он привязан таинственными узами. Вот наконец дом, который он искал, его тянет осесть среди природы, ранее им не виданной, среди людей, ранее незнаемых, с такой силой, точно это и есть его отчизна. Здесь, и только здесь он находит покой.
С. Моэм. «Луна и грош»
Колбасная эмиграция
Я не особенно-то её люблю, эту колбасу. И сосиски тоже. Можно меня переименовать в «филе миньон эмиграцию»? Ну, или в «лососиную эмиграцию», на худой конец? Хотя нет, я ехала сюда не за лососем, а за креветками. Даёшь креветочную эмиграцию!
Я хочу, чтобы нас перестали, наконец, валить в одну кучу. А то «за колбасой, за колбасой…» Далась вам эта колбаса! Мы все за разным сюда ехали. Кто за трюфелями, кто за спаржей, кто за чёрным хлебом с маслом.
Предлагаю термин «колбасная эмиграция» отныне считать неполиткорректным. Он глубоко оскорбляет всех эмигрантов, равнодушных к колбасе, не говоря уже о вегетарианцах – для них это просто плевок в лицо. Давайте проявим индивидуальный подход.
Я как-то спросила читателей своего блога, за какими продуктами и благами цивилизации они сюда ехали. Высокие идеи просила не предлагать. Прочитав все комментарии, я поделила эмигрантов на следующие группы:
1. Гурманная эмиграция. Фрукты, этнические блюда, морепродукты, хорошие вина, всякая экзотика, даже горчица.
2. Одежно-обувная эмиграция. Даёшь туфли и джинсы! Очень популярная категория среди тех, кто уехал до начала девяностых.
3. Квартирная эмиграция. Хочу по комнате на каждого ребёнка; не люблю вонючие подъезды; ненавижу, когда топают над головой.
4. Погодно-климатическая эмиграция. Солнце, эвкалипты, океан, пальмы, шорты, секвойи, закаты – желательно всё сразу и круглый год. Сюда же относится туристическая эмиграция до девяносто второго года розлива – желающие посмотреть мир, охотники за визуальными впечатлениями и прочие примкнувшие к ним.
5. Дыхательная эмиграция. Чужая страна, чужой город, никогда не чувствовал(а) себя там дома, не мог(ла) там дышать, всегда хотел(а) уехать, это было единственным возможным решением. Сюда же относятся убежавшие из бывших республик Средней Азии, от войны, от погромов, от реальной нищеты и голода, а также родители умственно и/или физически отсталых детей.
6. Профессиональная эмиграция. В эту группу входят только те, кто физически не мог заниматься тем, чем занимаются сейчас, – оборудования для этого не было, например, или реактивов. Тот, кто мог делать то же самое, но ещё хотел, сволочь такая, чтобы ему за это платили, относится к одной из вышеперечисленных групп.
7. Занудная эмиграция. Вы им про колбасу, а они продолжают бубнить про политические свободы, коррупцию, убийства журналистов и службу в армии; нет чтоб честно сказать, как все, за какими продуктами ехали.
8. Декабристы и декабристки. За мужем или женой уехали. Сан-Франциско вообще очень напоминает Сибирь.
9. Моя любимая группа – длинно-долларово-шекельно-марковая эмиграция. Дайте денег побольше, а на что их потратить, мы сами разберёмся. Может, я о мотоцикле всю жизнь мечтал. Или о своей конюшне. А я еду, а я еду за деньгами – за туманом едут только дураки. Люблю за бескомплексность.
Предлагаю записать все эти категории на бумажке, и в следующий раз, когда какой-нибудь потреот посмеет упрекнуть вас в любви к колбасе, объясните ему популярно, что он неполиткорректно выражается. И предложите альтернативный вариант. Или комбинацию оных.
Вот я, например, дыхательно-гурманно-квартирная эмиграция. И обзывать меня колбасницей – это как… это прямо… это всё равно что обозвать афроамериканца негром!
А если совсем серьёзно, то из дыхательных я…
Визит дамы
Какими же старухами казались мне в 15 лет сорокалетние женщины! Усталые, с ранними морщинами, забегавшиеся, задёрганные жизнью, неустроенностью, вечной нехваткой того или этого, духовного или физического, эмоционального или материального. Наши мамы. За редким исключением, положившие на себя; «со следами былой» или уже без оных. Мы такие юные и прекрасные, а тут эти… старые курицы.
Жестоко, но 15 лет – жестокий возраст, чего уж тут оправдываться за прошлые грехи, тем более что грехи исключительно «умственные». Что думалось, то думалось.
Почти все мои знакомые иммигранты помнят момент, когда они решили: «Всё! Уезжаю!» У некоторых процесс принятия решения шёл постепенно и момент эврики не отложился в памяти, а может, и не было его. Но те, у кого он был, запомнили этот поворот в сознании на всю жизнь.
Для меня такой момент наступил в восьмом классе, когда в Москву приехала Циля.
Я бы в жизни не узнала о сием знаменательном событии, если бы она не привезла что-то-там-уж-не-помню-что от маминой двоюродной сестры. Тётя моя уехала в Америку в середине семидесятых, когда мне было лет пять или около того, и регулярно посылала нам письма с большим количеством фотографий, а также посылки с вещами, о которых стоит как-нибудь написать отдельно. Сейчас-то я знаю, что по большей части это была китайская дешёвка, но в Москве семидесятых ярко-красные тапочки с вышитыми на них павлинами или ядовито-розовые ночные рубашки с цветочками всех оттенков зелёного и синего на груди казались сокровищами Али-Бабы. Когда я гуляла по улицам в куртках или юбках, присланных тётей, на меня в буквальном смысле оглядывались все. Не было в Москве ни такой одежды, ни таких красок, ни таких фасонов. Просто не было. А какие она присылала наклейки! Я лепила их на обложки дневников, и посмотреть на это переливающееся чудо сбегалось полкласса. Качество цветных фотографий на кодаковской плёнке поражало моё детское воображение. Вот моя троюродная сестра стоит возле своего дома, на своей лужайке и играет не то в крикет, не то в мини-гольф. Вот вся американская родня сидит в ресторане за столом. Ничего себе там рестораны. Вот… Да мало ли было этих «вот»? Другая жизнь совсем, разве сравнишь?
Я воспринимала всю эту заморскую красу как сказку. Да, там свои лужайки и омары в ресторанах, там красивая одежда и открытки, которые можно рассматривать часами, но это там. А я – тут. Тут мой дом, мои друзья, мои родители. Вырасту – в гости поеду.
Классу к восьмому я уже всё хорошо понимала про Советский Союз и окружающую меня действительность и никаких пионерских иллюзий не питала. К тому же у меня всегда были сложные отношения с Москвой. Не то чтобы я Москву не любила, просто не любила. Ходила по улицам и чувствовала: не моё. Как мужик, уверяющий, что он на самом деле баба, только не в том теле родился. Вот не мой город, и всё. А какой твой? А кто его знает… Я родилась и выросла в Москве, но навещала и другие города и нигде себя дома не чувствовала.
Тем не менее об отъезде я тогда не задумывалась. В голову не приходило.
В начале девяностых, когда мы уже были в Америке, один наш знакомый американец поехал в Россию в командировку. Через пару месяцев после его возвращения на какой-то вечеринке мужчины принялись обсуждать, насколько восточноевропейские девушки красивее североамериканских. «О, кстати, Боб, ты ж недавно в Москве был, как тебе русские женщины?» – поинтересовался мой муж. Боб, к нашему удивлению, замялся.
– Что такое? Не понравились русские женщины?
– Очень понравились русские девушки, – улыбнулся Боб, – но что с ними происходит после сорока, я не знаю. Наверное, там очень тяжёлая жизнь. Я видел очень много красивых девушек, но ни одной красивой женщины старше сорока.
* * *
Имя Циля ассоциировалось у меня со старой еврейкой – с большим носом, жёсткими чёрными усиками и приличного размера задницей. К тому же Циля уехала в Америку до того, как я родилась. И уже институт на тот момент закончила. Мамонт. Ладно уж, приехала, привезла гостинцы, может, расскажет что-нибудь интересное – пойдём пообщаемся с Цилей. Первая, можно сказать, постперестроечная ласточка, по крайней мере из тех, кого нам удалось увидеть. Интересно всё-таки.
В комнату не вошла, а впорхнула молодая, стройная, со вкусом одетая женщина с задорной челкой, широкой улыбкой, обнажающей великолепные зубы, и с искорками в глазах. Она тараторила без перерыва: «Ой Светочка как же много я о тебе слышала а как там школа а что новенького а вот это кольцо тебе ой а это наверное Леночка я тебя привезла подарки а вы знаете мой папа так рвался в Москву но увидел очередь в гастроном и сказал вэйз мир он не будет тут стоять даже если они золото там бесплатно выдают вы знаете отвыкаешь от этого очень а вы Ира очень приятно познакомиться мне много о вас рассказывали вэйз мир какой тут воздух чем вы дышите вэйз мир и очереди, очереди а вы Женя да ну как же очень приятно…»
И так два часа. Мы мило улыбались, расспрашивали о жизни в Америке, радовались подаркам, рассказывали о себе и своей жизни, передавали посылки и приветы, разглядывали фотографии и обещали, что подумаем об эмиграции. Потом мы прощались, опять улыбались и на обратном пути обсуждали Цилины туфли и платье (ещё бы, мы о таком и не мечтали). И тут другая моя тётя (не помню уже, по поводу чего) вдруг сказала: «Ну да, в свои сорок два, с двумя взрослыми сыновьями, она уже…»
Дальше я не помню. Ни слова. Возраст Цили ударил меня током и надолго вышиб из колеи. Я и забыла, что она должна быть старше меня лет на двадцать с чем-то. Мне как-то в голову не пришло, что эта молодая, изящная, без каких бы то ни было следов усталости на лице женщина является матерью двоих сыновей, каждый из которых был старше меня. Во время нашей встречи мне ужасно хотелось уединиться с ней и поболтать по-девичьи: поинтересоваться, где дают такие туфли, расспросить про макияж и краску для волос, узнать что-нибудь интересное про американских парней и рассказать о своей жизни. Я отдавала себе отчёт, что передо мной взрослая, замужняя женщина, но это был тот случай, когда возраст казался неважным. Передо мной сидела молодая женщина, бесконечно далёкая от столь привычных мне окружающих дам этого возраста. Не расплывшаяся, не махнувшая на себя рукой, а явно старающаяся быть привлекательной и наверняка пользующаяся успехом у мужчин.
С присущим мне тогда максимализмом я сказала об этом своей маме. Вот, мол, я-то думала, глядя на вас всех, что сорок – это старость, а посмотрела на Цилю и усомнилась. Совсем молодая она – и внешне, и внутренне. По поводу чего выслушала получасовую лекцию про жизнь там и тут, про их быт и наш быт, про их средства для ухода за собой и наши.
С того дня я захотела в Америку. Помню весенний день восемьдесят шестого года, помню себя, восьмиклассницу, в шоке от только что открытого и понятого. Помню, как что-то законтачило в голове. Я была равнодушна к деталям: ни красивая одежда, ни блестящие наклейки, ни креветки и авокадо, ни яркие фотографии из американской жизни не имели значения. Как не имели значения очереди за колбасой и необходимость стирать пододеяльники руками в ванной, пионерские дружины и давка в автобусе по утрам. Я просто вдруг поняла, что Америка даст мне шанс дольше быть женщиной, не устать к сорока годам, не превратиться в наших мам и тёть. И так мне захотелось в тот мир, где сорокалетние женщины молоды и привлекательны…
* * *
Забавно писать об этом из Америки двадцать первого века. Количество некрасивых, толстых, плохо одетых и неухоженных женщин тут потрясает даже в Бостоне, а уж в каком-нибудь Кентукки – просто кошмар. Циля мало похожа на среднюю американку того же возраста. Впрочем, я тоже мало похожа на среднюю американку, и слава богу. У нас просто есть шанс– лёгкий быт, современные косметические средства и достаточное количество денег. А уж как пользоваться этим шансом – другой вопрос.
Сегодняшние россиянки тоже разительно отличаются от советских женщин середины восьмидесятых и начала девяностых: количество ухоженных дам за сорок выросло во много раз. Но тогда, в восемьдесят шестом, я ничего этого не знала. Я просто сказала родителям, что уеду в Америку.
И объяснять ничего не стала. Мама только головой покачала: переходный возраст у девочки…
На первом курсе за мной ухаживали два парня. До дома провожали и друг друга пересиживали: ни один не уходил раньше, чем другой. Один из них хотел эмигрировать, а другой – нет. Довольно быстро я поняла, что с тем, который уезжать не собирался, я даже начинать ничего не хочу, потому как не буду тут жить. Я ездила на общественном транспорте, смотрела на лица людей и всё время думала: «Ну почему я здесь? Чужие все, чужое всё. И женщины стареют рано». Как только мне исполнилось восемнадцать, я подала документы на выезд. И вышла замуж за молодого человека, который рвался из страны.
Моё отношение к Америке, к России, да и просто к жизни сильно изменилось с тех пор, как изменилась я сама. Только желание продлить молодость осталось. И память осталась – о Циле и о дне, подарившем мне надежду, подарившем мне мой дом.
Баловство в Америке I
Мы прилетели в Нью-Йорк 7 декабря 1990 года. Работники ХИАСа были на подхвате. Услышав свою фамилию, новоиспечённые иммигранты один за другим отделялись от толпы и проходили к столикам. Там они что-то писали, отвечали на вопросы, получали какие-то карточки и уходили – кто к родственникам и друзьям прямо в Нью-Йорке, а кто на другие терминалы – лететь в города назначения.
Мы стояли. Толпа потихоньку рассеялась, и мы остались одни. В списках ХИАСа нас не было. В ответ на недоумённые вопросы работники только пожимали плечами и говорили, что мы, наверное, не евреи. Нас не было в списках.
– А что же делать?
– А откуда мы знаем?
Проблему обнаружили довольно быстро. Главой семьи у нас значился отчим моего мужа, по национальности русский. Он, правда, с нами не приехал, а задержался в Москве на несколько месяцев по техническим причинам. В аэропорту в тот день стояли три чистокровных еврея – мой муж, чей родной отец был евреем, свекровь и я. А нам упорно объясняли, что поскольку мы не евреи, ХИАС нас знать не знает. Мы запаниковали: денег с собой долларов 50 от силы да по паре чемоданов на человека; документов нет, и никто нас знать не знает. Одни в чужой стране, после двух суток без сна.
Самой близкой моей родственницей в Америке была та самая мамина двоюродная сестра. Хотя мы ехали совсем не к ней, это был единственный человек, которому я могла позвонить. Тётя выслушала меня совершенно спокойно и сказала фразу, которая мне на тот момент показалась по меньшей мере странной, если не идиотской: «Светочка, ты не волнуйся, ты уже в Америке; всё в порядке. Ты в Америке».
То, что я «уже в Америке» и волноваться ни о чём не надо, тётя повторила раза четыре. Ну да, а я-то думала, что в Бурунди приземлилась. Позвонила, называется. Разбаловались тут, в своей Америке, проблем новоприбывших совершенно не понимают.
Через пару часов, правда, всё устаканилось. Откуда-то появились ребята из Международного комитета спасения, оформили наши документы и отправили в Бостон. А там уже нас встретили родственники мужа, да и ребята из МКС денег и советов подкинули. Началась жизнь в Америке.
Ноготь
Я тогда ещё не успела привыкнуть к рождественской сказке американских пригородов: мы только две недели как приехали, и после серой Москвы девяностого года Медфорд, маленький зачуханный городок к северу от Бостона, показался Диснейлендом.
То прыгая на одной ноге, то ковыляя, морщась от боли, я поглядывала на светящихся снеговиков, на разноцветные огоньки, гирляндами свисающие с крыш и деревьев, на оленей, тянущих яркие санки с надутыми Дедами Морозами, на подсвеченных волхвов и Мадонн с Иисусами и на редкие меноры в окнах.
Рождественские огни немного отвлекали, спасая моего мужа от уже надоевшего детского вопроса: «Нам ещё долго?» От нас до ближайшей больницы на здоровых-то ногах бодрым шагом идти как минимум полчаса, а на честном слове и на одной ноге по засыпанным снегом дорогам пилить час, наверное.
Проблема глупая, глупее некуда. Ноготь врос. Врастают они у меня с детства – слишком глубоко посажены. И с детства я научилась, аккуратно поддев краешек ногтя, вырезать его из мякоти большого пальца. Потом ещё пару недель можно ходить, затем процедура повторяется. В этот раз что-то пошло не так. То ли щипчики плохо помыла, то ли слишком много резанула, только палец распух до чудовищных размеров, сначала покраснел, потом слегка посинел и болел невыносимо, превращая ходьбу в пытку. Я честно ждала, пока он сам пройдёт. Ждала день, ждала другой. Лучше не становилось. Муж и свекровь забеспокоились и предложили пойти к врачу. К какому врачу? Мы в Америке без году неделя, только что получили карточки медикейда (страховка для бедных), что делать и куда звонить – понятия не имеем. В итоге выяснили две вещи: во-первых, ноги, а особенно ногти, лечит врач podiatrist. Во-вторых, в стране рецессия, дотации на медикейд сократили, и услуги подиатриста наша страховка больше не покрывает.
Как же быть? А в ER, говорят, идите, лучше вечерочком, когда офисы врачей уже закрыты. Боль, скажите, нестерпимая, нужно срочно что-то сделать. Они помогут, вырежут, перевяжут, а медикейд оплатит.
Им там, в Брайтоне, хорошо советы давать – город, транспорт, больницы под боком. А мы в Медфорде автобус-то видим через два дня на третий, и ни один из них не ходит от нас до ближайшей больницы. Тут народ на машинах ездит; без машины в пригородах – никуда. Машина у нас будет, конечно, вот ещё несколько месяцев, и она у нас будет…
А пока я, поскуливая и прихрамывая, периодически повисая на терпеливом и сочувствующем муже, тащусь на морозе в восемь часов вечера в ЕR. Наконец мы у цели. Радости моей нет предела: господи, в тепло, на диван, задрать больную ногу, заодно и уставшую от двойных нагрузок здоровую, отогреться, отдохнуть, вылечиться, в конце концов. О том, что потом надо будет идти домой, я стараюсь не думать.
В любом случае домой я пойду уже вылеченной.
Тётенька в приёмной смотрит на меня как-то странно. Вросший ноготь? Медикейд? Хорошо, посидите.
Emergency room – «водосток» здешнего здравоохранения, прибежище бедных, которых в обычных врачебных кабинетах либо не принимают, либо принимают с доплатой. Еmergency – дело серьёзное по определению, там с бедняков денег не берут, вот и валят они, дождавшись темноты, в ER близлежащих больниц со своими проблемами – от воспаления среднего уха до всплеска задремавшей было гонореи. В городских больницах давно к этому привыкли и даже не пытаются как-то разобраться с проблемой.
Но то в городских. А мы – в Медфорде. Средний класс. Свои дома и машины. Светящиеся снеговики, разноцветные гирлянды, подстриженные газоны. В больнице – ни одного цветного лица. Белые, чопорные, похожие на ту тётку из «Полёта над гнездом кукушки», как её там, ей ещё Оскара дали. Чужииииие…
Но разве это важно? Я на диване, в тепле, могу и посидеть. Вон, по телевизору что-то про СССР показывают. Английский я ещё не шибко хорошо понимаю, то есть понимаю, если говорят мне и медленно, а по телевизору лопочут со скоростью брошенного стакана – не разбери-пойми-что. Зато один и тот же сюжет, много раз. Знаете, какой самый лучший способ научиться понимать американский телевизор? Смотреть CNN часами. Когда смотришь одно и то же с завидной периодичностью, то если не поймёшь с первого раза, то поймёшь с пятого, тем более что история с картинками. Вот показывают Горбачёва и Шеварднадзе. Когда я уезжала, он был ещё, кажется, министром иностранных дел. А теперь уже вроде нет. Или я опять прослушала? Ладно, скоро повторят сюжет.
Сюжет действительно повторяют. И ещё раз. И ещё раз. Я даже начинаю понимать, что они говорят. На часах десять, потом одиннадцать… Люди приходят и уходят, а я сижу.
Часа через три мы подходим к даме, сидящей на входе, и вежливо интересуемся, сколько ещё нужно ждать. Оглядев меня с ног до головы, она изрекает: «Ну что ж, вы ждёте уже достаточно, скоро вас позовут».
– Интересно, – спрашиваю у мужа. – Достаточно – это сколько?
– Не знаю, – пожимает он плечами. – Может, для болей в сердце достаточно десять минут, а для вросшего ногтя – три часа.
– Но тут больше никого нет! За всё время пришли три или четыре человека, и их уже давно вызвали.
– Ну откуда я знаю? Сказали «достаточно»…
Меня вызвали ещё через полчаса. Та же история: удивлённая чопорная медсестра, очередной час ожидания уже в палате на кровати. Около полуночи в комнату зашёл, наконец, врач, брезгливо взял в руку мой палец, покрутил и изрёк:
– Воспалились ткани вокруг вросшего ногтя. Вам нечего тут делать, езжайте домой, а утром идите к подаитристу.
– Я… я не могу домой, – испугалась я. – Я сюда пешком пришла, еле дошла, я обратно не дойду.
– Девушка, вам нечего делать в Emergency room; ничего срочного тут нет. Этим должен заниматься специалист по болезням ног. – На гладко выбритом, холёном лице начало проявляться раздражение.
– Я не могу, я не пойду, я не уйду отсюда! – Кажется, я уже визжала. – У меня медикейд, он не покрывает подаитриста вашего, у меня нет машины, я не могу ходить, мне сказали, что мне тут вырежут ноготь, я не уйду, я не пойду!
Я остановилась, чтобы перевести дыхание. Раздражение на лице доктора сменилось брезгливостью. На лице медсестры я увидела ужас. Мне было всё равно: не уйду, пусть режут.
– Сейчас я вырежу ваш ноготь, но запомните: в ER с такими проблемами не ходят, – холодно сказал врач и вышел.
Он скоро вернулся с кучей инструментов. Сделал мне очень болезненный укол – просто всадил шприц в палец, не особо заботясь, как и куда. Потом начал резать. Анестезия помогала плохо – то ли её было мало, то ли надо было ещё подождать. Я старалась не смотреть на ногу. Смотрела на мужа, на медсестру, на врача. Его лица не покидало выражение брезгливости. Какими-то огромными щипцами он быстренько оттяпал мне полногтя (я вскрикнула от боли), чем-то помазал, кое-как перевязал и отпустил с напутствием:
– Не приходите сюда больше!
Когда я допрыгала домой, было около двух часов ночи. Палец нещадно болел: отходила заморозка. Потом, через несколько дней, когда опухоль сойдёт и смоется кровь, я увижу, как изуродован большой палец. Ещё позже обнаружу, что ноготь теперь врастает не кончиком, у кромки пальца, а с самого основания, по всей длине. И вырезать его приходится почти целиком, и самой это делать трудно. Изуродованный палец воспаляется чаще.
Но это потом. А пока по телевизору показывают «Унесённых ветром», сна ни в одном глазу, нога болит, лекарств дома нет, как и денег на них. Я сажусь смотреть кино. На экране оголодавшая Вивьен Ли лихорадочно запихивает в рот какую-то еду. Потом встаёт, грязная, униженная, вроде бы наевшаяся, но неудовлетворённая, и бросает небесам:
«Я никогда больше не буду голодной!»