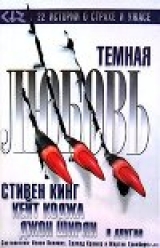
Текст книги "Темная любовь (антология)"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Ричард Карл Лаймон,Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Бэзил Коппер,Дэвид Джей Шоу,Карл Эдвард Вагнер,Нэнси Коллинз,Эд Горман,Джон Лутц,Кейт Коджа,Джон Ширли
Жанры:
Ужасы
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
"Я танцую", – шепчет она. А комната не изменилась, ни капельки, и свет такой же, как был, и запах даже, и, ясно, в спальне простыни на кровати мягкие, гладкие, нежно-алые. "Я захожу – и сразу танцую".
"Голая".
"В трусиках".
"Ветерок на трусиках", – и он отхлебывает из бокала. "А под эту песню станцуешь? Устроит тебя ритм?" И вдруг "О-о, Господи", – с ужасом, с отвращением, это она пальто расстегнула, – "Господи Боже, да ты глянь на себя. Тебе же к врачу надо, ты же кожа и кости!"
"А где же вечеринка? Или ты просто все подстроил?"
"Вечеринка тоже будет, только не здесь и не сейчас. Сейчас ты будешь танцевать только для меня. Может, ты и вправду хороша, может, я и на чай тебе дам… а чаевые брать – это у вас разрешается? Или это уже включается в счет?"
Она молчит. В мыслях – опять Адель, Адель в этой самой квартире, Адель выбирает цвет простыней и кровать выбирает, кровать, на которой, Эдвард говорил, потом занималась с ним любовью, до свадьбы с Алис, раньше, до помолвки еще, и – "как же она двигалась", – Эдвард все повторял, – "это что-то невероятное", и вдруг – "Расскажи мне про Адель", – она произносит это, а на губах – горчинка вина, жжет истресканный рот. Вино – светлое, и в нем кровь растворяется, бледнеет. "Расскажи мне – последний раз, когда ты ее видел, как это было?"
"И какое это имеет отношение?.."
"Ты просто расскажи", – все, что отвечает она.
Он начинает говорить, здесь это было, она приехала, нет, сначала мы поужинали, в шведском ресторанчике, маленький ресторанчик, пять-шесть столиков, никто в городе его не знает, но она, ясное дело, знала, но она всегда все знала. "Поужинали, – говорит он, – и домой. В койку".
"Сколько ей было лет?"
"Какая разница?"
"Сколько лет?"
"Знаешь, смотрю на тебя – и поверить не могу, что когда-то мог к тебе прикасаться. Теперь у меня такого желания бы уж точно не возникло".
"Сколько лет?" – и он говорит, сколько, в точности, как она подозревала, да нет – знала, это как у нее с ребятками, с мапет-принцами, точь-в-точь, а на одной из полок – и как она сразу не увидела – фотография Алели, может, лет тридцати, может, малость постарше, взгляд не колючий, спокойный, Медуза Горгона, царица древнего движения, извилистого, вдохновенного. "Допивай", – голос Эдварда доносится словно издалека, так с ней Адель говорит. "Допивай – и можешь уходить".
Мне что, уйти? – и Адель на фотографии, губами не шевеля, отвечает НЕТ, НЕТ, УХОДИТЬ НЕЛЬЗЯ, ВОТ ЭТОГО-ТО КАК РАЗ НЕЛЬЗЯ, и она тянется, и дотягивается до книжки, до "Я и Баланчин", из рюкзака вытягивает, в котором кассеты, в котором музыка, а у нее сегодня – своя, личная музыка, голос Адели, звенящий в голове, и Адель говорит – "Погляди на него", это она про Эдварда, весело говорит, со смешком, "погляди" – и она раздевается, туфли снимает, колготки, рубашку, юбку, и отбрасывает жестко, каждый раз – как удар, а Эдвард не смотрит, не хочет, говорит – ты больна. "Ты больна, – говорит Эдвард, – очень больна, тебе к доктору надо".
"Не надо мне доктора", – и лифчик – к чертям, плоские груди, как печеньица, тощая, как голодающие африканцы по телевизору, не надо музыки, она без музыки танцует, танец ее – другой, не из тех, что для работы, не из тех, что в одиночку у станка, что-то совсем, совсем другое, что-то из самой глубины, из костей, из сердца, и она танцует, ее колотит, пот льется по лицу, в рот попадает, а Эдвард застыл со стаканом в руке, глядит, глядит, а она говорит, о принце говорит, о принце, о хотя бы партнере, как искала, бродила, плутала, – она что, вслух говорит? – скажи мне, Адель, скажи, он знает? Можно его научить? Поймет он, скажи?..
ТЕЛО – ОНО НЕ ЛЖЕТ, говорит Адель. НО ОН В СВОЕ ТЕЛО ЗАКОВАН. ОН БЫЛ ВСЕГДА, ДЛЯ МЕНЯ – БЫЛ, ТОЛЬКО ОН ЗАКОВАН. ОН ДОЛЖЕН ОСВОБОДИТЬСЯ. Я ХОТЕЛА ПОМОЧЬ – НЕ ВЫШЛО. ПРИДЕТСЯ ПОПЫТАТЬСЯ ТЕБЕ. ПУСТЬ ОН БУДЕТ СВОБОДЕН.
"…ВСЕ, ты свободна", – говорит он, тело ее – как вихрь, нога взлетает, выше, еще выше, выше уровня плеча, нет, ты глянь, какие сухожилия, какая гибкость, какая растяжка! Есть же разница меж тяжестью и ветром, меж плотью и пером, между любовью и голодом, она говорит "Послушай", – говорит – ПОСЛУШАЙ МЕНЯ, и лицо Адели заливает светом, словно огненная роза на фотографии расцвела, свет из сердца рвется вовне, и она двумя руками сгребает с полок дурацкие статуэтки, яшму и хрусталь, лягушат и солдат – на пол их, что не на пол – те об стены, вверх-вниз осколки, блестят – сверкают, разбей все, пусть летит, пусть валится, а он орет, он рвется к ней, пытается схватить, словно к танцу пытается присоединиться, но нет, ОН ЗАКОВАН, я поняла, я знаю, кричит она Адели, лицу на блестящей картинке, "я все знаю", и он вновь подбирается к ней – и тогда она бьет, как можно сильнее бьет, ногой с размаху, ну, прямо каратистский удар, яростный, точно в пах, чтобы упал, чтоб повалился, чтобы валялся на полу, сжавшись, скорчившись, обхватив свой член, червяк красный, червяк на дороге, дергается в панике, в ужасе, в отсутствии земли.
ТЕЛО – ОНО НЕ ЛЖЕТ, говорит Адель.
И Эдвард захлебывается, задыхается влажным всхлипом, и тогда она бьет опять, еще, еще сильнее, сильнее, медленно бьет, неторопливо. "На пуанты", – шепчет она, и улыбается фотографии, поправляет пальцами резинку на костлявом крестце, бьет…
Бэзил Коппер
Блистание полированных лезвий
1Понедельник
Устраиваюсь понемногу. Комната не очень. Маленькая, грязноватая кровать на редкость бугристый матрас. Два пыльных окошка выходят в узкий проулок, и выступающие этажи домов напротив затемняют комнату, так что она кажется еще темнее и теснее. В разгар лета в ней, конечно, невыносимо душно, а зимой нестерпимо холодно. К счастью, жаркая пора уже позади, а до зимы я, возможно, перееду. Хозяйка пансиона, фрау Маугер, обделена красотой, и вид у нее алчный, однако на меня она смотрит как будто без особой злобности, а за комнату берет не чересчур дорого. Быть может, здесь произошло что-нибудь ужасное. Увидим. Надо будет поспрашивать других жильцов.
Пока я видел только высокую бледную девушку в темном платье. Волосы у нее стянуты в узел на затылке, что подчеркивает невзрачность ее лица. Она призраком проходит по коридору, останавливаясь, чтобы посмотреть по сторонам большими испуганными глазами. Меня ей бояться нечего: подобный тип меня совсем не привлекает. Когда я договаривался с фрау Маугер об условиях, она упомянула, что девушка эта – швея в одном из самых больших домов дамских мод в городе, но теперь болеет и вынуждена оставаться дома. Ей нечем платить врачу, и она опасается, что потеряет место.
Что же, такова нынешняя жизнь. Дела повсюду обстоят скверно. И Берлин, видимо, отличается от других городов только тем, что он больше и шумнее. Днем я некоторое время потратил на то, чтобы распаковать свои вещи. У меня всего лишь коричневый кожаный чемодан и большой бумажный пакет. Чемодан, хотя и потертый, отличного качества, и фрау Маугер, наверное, учла это ведь когда я только вошел, она посмотрела на меня с большим подозрением. Да, конечно, я ничем не примечателен и не привлекаю в толпе ничьего внимания, но, пожалуй, для выполнения того, что мне, может быть, придется сделать, это преимущество. Мое пальто поношено, каблуки стоптаны, но я попробую занять ваксы у соседа-жильца. Денег у меня немного, и расходовать их надо осмотрительно.
Я пишу эти заметки, чтобы запечатлевать мои мысли и действия, и впоследствии они могут оказаться важными. Не написать ли в газеты? В Кельне, где я оставался три месяца, это вызвало некоторое внимание. К счастью, знакомый предупредил меня, что полицию заинтересовали мои крамольные взгляды, и я вовремя уехал. Здесь следует быть осторожнее и ни в коем случае не привлекать к себе излишнего внимания. Во всяком случае, сначала. Отец всегда говорил, что я обладаю сверхъестественной хитростью, что я способен предвидеть то, что еще только произойдет. Бедняга. Какой трагичной была его смерть! И никто не сумел понять, как это произошло.
К голой штукатурке стены возле моей кровати пришпилен пропыленный календарь. По какой-то причине листки первых месяцев не были оторваны. Я их оторвал и использую обороты как писчую бумагу для моих беглых заметок. Теперь я чувствую себя много лучше и открыл дальнее окно, чтобы легкий ветерок освежил духоту комнаты. Сразу стало приятнее. Встав на один из набитых конским волосом стульев – их в комнате изобилие, – я вижу мощенный булыжником проулок внизу и провожаю взглядом нескольких прохожих.
Теперь я вернулся к кровати, делаю пометки на календаре и довожу его до нынешнего дня. Все предыдущие я зачеркнул, а понедельник обвел кружком, так что знаю, где я теперь. Хотел бы я знать, почему никому не удается ухватить время и вынудить его остановиться – или вернуть те или иные события, как можно проделать в уме? Надо думать, мудрецы и ученые нашего общества должны бы располагать убедительными и несложными объяснениями. Мне это представляется таким простым, тем не менее указанный процесс постоянно от них ускользает.
Перестаю писать. Дело близится к вечеру, запах капустного супа медленно пропитывает воздух. И я понимаю, что очень голоден. Я ничего не ел после завтрака – двух крохотных булочек и чашки скверного, плохо промолотого кофе. Достаю бумажник и кошелек из искусственной кожи. Запираю дверь изнутри и пересчитываю свои денежные ресурсы. На ближайшее время марок достаточно, ну, а дальше? Остаться на вечер дома и попробовать здешнюю стряпню? Пожалуй, не стоит. Ароматы, поднимающиеся из кухни, мало соблазнительны для такого привереды, как я. Но надо быть осторожным. Небольшое кафе на тихой улице и еда попроще. Во всяком случае пока.
Пожалуй, завтракать я могу тут; обедать всухомятку, а что-нибудь существенное приберегать для вечера. Посмотрим. Но мне надо следить за здоровьем. Катрин говорила, что я выгляжу чересчур тощим и испитым даже для студента-медика. Где-то она теперь? Милая девушка, хотя и сама худышка. Но она помогла мне в решающую минуту и сделала мое пребывание в Кельне гораздо приятнее, чем оно иначе было бы.
Голова еще побаливает. Вероятно, виновато сквернейшее вино, которое вчера вечером я выпил на Bahnhof.[3]3
вокзал (нем.)
[Закрыть] Самое дешевое, какое там имелось, конечно, но выгадывать на вине и тому подобном – плохая экономия. Пища не столь важна, поскольку у молодых людей пищеварительная система на редкость вынослива, но скверное вино вызывает головную боль и сильно расстраивает нервы. Прибрав комнату, я зажигаю лампу и осматриваюсь с некоторым удовлетворением. Да, она выглядит более цивилизованной теперь, когда почти все мои вещи расставлены и разложены по местам, благо их мало.
Фитиль горит ровно, но я встряхиваю лампу и убеждаюсь, что керосина в ней почти нет. Снаружи еще светло, однако здесь почти полная темнота, и мне понадобится лампа, чтобы делать заметки и читать. Надо попросить фрау Маугер либо налить в нее керосина, либо разрешить мне держать небольшой его запас в одной из металлических канистр, которые, как я заметил, хранятся у нее в кладовой. На них на всех белой краской написаны номера. Несомненно, номера комнат. Всего их двенадцать. Так что если все комнаты заняты, жильцов должно быть двенадцать. Возможно, это будет иметь значение.
Теперь я кладу мой чемодан на кровать, открываю его и осматриваю содержимое с большим тщанием. К счастью, замки у него очень крепкие и не стандартного образца, так что можно не опасаться за него, если кто-нибудь войдет в комнату во время моего отсутствия. У фрау Маугер, разумеется, есть ключ, и служанка будет убирать комнату, а потому мне надо следить, чтобы мои записи были хорошо спрятаны. Надежные замки – вот решение вопроса. Они обеспечивают укромность и скрывают от посторонних глаз то, что для них не предназначено. А меблированные комнаты и пансионы изобилуют любителями совать нос не в свои дела. У меня был друг… но я отвлекся. История очень длинная и отнимет слишком много времени и бумаги, если я запишу ее сейчас. Быть может, когда-нибудь, когда я прославлюсь, я даже напечатаю ее. Она, бесспорно, заслуживает того, чтобы ее рассказать – ее могут даже счесть чересчур неправдоподобной для вымысла.
В углу комнаты я заметил занавесочку. Подхожу к ней и отдергиваю. Никак не ожидал. Ниша с засиженным мухами зеркалом на задней стене. А под ним каменная раковина со стоком. А над ней – большой медный кран. Поворачиваю его, и вырывается струя холодной воды. Какая роскошь для подобного места! Я буду заниматься своим туалетом в полном уединении! А горячую воду для бритья, несомненно, можно будет брать внизу. Горячая вода мне необходима, так как моя горлорезка затупилась, а я еще не испробовал новые типы безопасных бритв. Говорят, что кожа должна к ним привыкнуть.
Снова сажусь на кровать. Итак, денег у меня достаточно на несколько недель, если я буду осмотрителен в расходах. А тогда посмотрим. Я знаю, как получить еще, но на этот раз необходима сугубая осторожность. Дело в Кельне страшно меня напугало, можете мне поверить. Я вздрагиваю при одном воспоминании. Если бы не старуха, никто ничего не знал бы. Но кто бы мог подумать, что зрение и слух у нее такие острые? Однако моя, как говаривал отец, "природная хитрость" вновь меня выручила. Тем не менее нельзя забывать, что полагаться на удачу не следует. Приходится сочетать необходимость с крайней осторожностью.
Снова встаю и разглядываю себя в зеркале, поднеся лампу поближе. Нет, облик, который я вижу там, не так уж плох. Я не красавец, это бесспорно. Но вид у меня достаточно респектабельный. И когда я быстро умоюсь с помощью обмылка в металлической мыльнице и вытрусь застиранным полотенцем, то ничем не буду выделяться в толпе. А в Берлине толп полно, слава Богу.
Меня осеняет мысль, хотя фраза эта прозвучала только у меня в голове. Зачем упоминать моего Творца, если я в Него не верую? Любопытно. Но, возможно, действует лишь сила привычки, лишь то, что вдалбливали тебе родители с первых лет твоей жизни? Как мир смахивает на железную дыбу! Чем больше растягиваешься в попытке вырваться, тем больше тебя растягивают, и жгучая, рвущая тебя на части пытка продолжается.
Надо сохранять хладнокровие. Когда я отдаюсь подобным мыслям, то иногда вслух облекаю их в слова, а в подобном заведении, где стены тонкие, а половицы прибиты кое-как, это опасно. Я подхожу к умывальнику, открываю кран и погружаю лихорадочно горящее лицо в благословенную прохладу воды. Так-то лучше! Головная боль и остатки винных паров исчезают почти бесследно. Я готовлюсь покинуть комнату, но сначала провожу заключительную проверку, все ли в порядке. Необходимо найти маленькое кафе в укромном переулке, где я не буду привлекать ничьего внимания.
Однако не чересчур укромном, иначе мой замысел окажется неисполнимым. Вот что станет решающим, когда я подыщу что-нибудь подходящее. И я узнаю такое место, как всегда. Мой безошибочный глаз, как говаривала моя мать. Нагибаюсь пополировать башмаки краем скатерти. Последний взгляд вокруг, и я открываю дверь на убогую лестничную площадку с убогим половиком и выцветшими религиозными литографиями на стенах. Возвращаюсь к столу, гашу лампу, наслаждаясь резким запахом керосина и нагретого металла, а затем тщательно запираю дверь. Я улыбаюсь, подумав о фрау Маугер. Она не спросила, как я зарабатываю на жизнь. Этот вопрос мог бы посеять тревогу не только в ней, но и во мне.
Кладу ключ в карман и спускаюсь по скрипящим ступенькам. Я никого не вижу, хотя из какой-то комнаты на первом этаже доносится ропот голосов. Выхожу через боковую дверь, быстро шагаю по проулку, и меня поглощают катящиеся людские валы берлинского предместья.
2Я нашел идеальное место – небольшое кафе, втиснутое среди узкогрудых зданий в тихом переулке, но совсем рядом с одной из главных магистралей. Оно словно создано для моих целей. Достаточно большое, чтобы затеряться среди других клиентов, но и достаточно маленькое, чтобы высмотреть подозрительных субъектов за соседними столиками. Видимо, в основном его посещают семьи с детьми и мало преуспевающие коммивояжеры. Я их сразу распознаю – главным образом по пришибленности и стареньким чемоданчикам с образчиками, которые они с такой нелепой бережностью ставят под свои стулья. Никаких женщин, одиноко сидящих за столиком. Коммивояжеры с их уныло-безнадежными лицами и запавшими глазами напоминают мне, насколько я счастлив, что свободен от подобного рабства. Свободен заниматься своим искусством, свободен путешествовать – то есть когда я при деньгах, свободен выбирать своих друзей, особенно женщин. Я мог бы долго рассуждать на эту тему, но вести этот дневник я решил настолько холодно профессионально, насколько сумею. Мое место в окне этого маленького заведения позволяет без помех наблюдать движущийся мимо нескончаемый спектакль. Непрерывный поток всевозможных людей – молодых и старых, мужчин и женщин, детей, девушек, бродяг и бездомных, – которые движутся медленными волнами по ту сторону кружевной оконной занавески, из-за которой я могу разглядывать их, оставаясь незамеченным.
Мой взгляд останавливает девушка. Она высока, прекрасно сложена, а длинное платье чудесно обрисовывает ее бюст. Длинные каштановые волосы под шляпкой зачесаны назад от широкого гладкого лба. Я дал бы ей не больше двадцати – двадцати двух лет. Несколько раз она проходит туда-сюда в людских валах, катящихся мимо моего окна, не подозревая о моем пристальном взгляде из-за спасительной занавески. Просто прогуливается, как большинство в текущем мимо потоке? Или у нее есть цель? Может быть, встреча с подругой или с кем-то противоположного пола? Во всяком случае, она не проститутка. Этот тип я знаю очень хорошо, а ей присущи все признаки принадлежности к респектабельным труженицам.
Я уже живо заинтересовался, но тут от наблюдений меня отвлек официант, юнец с землистым лицом и очень заметными сальными пятнами на белой рубашке. Мое раздражение возрастает, потому что девушка больше не появляется перед моим окном. Но я скрываю свои чувства за внешним безразличием и заказываю свои любимые сосиски, которые подаются с горкой вареного картофеля. Я дерзаю заказать к ним стакан красного вина, наличие которого подтверждается прошлым опытом. С наслаждением принимаюсь за еду, а затем, утолив первый голод и испытывая теплоту от вина, вновь возвращаюсь к своему наблюдению, но почему-то радость от него угасла. Исчезновение девушки, на которой я сосредоточил внимание, что-то изменило.
Теперь, пока я ужинаю, а клиенты входят в кафе и покидают его, я начинаю поглядывать на людей за соседними столиками. Рядом со мной – трое мужчин грубого вида, чьи пестроклетчатые костюмы и жирные откормленные физиономии открывают моему напрактикованному взгляду, что они коммивояжеры преуспевающего типа. Теперь я внимательно слежу за ними и замечаю пухлый бумажник. Который вытаскивает один из них. Они слегка навеселе, и я также замечаю, что перед каждым стоит графинчик красного вина и что тот же официант с землистым лицом время от времени восстанавливает уровень вина в графинчиках.
Говорят они больше о делах. Подробности я пропускаю мимо ушей, но напрягаю слух, когда они понижают голоса, чтобы отпустить грубую шуточку на счет той или иной привлекательной женщины, которая проходит за окном. К этому времени я уже разложил их по полочкам и подгадываю так, чтобы выйти из кафе одновременно с этой сомнительной троицей. Их побагровевшие лица и громкие голоса уже привлекают внимание других посетителей. Apfelstrudel[4]4
яблочный пирог (нем.)
[Закрыть] просто восхитителен, и в миг бесшабашности я заказываю еще кусок ко второй чашке крепкого сладкого кофе – специальности этого заведения.
Наконец обед завершается, и я трачу минуту-другую на изучение счета в ожидании, чтобы соседняя компания встала из-за столика. Я отсчитываю требуемую сумму из кошелька и оставляю маленькие чаевые для официанта, который как-никак обслуживал меня отлично. Завтра я опять сюда приду. Троица встает и на заплетающихся ногах направляется между столиками к кассе, где восседает ледяного обличия матрона с совершенно белыми волосами, облаченная в строгое черное платье, а на жалящего вида металлическом стерженьке у ее локтя распяты уплаченные счета.
Мой друг, стоя в очереди передо мной, извлекает свой пухлый бумажник и гогочет над какой-то шуткой своих приятелей. Он широко взмахивает рукой, и я наталкиваюсь на него будто случайно и хватаюсь за его локоть. Проделано это безупречно – я очень горд своим профессионализмом в такие моменты. Он бормочет ругательство, так как бумажник падает на пол, извергая веер банкнот. С невнятным извинением я нагибаюсь, подбираю бумажник и вручаю его с дальнейшими вежливыми сожалениями. Он добродушно кивает. Секундная тревога, когда он начинает перебирать содержимое бумажника, но он просто ищет бумажку нужной деноминации для уплаты по счету.
Я уплачиваю по своему счету и торопливо выхожу, огибая троицу, которая на тротуаре громогласно обсуждает планы на вечер. Я присоединяюсь, к движущимся толпам, хотя, в отличие от них, не покидаю переулка, пока не убеждаюсь, что мои сотрапезники удалились в противоположную сторону, а тогда двигаюсь с волной, наслаждаясь непривычной роскошью полнейшего душевного спокойствия, разглядывая прохожих, особенно женщин, и стараясь разгадать их занятия. Измученные продавщицы, чьи замороженные лица светятся радостью, потому что временно они освободились от своей кабалы; усатые отцы семейства с дородными супругами и тоненькими дочерями; маленькие мальчики, гоняющие железные обручи между прохожими, и нищие неизбежные нищие обоего пола, – пристроившиеся у слепых стен между магазинами. Продавцы спичек, искалеченные отставные солдаты – один полулежит в самодельной деревянной тележке, которую везет пожилая женщина, возможно, его мать, а его культи, слава Богу, укрыты одеялом.
Я пускаю монетку в его шапку и торопливо отхожу, чтобы избежать его пристыженных благодарностей. Теперь я могу позволить себе быть щедрее. Мои пальцы нащупывают в кармане хрустящую пачечку, но я сдерживаю нетерпение до того, как вернусь к себе. Затем огибаю угол в конце переулка. Там стоит та девушка, беспомощно озираясь. Я спокойно ее разглядываю, делая вид, будто заинтересовался витриной скобяной лавки. Там за штабелем цинковых ведер висят зеркала, и с моего места я вижу девушку очень ясно. Она выглядит даже еще более желанной, чем тогда за окном кафе.
Она стояла в растерянности, сжимая и разжимая кулачки в белых перчатках все время, пока я наблюдал за ней. Затем она повернулась на каблуках, словно приняв решение, и направилась к людной улице. Я последовал за ней на разумном расстоянии так, чтобы нас все время разделяли другие прохожие, останавливался, когда останавливалась она, делая вид, будто рассматриваю витрины. Хотя не думаю, что такие предосторожности были необходимы. Она не замечала моего присутствия, как не замечала никого вокруг.
Мы кружили, наверное, больше часа, хотя время перестало существовать. Уже смеркалось, и фонарщики зажигали уличные фонари, когда я вдруг обнаружил, что мы вновь оказались возле кафе, где я обедал. Я стоял всего в нескольких шагах от нее на противоположном тротуаре, но вполне мог быть невидимкой – она ни разу даже не взглянула в мою сторону. Затем внезапно среди толп, медленно редеющих в сумерках, раздался топот бегущих ног. Молодой человек, без шляпы, чьи темные волосы блестели в свете фонарей, кинулся к девушке и порывисто заключил ее в объятия. Прохожие с любопытством смотрели на них, но юная парочка никого и ничего не замечала.
Были слезы и бессвязные извинения. Видимо, он явился на свидание с опозданием в несколько часов. Затем они скрылись в медленно движущейся толпе, и я отвернулся, а в сердце у меня ярость мешалась с разочарованием. Между мной и полной народа улицей будто повисла завеса. Позднее я вдруг оказался на проспекте и наконец различил вдали массивные очертания Бранденбургских ворот. И тут я почувствовал, что ел уже давно, а потому остановился у кулинарной лавки и купил себе на ужин два больших пирожка со свининой и две сладкие булочки.
С ними я вернулся в пансион фрау Маугер. Когда я открыл боковую дверь, то никого не увидел. Из комнат опять доносились голоса, и щелки под дверями светились, но нигде никакого движения. В кладовке бледно горели газовые рожки, и я воспользовался удобным случаем забрать керосиновую канистру с номером моей комнаты. К счастью, она оказалась наполовину полной, и я поднялся с ней по лестнице. Газовый свет выбелил лестничную площадку, а потому я без труда нашел маленькую замочную скважину в моей двери. Дверь я оставил открытой, пока наливал керосин в лампу и зажигал ее, а затем поставил канистру в угловой шкаф, из которого пахнуло сыростью и плесенью.
Заперев дверь и задернув занавески, я вымыл руки под краном в нише и сел в одно из мягких кресел заняться своей добычей. Пересчитывая банкноты, я увидел в зеркале свое возбужденное лицо. Более четырех тысяч марок! Невероятная сумма за пятисекундную работу! На эти деньги вместе с теми, которые у меня есть, я смогу прожить месяцы и месяцы. Можно сосредоточиться на моем великом труде, не беспокоясь более о стоимости крова над головой и еды. Возможно, даже выкроится время для какого-нибудь любовного приключения. Мне не удавалось выкинуть из памяти милое лицо девушки, ожидавшей в переулке. Возможно, я увижу ее завтра или послезавтра.
Я убрал заметки в кожаный нательный пояс и сел за свой одинокий ужин, который съел с большим удовольствием. Кончив, я расслабился на краю кровати, занятый бурлящими в голове мыслями. Отвлек меня звон курантов, пробивших полночь на угловой колокольне. Я быстро разделся, перенес лампу на тумбочку, погасил ее и забрался под одеяло. Через три минуты я погрузился в сон без сновидений.








