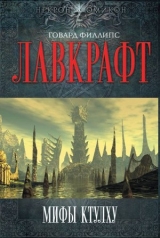
Текст книги "Мифы Ктулху"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Говард Филлипс Лавкрафт,Роберт Альберт Блох,Филип Хосе Фармер,Роберт Ирвин Говард,Брайан Ламли,Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Август Дерлет,Фриц Ройтер Лейбер,Фрэнк Лонг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 44 страниц)
– Зачем я вообще с вами разговариваю? – недоумевал Эрхарт. – Я же прекрасно знаю, что ни один университетский профессор не мыслит широко и непредвзято, и все до одного, с кем я имел дело, меня предавали! Наверное, мне хочется верить, что вы окажетесь исключением и сумеете постичь истину, о которой я толкую. Но с какой стати мне так уж надо ее обнародовать, раз я все равно умру, как и все прочие? Глупо, не так ли? Однако ж мы – создания неразумные. Мы живем и действуем, повинуясь неразумному рефлексу оптимизма – чистой воды рефлексу, говорю я: вот точно так же и колено дернется, если по нему ударить. Полная нелепость, не так ли? И однако ж мы ею живем.
Полковник произвел на меня глубочайшее впечатление – невзирая на всю мою убежденность, что он слегка не в себе. Ума ему, во всяком случае, было не занимать.
Он продолжал объяснить: ллойгор, далеко превосходившие людей могуществом, осознавали также, что в этой Вселенной оптимизм нелеп и смешон. Их разумы представляли собой неразделимое единство, а не набор разрозненных отсеков, как у нас. Для них не существовало различия между сознанием, подсознанием и сверхсознанием. Поэтому они ясно прозревали суть вещей в любое время, не будучи в состоянии ни отвлечься от истины, ни позабыть о ней. С точки зрения психики наиболее близкий к ним аналог – это какой-нибудь суицидальный романтик XIX века, погруженный в беспросветное уныние, убежденный, что жизнь – это сущий ад, и принимающий этот постулат за основу повседневной рутины. То, что буддисты в своем безысходном пессимизме напоминают ллойгор, Эрхарт отрицал – и не только из-за концепции нирваны, которая предлагает своего рода абсолют, равнозначный христианскому Богу, но еще и потому, что буддист на самом-то деле отнюдь не живет в непрестанном размышлении о собственном пессимизме. Буддист принимает его разумом, но отнюдь не ощущает каждой клеточкой своего существа. А ллойгор пессимизмом живут.
К несчастью – и здесь я понимал своего собеседника с большим трудом, – Земле подобный пессимизм не подходит – на субатомном уровне. Это молодая планета. Все энергетические процессы пока еще, так сказать, на подъеме; они эволюционируют, стремятся к комплексификации и, следовательно, к уничтожению негативных сил. Простейший тому пример: многие поэты-романтики ушли из жизни совсем молодыми – разрушительных элементов Земля не терпит.
Отсюда легенда, согласно которой ллойгор создали людей как своих рабов. Ибо зачем бы всемогущим существам – рабы? Да только в силу активной враждебности самой Земли, если можно так выразиться. Ллойгор нуждались в существах, функционирующих на основе оптимизма, чтобы противостоять этой враждебности и осуществлять простейшие замыслы своих хозяев. Так были созданы люди – нарочито недалекие, неспособные к сосредоточенному созерцанию самоочевидных истин о Вселенной.
Что произошло дальше – это чистой воды нелепость. Ллойгор, живя на Земле, неуклонно слабели. По словам Эрхарта, ни в одном документе не объясняется, почему ллойгор покинули свой дом, расположенный, вероятно, в туманности Андромеды. Они становились силой все менее и менее активной. И власть захватили их рабы – от них-то и происходит современный человек. Наакальские таблички и другие артефакты континента Му, сохранившиеся до наших дней, созданы руками этих людей, а вовсе не исконных «богов». Земля благоволила эволюции своих нескладных детей-оптимистов и ослабляла ллойгор. Тем не менее эти древние стихии никуда не делись. Они отступили, ушли под землю и в морские глубины, дабы сосредоточить свое могущество в камнях и скалах, обычный обмен веществ которых они сумели повернуть вспять. Это позволило им удержаться на Земле на многие тысячи лет. Время от времени они накапливали достаточно энергии, чтобы снова прорваться в жизнь людей, и в результате были уничтожены целые города. А один раз даже весь континент – собственно, Му; а еще позже – Атлантиду. Особенно же неистовствовали они там, где находили следы своих былых рабов. Именно они отвечают за множество археологических загадок: гигантские разрушенные города Южной Америки, Камбоджи, Бирмы, Цейлона, Северной Африки и даже Италии – вот результат их вмешательства. А также, если верить Эрхарту – колоссальные руины двух городов Северной Америки: это Грюден-Ица, ныне погребенный в болотах под Новым Орлеаном, и Нам-Эргест, цветущий град, что некогда высился на том самом месте, где ныне разверзся Большой каньон. По словам Эрхарта, Большой каньон возник не в результате размывания и выветривания, но вследствие грандиозного подземного взрыва, за которым последовал «огненный град». Полковник предполагает, что, подобно великому взрыву в Сибири, вызван он был чем-то вроде атомной бомбы. На мой вопрос, почему в окрестностях Большого каньона не осталось никаких характерных следов, Эрхарт дал два ответа: во-первых, все произошло так давно, что все приметы и признаки по большей части были уничтожены в силу естественных факторов, и, во-вторых, любому непредвзятому наблюдателю самоочевидно, что Большой каньон – это не что иное, как громадный несимметричный кратер.
Спустя два часа таких разговоров и нескольких порций превосходного виски в голове у меня все настолько смешалось, что я напрочь позабыл все вопросы, которые собирался задать. Я сказал, что должен выспаться и хорошенько все обдумать, и полковник предложил подвезти меня до гостиницы на своей машине. Уже усаживаясь на пассажирское сиденье допотопного «роллс-ройса», я внезапно вспомнил один из своих вопросов.
– А что вы имели в виду, говоря, что валлийцы – это уцелевшие жители континента Му?
– Да ровно то, что сказал. Я уверен – и доказательства у меня есть! – что валлийцы – это потомки рабов ллойгор.
– Какие такие доказательства?
– Самые разные. На разъяснения потребуется еще час по меньшей мере.
– Ну хотя бы намекните!
– Хорошо. Загляните утром в газету. И расскажете мне, что вас больше всего поразило.
– Но на что мне обратить внимание?
Мое упорное нежелание смириться с принципом «поживем – увидим» полковника немало позабавило. А чего он, собственно, хотел? У стариков терпения еще меньше, чем у детей.
– На криминальную статистику.
– Может быть, вы все же расскажете подробнее?
– Ну хорошо.
Мы уже припарковались перед гостиницей; снаружи по-прежнему лило как из ведра. В час столь поздний на улице царило безмолвие: слышался лишь шорох дождевых капель да бульканье воды в сточных канавах.
– Вы обнаружите, что уровень преступности в этой области в три раза выше, нежели в остальной части Англии. Показатели столь высоки, что публикуют их крайне редко. Убийства, проявления жестокости, насилие, всевозможные сексуальные извращения – по количеству подобных преступлений здешний край стоит на первом месте в статистике Британских островов.
– Но почему?
– Я же объяснил. Ллойгор собираются с силами – и то и дело возвращаются.
И, давая понять, что ему не терпится домой, полковник перегнулся вперед и открыл мне дверь машины. Не успел я дойти до дверей гостиницы, как он уже исчез в ночи.
Я спросил дежурного администратора, нельзя ли одолжить у него местную газету; он принес мне последний номер из своей каморки и заверил, что возвращать его не нужно. Я поднялся в свой промозглый номер, разделся, забрался под одеяло – в постели обнаружилась грелка. Я наискосок проглядел газету. На первый взгляд заявлений Эрхарта ничего не подтверждало. Заголовок через всю первую полосу сообщал о забастовке на местной верфи, в передовицах речь шла о выставке рогатого скота и об обвинении ее судей во взяточничестве, а также о спортсменке из Саутпорта, едва не побившей мировой рекорд по плаванию через Ла-Манш. В середине номера приводилась редакционная статья на тему соблюдении воскресного дня. Словом, абсолютно безобидная подборка.
А затем я заметил, что промеж спортивных новостей или в разделе объявлений тут и там запрятаны небольшие заметочки мелким шрифтом. В водохранилище на Брин-Маура обнаружено безголовое тело; в нем предположительно опознали девочку-подростка с лландалффенской фермы. Четырнадцатилетнего подростка направили в исправительно-трудовую колонию за нанесение многочисленных увечий овцам при помощи топора. Некий фермер подал прошение о разводе на том основании, что его жена якобы одержима страстью к своему слабоумному пасынку. Приходской священник приговорен к году тюремного заключения за посягательства на мальчиков-певчих. Отец убил собственную дочь и ее парня на почве ревности. Житель дома престарелых сжег заживо двух своих соседей: налил им в постели керосина и поднес спичку. Двенадцатилетний мальчик угостил своих семилетних сестер-близняшек мороженым с крысиным ядом; в суде по делам несовершеннолетних он то и дело разражался неудержимым хохотом. (Дети, по счастью, выжили, отделавшись лишь болями в желудке.) В короткой статье говорилось, что полиция задержала подозреваемого по делу о трех убийствах на Лаверз-лейн.
Я перечисляю все эти новости в том порядке, в каком их прочел. Что за хроника для мирной сельской местности – даже если допустить, что неподалеку находятся Саутпорт и Кардифф с их крайне неблагополучной криминальной ситуацией! Да, в сравнении с большинством американских городов все не так уж и страшно. Даже Шарлоттсвилл может «похвастаться» досье преступлений, которое в Англии сочли бы небывалым разгулом преступности. Перед тем как заснуть, я надел халат, спустился в гостиную, где еще днем углядел справочник «Уитакер», и просмотрел данные по криминальной статистике Великобритании. Всего-навсего 166 убийств в 1967 году – три убийства на миллион жителей; статистика убийств в Америке раз этак в двадцать выше. И однако ж здесь, в одном отдельно взятом номере провинциальной газетенки, я обнаружил упоминания о целых девяти убийствах – хотя надо признать, что некоторые из них датировались задним числом. (Так, хроника смертей на Лаверз-лейн растянулась по времени на восемнадцать месяцев.)
В ту ночь спал я прескверно; мысли мои то и дело возвращались к незримым монстрам, чудовищным катаклизмам, садистам-убийцам, одержимым подросткам. Каким же облегчением стали для меня по пробуждении яркий солнечный свет и утренняя чашка чая!
Тем не менее я осознал, что украдкой поглядываю на горничную – бледненькую худышку с тусклым взглядом и свалявшимися волосами – и гадаю, вследствие какого противоестественного союза она появилась на свет. Я попросил подать мне в номер и завтрак, и утреннюю газету и с нездоровым интересом погрузился в чтение.
И опять новости более жуткие аккуратно запрятывались в неброские заметки. Двое одиннадцатилетних школьников обвинялись в причастности к убийству девушки, найденной обезглавленной, но оба клялись и божились, что голову жертве отрезал некий бродяга «с горящим взглядом». Аптекарь из Саутпорта был вынужден отказаться от должности в городском совете, будучи обвинен в растлении своей четырнадцатилетней ассистентки.
Обнаружились улики, свидетельствующие, что некая ныне покойная повитуха зарабатывала на доверенных ей младенцах в лучших традициях зловещей миссис Дайер [124]124
Амелия Элизабет Дайер(1829–1896) – одна из самых известных серийных убийц викторианской Англии; брала на попечение младенцев за плату и топила их в Темзе.
[Закрыть]из Ридинга. Старухе из Ллангума нанес серьезные травмы какой-то человек, обвиняющий ее в колдовстве – что ее-де происками дети рождались калеками. Совершено покушение на мэра Чепстоу; мотив – какая-то застарелая обида… Более половины списка я опускаю: все эти преступления столь же скучны, сколь и омерзительны.
Разумеется, все эти мрачные размышления о преступности и извращениях постепенно начинали сказываться на моем мироощущении. Мне всегда нравились валлийцы – миниатюрные, темноволосые, бледнокожие. Теперь я смотрел на них точно на троглодитов, пытаясь прочесть в их глазах свидетельства тайных пороков. И чем больше вглядывался – тем больше таких признаков находил. Я вдруг осознал, как много слов начинаются с двойного «л», от «Ллойдз-банка» до Лландидно, и с содроганием вспомнил о ллойгор. (Между прочим, слово показалось мне знакомым – и я отыскал его на двести пятьдесят восьмой странице лавкрафтовского сборника «Комната с заколоченными ставнями»: так именовалось божество, «что блуждает путями ветров среди звездных пространств». Отыскал я и Темное божество именем Гхатанотхоа, хотя оно и не числилось главою «обитателей звезд».)
До чего же это невыносимо – гулять по солнечным улицам, видеть, как сельский люд занимается повседневными делами, как хозяйки ходят за покупками и сюсюкают с младенцами друг дружки, и хранить в груди свой ужасный секрет, который между тем так и рвется наружу. Мне хотелось списать все услышанное на ночной кошмар, на вымысел полупомешанного ученого, но приходилось признать, что все это логически согласуется с рукописью Войнича и пантеоном лавкрафтовских богов. Да, сомневаться не приходилось: и Лавкрафт, и Мейчен просто-напросто имели частичный доступ к древнему преданию, что, возможно, существовало еще до известных нам цивилизаций.
Единственной альтернативой такому объяснению была прихотливая литературная мистификация, совместно подготовленная Мейченом, Лавкрафтом и Войничем (который в таком случае и подделал документ). Такое, конечно же, невозможно. Но первая гипотеза – это же ужас что такое! Как прикажете мне в нее поверить – и сохранить здравый рассудок, здесь, на залитой солнцем центральной улице, пока в ушах у меня звучит напевная валлийская речь? Мир темный и недобрый и настолько отличный от нашего, что люди даже попытаться понять его не в состоянии: чужеродные стихии, действия которых представляются неописуемо жестокой местью и которые, однако же, всего лишь движимы абстрактными законами своего бытия, которых нам вовеки не постичь. Эрхарт, с его лицом рептилии и угрюмым интеллектом. А главное – незримые силы подчиняют себе умы всех этих ни в чем не повинных людей вокруг меня, развращают их, искажают и растлевают.
Я уже решил, чем займусь в течение дня. Попрошу мистера Ивенса свозить меня к Сумеречным холмам, упомянутым у Мейчена, сделаю снимок-другой, осторожно наведу справки. У меня с собой и компас имеется – в Америке я его всегда держу в машине на случай, если вдруг заблужусь.
Перед гаражом мистера Ивенса собралась небольшая толпа; тут же припарковалась машина «скорой помощи». На моих глазах двое санитаров вышли из дома, таща носилки. Мистер Ивенс мрачно наблюдал за зеваками из небольшой автомастерской, примыкающей к гаражу.
– Что случилось? – полюбопытствовал я.
– Да парень со второго этажа ночью с собой покончил. Газом траванулся.
«Скорая помощь» отъехала.
– А вам не кажется, что в здешних краях уж больно много всего такого? – осведомился я.
– Чего такого?
– Ну, самоубийств, убийств и все такое прочее. Ваша местная газета ими просто пестрит.
– Да, пожалуй. Уж эти мне современные подростки! Творят что хотят.
Я понял, что продолжать эту тему нет смысла. И спросил, свободен ли он и не свозит ли меня в Сумеречные холмы. Мистер Ивенс покачал головой.
– Я пообещал никуда не уходить, чтобы дать показания полиции. Но вы можете сами взять машину, если хотите.
Так что я купил карту области и сам сел за руль. Я остановился минут на десять полюбоваться средневековым мостом, упомянутым у Мейчена, а затем неспешно покатил на север. Утро выдалось ветреным, но не холодным; в солнечном свете ландшафт смотрелся совсем иначе, чем накануне. И хотя я внимательно высматривал приметы мейченовских Сумеречных холмов, я не находил в отрадном, полого-волнистом ландшафте ровным счетом ничего, что бы отвечало такому определению. Вскорости мимо промелькнул указатель: до Абергавенни – десять миль. Я решил ненадолго завернуть и туда. К тому времени, как я там оказался, солнце уже настолько разогнало ночные химеры в моем сознании, что я объехал городок кругом (в архитектурном отношении – ничего особенного!), а затем пешком поднялся вверх по склону, полюбоваться на разрушенный замок. По пути я потолковал с парой местных жителей, что видом своим смахивали скорее на англичан, нежели на валлийцев. В самом деле, городишко этот находится не так уж и далеко от долины реки Северн и Шропшира, воспетого А. Э. Хаусменом. [125]125
Альфред Эдуард Хаусмен(1859–1936) – английский поэт (прославившийся, в частности, сборником стихотворений «Шропширский парень») и крупный специалист в области античной культуры.
[Закрыть]
Но я поневоле вновь вспомнил про миф о ллойгор – благодаря двум-трем фразам в местном путеводителе касательно Уильяма де Браоза, лорда Брихейниога (или Брекона), «чья зловещая тень нависает над прошлым Абергавенни» и чьи «гнусные деяния», по всей видимости, шокировали даже необузданных англичан XII века. Я мысленно взял на заметку спросить у Эрхарта, как давно ллойгор обосновались в Южном Уэльсе и как далеко простирается их влияние. Из Абергавенни я покатил на северо-запад через самую красивую часть долины Уска. В Крикховелле я остановился в славном старинном пабе, выпил пинту прохладного легкого эля и разговорился с местным завсегдатаем, который, как выяснилось, читал Мейчена. Я спросил его, где, по его мнению, следует искать Сумеречные холмы, и тот доверительно сообщил, что находятся они прямиком к северу, в Черных горах: это высокое, пустынное вересковое нагорье между долинами Уска и Уая. Так что я проехал еще с полчаса до самой вершины перевала под названием Булх, откуда открывается один из роскошнейших видов во всем Уэльсе: на западе – Брекон-Биконз, на юге – лесистые холмы и поблескивающий под солнцем Уск. Но Черные горы на востоке выглядели совсем не зловеще, и описание их ничуть не соответствовало той странице из Мейчена, которой я руководствовался как путеводителем. Так что я снова свернул на юг, проехал через Абергавенни (где наскоро перекусил), а дальше, по окольным дорогам, что опять круто забирали вверх, покатил к Лландалффену.
Там-то я и заподозрил, что цель моя близка. В холмах ощущалось нечто от бесплодной пустоши, что наводило на мысль об атмосфере «Черной печати». Но я велел себе судить непредвзято: во второй половине дня набежали облака, и я допускал, что, может статься, у меня просто воображение разыгралось. Я притормозил на обочине, близ каменного моста, вышел из машины, облокотился о перила. Река стремительно неслась по камням, кристально прозрачная мощь потока завораживала меня, едва ли не гипнотизировала. Я двинулся по склону вниз чуть поодаль от моста, как можно глубже ввинчиваясь каблуками в грунт, чтобы не потерять равновесия на крутом спуске, и наконец добрался до плоского камня у самой воды. Я, конечно, бравировал; на самом деле я ощущал себя крайне неуютно, но все списывал на самовнушение. В моем возрасте после обеда неизбежно чувствуешь себя усталым и удрученным, особенно если пропустил стаканчик.
На шее у меня болтался фотоаппарат «Поляроид». Зелень травы и серо-стальное небо составляли такой разительный контраст, что я решил сделать снимок. Я выставил экспозицию, навел объектив вверх по течению реки; извлек фотографию, засунул снимок под куртку и стал ждать, пока изображение проявится. Спустя минуту я содрал верхний слой. Фотография была черным-черна. Видимо, как-то засветилась. Я снова взялся за фотоаппарат и сделал второй снимок, а первый швырнул в реку. Извлекая фотографию, я внезапно преисполнился интуитивной уверенности, что и она тоже окажется засвеченной.
Я нервно заозирался – и чуть не свалился в реку: прямо надо мной нависало чье-то лицо. Мальчишка, а может, юноша, опершись о перила, неотрывно наблюдал за мною с моста. Жужжание таймера смолкло. Не обращая на мальчишку внимания, я сорвал со снимка верхний слой. Опять черная! Я выругался сквозь зубы и бросил фотографию в воду. Затем окинул взглядом склон, просчитывая путь назад, и заметил, что юнец стоит на самой вершине. Одет он был в обтрепанные, неопределенного вида коричневые обноски; худое смуглое лицо напомнило мне цыган с ньюпортского вокзала. Карие глаза ровным счетом ничего не выражали. Я глядел на него без улыбки – поначалу мне было просто любопытно, что ему надо.
Но юнец не попятился сконфуженно, и я внезапно испугался, уж не ограбить ли он меня задумал: может, на фотоаппарат нацелился или на дорожные чеки, что у меня в бумажнике. Но следующего же взгляда мне хватило, чтобы понять: он все равно не сумел бы воспользоваться ни тем ни другим. Пустые глаза и оттопыренные уши свидетельствовали о том, что я имею дело со слабоумным. А в следующее же мгновение я вдруг понял, что он замышляет, – понял со всей определенностью, как если бы он сам мне признался. Он рассчитывает сбежать вниз по склону – и столкнуть меня в реку. Но зачем? Я оглянулся через плечо. Да, течение здесь быстрое и воды, пожалуй, по пояс – может, даже чуть глубже, – но недостаточно, чтобы утопить взрослого мужчину. На дне – валуны и камни, но не настолько крупные, чтобы повредить мне, даже если я ударюсь о какой-то из них.
Ничего подобного со мною в жизни не случалось – во всяком случае, за последние пятьдесят лет. Меня захлестнули слабость и страх, так что даже колени подогнулись. Удержала меня на ногах лишь моя твердая решимость страха не выказывать. Я взял себя в руки и, раздраженно насупившись, обжег его сердитым взглядом – тем самым взглядом, который порою приберегаю для своих студентов. К вящему моему изумлению, юнец мне улыбнулся – хотя, сдается мне, в его улыбке было больше злобы, нежели веселья, – и отвернулся. Не теряя времени, я проворно вскарабкался вверх по склону – на менее уязвимую позицию.
Когда несколько секунд спустя я вышел на дорогу, юнец исчез. Единственное укрытие в пределах пятидесяти ярдов было либо с другой стороны от моста, либо за моей машиной. Я даже под автомобиль заглянул – не торчат ли ноги; нет, не торчат. Справившись с паникой, я перешел дорогу и, перегнувшись через перила с противоположного края, посмотрел вниз. Опять никого. Оставалось лишь предположить, что юнец соскользнул под мост – хотя течение здесь было слишком быстрым. Как бы то ни было, обыскивать реку под мостом в мои планы не входило. Я вернулся к машине, заставляя себя идти размеренным шагом, не переходя на бег, и почувствовал себя в безопасности, только стронувшись с места.
На вершине холма мне вдруг пришло в голову, что я забыл, в каком направлении еду. Вследствие пережитой тревоги все воспоминания о том, с какой стороны я приблизился к мосту, выветрились из моей головы, а припарковался я на съезде, перпендикулярно дороге. На пустынном отрезке шоссе я притормозил посмотреть на компас. Но черная магнитная стрелка плавно вращалась кругами, по всей видимости, бессистемно. Я постучал по корпусу: никакого результата. Компас не был сломан: стрелка надежно крепилась на игле. Прибор просто-напросто размагнитился. Я поехал дальше, со временем повстречал указатель, убедился, что направление выбрал правильно, добрался до Понтипула. Проблема с компасом меня слегка обеспокоила, но не то чтобы сильно. Лишь позже, пораскинув мозгами, я осознал, что компас невозможно размагнитить просто так: надо снять стрелку и хорошенько нагреть ее либо с силой постучать прибором обо что-нибудь твердое. Днем, когда я остановился подкрепиться, компас еще работал – я посмотрел. Мне вдруг пришло в голову, что и поломка компаса, и встреча с мальчишкой – это своего рода предостережение. Предостережение невнятное и равнодушное: вот так же спящий непроизвольно смахивает муху.
Все это звучит нелепо и фантастически, и я охотно признаю, что сам был склонен отмахнуться от подобных мыслей. Но я склонен доверять интуиции.
Я чувствовал себя настолько разбитым, что по возвращении в гостиницу жадно приложился к своей фляге с бренди. Затем позвонил портье и пожаловался на холод в номере, и не прошло и десяти минут, как горничная уже разводила огонь, насыпав угля в камин, которого я поначалу и не заметил. Устроившись напротив, покуривая трубку и потягивая виски, я со временем почувствовал себя гораздо лучше. В конце концов, нет никаких свидетельств тому, что эти «стихии» действительно враждебны – даже если допустить на минуту, что они существуют. В юности я презрительно отмахивался от сверхъестественного, но с годами резкая граница между правдоподобным и неправдоподобным слегка расплылась; ныне я осознаю, что и мир как таковой не вполне правдоподобен.
В шесть часов я внезапно решил навестить Эрхарта. Позвонить я не потрудился; я уже привык воспринимать полковника не как человека постороннего, но как союзника. Я вышел в моросящий дождик, дошел до его дома, поднялся к парадной двери и нажал на кнопку звонка. Почти тотчас же дверь распахнулась, выпуская предыдущего гостя.
– До свидания, доктор, – промолвила валлийка.
Я застыл на месте, недоуменно воззрившись на нее. По спине пробежал холодок.
– С полковником все в порядке?
– Ничего страшного, если побережется, – ответил мне доктор. – Если вы друг хозяина, не задерживайтесь у него надолго. Больному необходимо выспаться.
Валлийка впустила меня, не задавая вопросов.
– Что произошло?
– Да несчастный случай. Полковник упал с лестницы в подвале, а обнаружили мы его только через пару часов.
Поднимаясь наверх, я заметил в кухне нескольких псов. Дверь была открыта, однако никто из них не залаял при звуке моего голоса. В коридоре второго этажа царила промозглая сырость, ковер оставлял желать много лучшего. У дверей лежал доберман. Он устало и обреченно поглядел на меня; я прошел мимо – он даже с места не стронулся.
– А, это вы, старина, – поприветствовал меня Эрхарт. – Спасибо, что навестили. Кто вам рассказал?
– Никто. Я просто поговорить заглянул. Что же все-таки случилось?
Эрхарт выждал, пока за экономкой не закрылась дверь.
– Меня столкнули с подвальной лестницы.
– Но кто?
– Могли бы и не спрашивать.
– Так как все было?
– Я пошел в подвал за садовой бечевкой. На середине лестницы накатила удушливая вонь – думается мне, они умеют производить какой-то газ. И тут же – резкий толчок сбоку. Ну я и сверзнулся вниз – а падать-то высоко. Приземлился на ящик с углем, вывихнул лодыжку и думал, ребро сломал. А дверь между тем сама собою закрылась и защелкнулась на защелку. Я два часа вопил как сумасшедший, прежде чем меня садовник услышал.
Я больше не считал, что собеседник мой слегка не в себе, и в словах его нимало не сомневался.
– Но вам же нельзя здесь оставаться – вы в страшной опасности! Вам надо срочно перебираться в иные края.
– Нет. Они, конечно, гораздо сильнее, чем мне казалось. Но в конце концов, я находился под землей, в подвале. Возможно, в этом-то и дело. Они и до поверхности могут дотянуться, но на это у них уходит куда больше энергии, нежели оно того стоит. Как бы то ни было, ничего страшного не произошло. Ну, связки растянул, подумаешь, а ребро, как выяснилось, вовсе и не сломано. Это просто мягкое предупреждение: за то, что вчера вечером разоткровенничался с вами. А у вас что нового?
– Вот, значит, в чем дело!
Мои собственные приключения внезапно обрели смысл; все встало на свои места. Я пересказал Эрхарту события дня.
– Стало быть, вы спустились по крутому склону; видите, в точности как я – в подвал. Впредь нужно избегать таких ситуаций, – возбужденно перебил меня полковник. А когда я упомянул про компас, он невесело рассмеялся. – Это для них пара пустяков. Я же рассказывал, они способны просачиваться сквозь материю так же легко, как губка впитывает воду. Выпьете?
Я согласился и, в свой черед, наполнил бокал и ему. Прихлебывая напиток, полковник задумчиво проговорил:
– Этот ваш мальчишка… сдается мне, я знаю, кто он такой. Внук Бена Чикно. Я его тут вижу иногда.
– Кто такой Чикно?
– Цыган здешний. В его семье половина народу – идиоты. Сплошь кровосмешения. Один из его сыновей получил пять лет за соучастие в одном из самых гнусных убийств за всю историю здешнего края. Мерзавцы пытали престарелую супружескую пару, дабы выяснить, где те прячут деньги, а потом убили обоих. Часть похищенного обнаружилась в кибитке сына, но он уверял, будто вещи ему оставил какой-то тип, который в бегах числится. Мерзавец дешево отделался: обвинения в убийстве как таковом против него не выдвигали. Кстати, судья умер неделю спустя после вынесения приговора. От сердечного приступа.
Я знал произведения Мейчена куда лучше Эрхарта, и теперь в голову мою закралось вполне естественное подозрение. Ибо Мейчен рассказывает о сношениях между некими полусумасшедшими дегенератами из числа сельских жителей – и странными, чужеродными силами зла.
– А может ли быть, что этот старик – ну, Чикно – связан с ллойгор? – осведомился я.
– Зависит от того, что вы имеете в виду. Не думаю, что Чикно – птица достаточно важная, чтобы знать о них много. Но он из тех людей, кого они обычно поощряют: старый тупой выродок. Вы инспектора Дейвисона о нем порасспросите: это глава местной полиции. За Чикно тянется целый хвост приговоров длиной с вашу руку: поджог, изнасилование, грабеж со взломом, скотоложество, инцест. Словом, полный дегенерат.
В этот момент миссис Долгелли внесла ужин и недвусмысленно дала понять, что мне пора. В дверях я полюбопытствовал:
– А что, кибитка этого типа стоит где-то поблизости?
– В миле от моста, про который вы рассказывали. Надеюсь, вы туда не собираетесь?
Я поспешил заверить хозяина, что и думать об этом не думал.
Тем же вечером я написал длинное письмо Джорджу Лоэрдейлу в Брауновский университет. Лоэрдейл пописывал детективы (под псевдонимом, разумеется) и выпустил две антологии современной поэзии. Я знал, что он работает над книгой о Лавкрафте, и я нуждался в его совете. К тому времени я чувствовал, что увяз во всей этой истории по уши. Ни малейших сомнений у меня не осталось. А есть ли свидетельства появления ллойгор в области Провиденса? Мне хотелось знать, нет ли каких-нибудь теорий насчет того, откуда Лавкрафт получал основные сведения? Где он мог видеть «Некрономикон» или хотя бы слышать о нем? В своем письме к Лоэрдейлу я умолчал о подлинных своих заботах и опасениях; сказал лишь, что сумел перевести значительную часть рукописи Войнича и имею основания полагать, что это тот самый «Некрономикон», о котором шла речь у Лавкрафта, и как Лоэрдейл это объясняет? Также я сослался на доказательства того, что в основу рассказов Мейчена легли подлинные легенды Монмутшира, и предположил, что Лавкрафт мог использовать тот же самый легендариум. Не известны ли Лоэрдейлу такого рода местные предания? Скажем, нет ли каких-нибудь неприятных историй, связанных с лавкрафтовским «Домом с заколоченными ставнями» на Бенефит-стрит в Провиденсе?..
На следующий день после несчастного случая с Эрхартом приключилось нечто странное, о чем я расскажу лишь вкратце, поскольку происшествие последствий не имело. Я уже упоминал про горничную: бледненькую худышку со спутанными волосами и ногами как спички. После завтрака я поднялся к себе в номер и обнаружил, что она распростерта на коврике перед очагом – по всей видимости, без чувств. Я попытался позвонить администратору, но телефон не отвечал. Девушка казалась такой маленькой и хрупкой, что я решил перенести ее на кровать или в кресло. Труда это не составило; но когда я взял ее на руки, то невозможно было не ощутить, что под коричневым рабочим халатом на ней не надето почти или вовсе ничего. Я удивился: погода стояла холодная. Я уложил девушку на постель, она открыла глаза и поглядела на меня с лукавой радостью, так что не приходилось сомневаться: до сих пор она просто-напросто притворялась. Я попытался высвободить руку; она ухватила меня за запястье – с явным намерением продлить соприкосновение.








