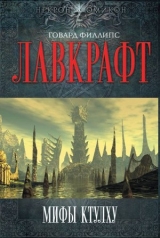
Текст книги "Мифы Ктулху"
Автор книги: Стивен Кинг
Соавторы: Говард Филлипс Лавкрафт,Роберт Альберт Блох,Филип Хосе Фармер,Роберт Ирвин Говард,Брайан Ламли,Дж. Рэмсей Кэмпбелл,Август Дерлет,Фриц Ройтер Лейбер,Фрэнк Лонг
Жанр:
Ужасы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 44 страниц)
Поначалу в снах я не ощущал своего тела. Я воплощал в себе своего рода точку зрения, плывущую по туннелям в явственно определенном ритме– то быстрее, то медленнее.
Сперва в этих раздражающих туннелях я не видел ровным счетом ничего, хотя неизменно отдавал себе отчет, что боюсь нежданных встреч – и к страху этому подмешивалось подспудное желание. Пренеприятное было ощущение, и притом изматывающее; вряд ли мне удалось бы скрыть свое состояние по пробуждении, но я никогда (с одним-единственным исключением) не просыпался прежде, чем сон иссякал, самоисчерпывался, так сказать, и все мои чувства временно истощались.
А затем, в следующем сне, я начал видеть в туннелях разное – разных существ: они плыли по коридорам в том же общем ритме, в каком продвигался и я (или моя точка зрения). Тут были черви длиной с человека и толщиной с бедро, цилиндрические и не сужающиеся к концу. По всей их протяженности, точно сороконожкины ножки, крепились бессчетные пары крохотных крыльев, прозрачных, как у мухи: крылья непрестанно вибрировали, издавая незабываемо зловещее низкое жужжание. Глаз у червей не было: головы представляли собою один круглый рот, обрамленный рядами трехгранных зубов вроде акульих. Невзирая на слепоту, они словно бы чувствовали друг друга на небольших расстояниях, и то, как они, резко накренившись, рывком сворачивали в сторону, избегая столкновения, внушало мне особый ужас. (Уж больно напоминали мне эти неуклюжие рывки мою собственную прихрамывающую походку.)
Но уже в следующем сне я осознал собственное тело. Вкратце, я сам был одним из этих крылатых червей. Я испытал неописуемый ужас, однако и в этот раз сон длился до тех пор, пока накал его не иссяк, и проснулся я лишь с воспоминанием о пережитом страхе. И по-прежнему мог (как мне казалось) хранить свои сны в тайне.
Следующий раз я увидел во сне трех крылатых червей: они извивались в более широкой части туннеля, где давление сверху почти не ощущалось. Я по-прежнему оставался скорее наблюдателем, чем участником: проплывал себе червем по узкому боковому проходу. Как мне удавалось что-либо рассмотреть, пребывая в теле слепого гада, логика сна не объясняет.
Черви рвали зубами человеческую жертву: какого-то малыша, судя по росту. Три рыла сблизились и полностью закрыли собою лицо чужака. В зловещее жужжание вплеталась голодная нота, и слышалось сосущее причмокивание.
Светлые кудри, белая пижамка и торчащая из правой штанины ступня, слегка усохшая и резко вывернутая внутрь, свидетельствовали о том, что жертва – это я.
В это самое мгновение меня резко встряхнули, все поплыло у меня перед глазами, из тумана сверху на меня надвинулось огромное, перепуганное лицо матери, а за ее плечом маячил встревоженный отец.
Я бился в судорогах страха, размахивал руками и ногами и кричал, кричал не умолкая. Прошли в буквальном смысле часы, прежде чем меня удалось утихомирить, и лишь спустя много дней отец позволил мне пересказать свой кошмар.
После того отец установил строжайшее правило: никто не смел меня будить, какой бы страшный кошмар мне, по всей видимости, ни снился. Позже я узнал, что в такие минуты он дежурил у моей постели, хмуря брови и подавляя стремление растолкать меня, и бдительно следил, чтобы никто другой этого не сделал.
Несколько ночей подряд я боролся со сном, но кошмар мой больше не повторялся, и вновь по пробуждении я ровным счетом ничего не помнил. Я успокоился, жизнь моя, как наяву, так и во сне, вновь потекла мирно. Более того, приступы сомнамбулизма теперь повторялись не так часто, хотя спал я по-прежнему долго – чему немало способствовало предписание отца ни в коем случае меня не будить.
Однако ж с тех пор я задумываюсь, не потому ли мои ночные прогулки в беспамятном состоянии сделались реже, что я – или какая-то частица меня – наловчился хитрить. Как бы то ни было, привычкипостепенно выпадают из поля зрения близких: их просто перестают замечать.
Временами, однако, я ловил на себе задумчивый взгляд отца, как будто тому очень хотелось потолковать со мной о разных серьезных вещах, но в конце концов он всегда подавлял в себе этот порыв (если только я правильно его угадал) и довольствовался тем, что поощрял меня в моих школьных занятиях и в пеших прогулках по холмам, невзирая на подстерегающие там опасности. На моих любимых тропах гремучих змей и впрямь развелось во множестве, может, потому, что в окрестностях безжалостно истребляли опоссумов и енотов; так что отец заставил меня носить высоко зашнурованные сапоги из крепкой кожи.
Пару раз мне примерещилось, будто отец и Саймон Родиа тайком разговаривают обо мне, когда Родиа заезжал в гости.
В общем и целом жил я довольно одиноко, да так оно продолжалось и по сей день. Среди соседей друзей у нас не было, а среди друзей никто не числился в соседях. Поначалу так сложилось, поскольку жили мы на отшибе, а еще потому, что в первые годы после Первой мировой войны немецкие имена неизменно вызывали подозрение. Но ничего не изменилось и впоследствии, когда соседей у нас поприбавилось, причем новоприбывшие были настроены вполне терпимо. Возможно, все пошло бы по-другому, проживи отец дольше. (Здоровье у него было отменное, если не считать быструю утомляемость глаз: случалось, перед взором его на краткий миг вспыхивали цветные пятна.)
Но судьба распорядилась иначе. В то роковое воскресенье 1925 года он отправился вместе со мною на привычную прогулку, и мы уже дошли до одного из моих любимых мест, как вдруг земля провалилась у отца под ногами и он исчез – его испуганный возглас звучал все глуше, по мере того как он стремительно падал вниз. В кои-то веки отцовское природное чутье на подземные условия ему отказало. С легким скребущим шорохом вниз ссыпался гравий и несколько камней – и все стихло. Я опасливо подполз на животе к черной яме в обрамлении травы и заглянул внутрь.
Далеко снизу (судя по звуку) донесся слабый зов отца:
– Георг! Беги за помощью!
Голос отца звучал натужно и выше обычного, как если бы что-то сжимало ему грудь.
– Отец! Я сейчас спущусь к тебе! – закричал я, сложив ладони рупором, и уже просунул в дыру изувеченную ногу, нащупывая точку опоры, когда раздался его исступленный крик: голос звучал отчетливо, но еще выше и еще натужнее, как если бы набрать в грудь достаточно воздуха стоило отцу немалых усилий.
– Не спускайся, Георг, ты вызовешь обвал. Сбегай за помощью… за веревкой!
Поколебавшись мгновение, я вытащил ногу и прихрамывающим галопом припустил домой. Страхи мои усиливал (или, может быть, сглаживал) драматический накал происходящего: в начале того года мы в течение нескольких недель слушали по маленькому детекторному приемнику, мною же и собранному, радиосводки о затянувшихся волнующих попытках спасти Флойда Коллинза, застрявшего в Песчаной пещере близ Кейв-Сити, штат Кентукки. (В конечном счете попытки эти успехом не увенчались.) Думаю, что-то подобное я провидел и для отца.
По счастью, в окрестностях случился молодой доктор. Он-то и возглавил отряд спасателей, что я вскорости повел к провалу, где сгинул мой отец. Из черной бездны не доносилось ни звука, сколько бы мы ни звали. Помню, что кое-кто уже с сомнением на меня поглядывал, как если бы я все придумал шутки ради, когда отважный доктор, вопреки всем советам, настоял, чтобы его спустили в яму: отряд принес с собой крепкую веревку и электрический фонарик.
Спускался он долго, на глубину футов пятидесяти, постоянно перекликаясь с оставшимися, и почти так же долго его поднимали наверх. Выбравшись на поверхность, с ног до головы в оранжевых пятнах песчаной пыли, храбрец сообщил нам, что отец безнадежно застрял внизу – одна голова торчит; что он со всей очевидностью мертв – и вытащить его возможным не представляется. (Помню, доктор еще за плечо меня взял, а тут и мать подоспела к месту происшествия вместе с двумя другими женщинами.)
В это самое мгновение вновь послышался скрежещущий грохот, и черная яма обвалилась. Одного из спасателей, что стоял на самом краю, едва успели оттащить на безопасное расстояние. Мать пронзительно вскрикнула и рухнула в подрагивающие бурые травы; ее тоже унесли подальше.
В последующие недели было решено, что тело отца извлечь невозможно. Провал или то, что от него осталось, заделали, высыпав в него несколько мешков бетона и песка. Ставить надгробный памятник на этом месте матери запретили, но в качестве своеобразной компенсации – логику я так и не понял – округ Лос-Анджелес подарил ей могильный участок на одном из кладбищ. (Сейчас там покоится ее тело.) В конце концов какой-то священник-латиноамериканец неофициально отслужил у провала заупокойную службу, а Саймон Родиа, вопреки предписанию, поставил там небольшой монумент – яйцевидной формы, ни к какой религии не привязанный: из его собственного белого бетона непревзойденной прочности, с именем моего отца, красиво инкрустированный узором из осколков синего и зеленого стекла (в узоре угадывались водяные и морские мотивы). Монумент стоит там и по сей день.
После смерти отца я сделался еще более задумчив и замкнут, а мать, робкая чахоточная женщина, обуреваемая истерическими страхами, к общительности меня отнюдь не побуждала. По правде сказать, насколько я себя помню и уж безусловно со времен трагической и внезапной кончины Антона Фишера важное место в моей жизни занимали только мои собственные размышления, да этот кирпичный дом в холмах, с его странной и необычной каменной резьбой, да сами холмы из ноздреватого песчаника – насквозь пропитанные солью и прожженные солнцем. Слишком много их было в моем прошлом: слишком долго бродил я, прихрамывая, по их осыпающимся гребням, под их растрескавшимися, опасно нависающими глыбами песчаника, по руслам пересохших на многие месяцы рек, что петляют по дну ущелий между двух склонов. Я много думал о былых временах, когда, как якобы верили встарь индейцы, со звезд в грандиозном метеоритном дожде явились Чужие, и люди-ящеры погибли, пытаясь дорыться до воды, и чешуйчатые морские жители проложили туннели от своих становищ под неохватным Тихим океаном, что к западу составлял целый мир, обширный, как звездные пределы. Во мне рано проснулась чрезмерная любовь к фантазиям столь диким. Слишком многое из природного ландшафта вросло в рельеф моей духовной жизни. Ночами, во время моего долгого, затяжного сна, я бродил в обоих мирах, я в этом ни минуты не сомневаюсь. А днем перед взором моим проносились страшные видения: отец – под землей, не жив и не мертв, в обществе крылатых червей из моего кошмара. Более того, я привык к фантастической мысли о том, что под тропами, по которым я хромал, таится целая система туннелей, в точности повторяющая их очертания, но на разных глубинах – ближе всего к поверхности они подходят в моих «любимых местечках».
(«Легенда о Йиге, – жужжат голоса. – Фиолетовые пряди, шаровидные туманности, Canis Tindalos [71]71
Гончая Тиндалоса ( лат.). См. рассказ «Гончие Тиндалоса» в настоящем сборнике. – Примеч. перев.
[Закрыть]и их гнусная сущность, природа доэлей, подцвеченный хаос, великие приспешники Кутлу…» Я приготовил завтрак, но кусок в горло не идет. Жадно пью горячий кофе.)
Я вряд ли стал бы так много разглагольствовать о своем сомнамбулизме и о неестественно долгом и глубоком сне (мать готова была поручиться, что в такие часы разум мой пребывает не здесь), если бы не тот факт, что я, по всем отзывам блиставший интеллектом в раннем детстве, надежд в итоге не оправдал. Да, я неплохо успевал в захолустной начальной школе, куда с неохотой плелся каждое утро, а после и в пригородной средней школе, куда ездил на автобусе; да, я рано выказал интерес к самым разным предметам и мне не раз случалось продемонстрировать безупречную логику и творческое мышление. Беда в том, что развить и закрепить эти моменты озарения мне не удавалось и к систематической усидчивой работе я был не способен. Бывали времена, когда учителя докучали моей матери жалобами на мою неподготовленность и пренебрежение домашними заданиями, хотя когда начинались экзамены, я почти всегда показывал неплохие результаты. Мои индивидуальные увлечения тоже иссякали довольно быстро. С концентрацией внимания дела у меня и впрямь обстояли неважно. Помню, что нередко усаживался в кресло с любимой книгой или текстом, а несколько минут или даже часов спустя вдруг обнаруживал, что перелистываю страницы далеко от того места, на котором, как мне мнилось, остановился, и в голове не задержалось ровным счетом ничего. Порою только память о том, что отец наказывал учиться, учиться серьезно, поддерживала меня в моих занятиях.
Вы, верно, не усмотрите здесь ничего особенного. Стоит ли удивляться, если одинокий, «оранжерейный» ребенок не обладает ни большой силой воли, ни психической энергией? Стоит ли удивляться, если такой ребенок вырастет нерадивым, слабым и нерешительным? Ровным счетом ничего странного в том нет – можно только пожалеть его и упрекнуть. Провидению ведомо, что я упрекал себя достаточно часто, ибо, когда отец поощрял меня и поддерживал, я ощущал в себе и мощь, и способность, которым, впрочем, что-то не давало развернуться в полную силу. Ну да в мире полным-полно людей, чьи таланты так и не находят себе применения. Лишь последующиесобытия заставили меня усмотреть в собственных слабостях некий знаменательный смысл.
В том, что касалось моего высшего образования, мать неукоснительно выполняла отцовские распоряжения (о чем я узнал только сейчас). По окончании школы я был отправлен на северо-восток, в одно из старинных учебных заведений, не столь, правда, широко известное, как «Лига плюща», [72]72
«Лига плюща»– восемь старейших и наиболее привилегированных частных колледжей и университетов Америки, расположенных в штатах Атлантического побережья на северо-востоке страны (в том числе престижные Гарвардский и Йельский университеты и Дартмутский колледж).
[Закрыть]но ничуть не менее престижное: в Мискатоникский университет, что стоит на извилистой реке с тем же названием, в древнем городе Аркхеме с его мансардными крышами и вязовыми аллеями, тихими, как поступь ведьминского фамильяра. Отец впервые услышал это название от некоего заказчика с северо-востока по имени Харли Уоррен, который задействовал отцовские таланты лозоходца в деле довольно необычном: на кладбище в заболоченной кипарисовой рощице. Хвалебные отзывы этого человека о Мискатоникском университете неизгладимо запечатлелись в памяти отца. Моего школьного аттестата оказалось недостаточно (в нем не хватало ряда обязательных для поступления предметов), но мне удалось-таки – к вящему удивлению всех моих учителей – сдать суровый вступительный экзамен, для которого требовались, так же как и в Дартмуте, определенные познания в греческом, равно как и в латыни. Один только я знаю, чего мне это стоило: «выехал» я исключительно на догадках, призвав на помощь все свое воображение. Не мог же я не оправдать отцовских надежд – сама эта мысль казалась мне невыносимой!
К несчастью, все мои усилия пошли прахом. Еще до конца первого семестра я вернулся в Южную Калифорнию истощенным физически и духовно приступами нервозности, тоски по дому и болезни как таковой (анемия). Кроме того, мой ночной сон сделался еще продолжительнее, и невероятно участились случаи сомнамбулизма, что не раз и не два уводил меня глубоко в пустынные холмы к западу от Аркхема. Я пытался терпеть – терпел довольно долго, по моим ощущениям, – но после нескольких особенно сильных припадков врачи колледжа посоветовали мне оставить университет. Наверное, они сочли, что из меня хоть сколько-то сильной личности не выйдет, и испытывали ко мне скорее жалость, нежели сочувствие. Неприглядное это зрелище – юнец во власти эмоций и чувств, что скорее пристали пугливому ребенку.
Казалось, что здесь врачи не ошиблись (хотя теперь я понимаю, как они были неправы), потому что недуг мой сводился ( по-видимому) просто-напросто к ностальгии по дому. С чувством глубочайшего облегчения вернулся я к матери в наш кирпичный дом среди холмов. В какую бы комнату я ни заходил, я преисполнялся все большей уверенности в себе – то же самое я ощутил даже (или в особенности?) в подвале с его чисто выметенным полом из скальной породы, с отцовскими инструментами и химикалиями (кислоты и все такое прочее) и морскими мотивами в резной надписи по камню «Врата Снов». Казалось, все то время, что я пробыл в Мискатоникском университете, незримая привязь властно тянула меня назад, и лишь теперь напряжение ослабло.
(Разумеется, эти голоса слышны по всему континенту: «Основные соли; храм Дагона; серое, искривленное, хрупкое чудище; адская свистопляска флейт, инкрустированный кораллом многобашенный Рлей…»)
Холмы помогли мне ничуть не меньше, чем наш дом. В течение месяца я всякий день уходил на прогулки, я бродил по старым знакомым тропам среди выгоревших, побуревших зарослей, и в мыслях моих теснились древние легенды и обрывки детских раздумий. Думаю, только тогда и только по возвращении я впервые осознал, как много значат для меня эти холмы (а еще немного понял, что именно). От Маунт-Уотерман и крутой Маунт-Уилсон с ее огромной обсерваторией и 100-дюймовым телескопом-рефлектором – вниз, через пещеристый каньон Туджунга с его множеством извилистых ответвлений, уводящих на равнины, а затем через приземистые холмы Вердуго и те, что ближе, с обсерваторией Гриффита и ее меньшими телескопами – к зловещему, почти неприступному Потреро и к гигантским петляющим каньонам Топанга, что с катастрофической внезапностью открываются на необъятный, первозданный Тихий океан… И все они (холмы, то есть), за редкими исключениями, песчаные, растрескавшиеся, опасные – земля что скала, скала что выжженная земля, выветрившаяся, осыпающаяся, ноздреватая; и все это обрело надо мною такую власть, что я – хромой, испуганный слушатель – превратился в одержимого. Более того, одержимость эта ныне проявлялась все в новых и новых симптомах: в силу непонятных причин я теперь выбирал определенные тропы в ущерб всем прочим; были места, где я не мог не задержаться хотя бы ненадолго. Я все больше укреплялся в фантастической мысли, что под тропами проложены туннели, по которым перемещаются существа, притягивающие ядовитых змей внешнего мира – ведь они сродни друг другу. Возможно ли, что за моим детским кошмаром стоит некая сверхъестественная реальность? Я в страхе гнал от себя эту мысль.
Все это, как я уже говорил, я осознал в течение первого месяца после своего позорного возвращения с северо-востока. А когда месяц истек, я вознамерился побороть свою одержимость и возмутительную ностальгию по дому, а также все тайные слабости и внутренние барьеры, не позволяющие мне воплотить в жизнь идеал моего отца. Я выяснил, что полный разрыв с домом, как планировал отец (то есть Мискатоникский университет), для меня невозможен; ну так что ж, я решу свои проблемы, не уезжая прочь: я прослушаю курс в УКЛА (Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе) неподалеку. Я стану учиться, займусь физическими упражнениями, буду закалять тело и ум. Помню, сколь тверд я был в своей решимости. Что за ирония судьбы: мой план, со всей очевидностью логичный, обернулся единственно верным путем к дальнейшему психологическому порабощению.
Однако ж довольно долгое время мне сопутствовал успех. Систематические упражнения, сбалансированная диета и полноценный отдых (все те же мои двенадцать часов сна) пошли мне на пользу: таким здоровым я в жизни себя не чувствовал. Все неприятности, осаждавшие меня на северо-востоке, сгинули в никуда. Я уже не пробуждался, весь дрожа, от лишенного сновидений сомнамбулического транса; более того, насколько я мог судить на тот момент, припадки прекратились навсегда. В колледже, откуда я всякий вечер возвращался под отчий кров, я добился изрядных успехов. Именно тогда я впервые начал писать образные, пессимистические стихи, подцвеченные метафизическими размышлениями, что привлекли ко мне внимание узкого круга читателей. Как ни странно, опусы эти были вдохновлены одним-единственным значимым сувениром, что я вывез из одетого тенью Аркхема: в пропыленной букинистической лавке я приобрел маленький стихотворный сборник – «Азатот и прочие ужасы», за авторством местного поэта Эдуарда Пикмана Дерби.
Теперь-то я понимаю, что прилив новых сил во времена моей университетской жизни оказался по большей части обманчивым. Поскольку я начал вести новую жизнь и в результате оказывался в новых ситуациях и обстановках (не покидая при этом дома), я уж было уверился, что стремительно прогрессирую. Эту убежденность я каким-то образом умудрился пронести через все студенческие годы. То, что ни один предмет мне не удавалось изучить досконально, то, что я не мог создать ничего, что требовало бы длительных усилий, я объяснял себе так: мои нынешние занятия – это не более чем «подготовка», «интеллектуальная ориентировка» в преддверии великих свершений будущего. Несколько лет я успешно скрывал от самого себя тот факт, что способен распоряжаться лишь одной десятой от своей энергии, в то время как все остальное уходит – одним только высшим силам ведомо, по каким каналам.
Я думал, я знаю, что за книги я изучаю, но теперь голоса твердят мне: «Руны Нуг-Сота, ключица Ньярлатхотепа, литании Ломара, мирские размышления Пьера-Луи Монтаньи, "Некрономикон", песни Крома-Йа, общие сведения о Йианге-Ли…»
(Снаружи – полдень или около того, но в доме царит прохлада. Мне удалось немного подкрепиться; и я сварил еще кофе. Сходил вниз, в подвал, проверил, на месте ли отцовские инструменты и прочие вещи, кувалда, бутыли для кислот и все такое; посмотрел на «Врата Снов», стараясь ступать совсем тихо. Там голоса звучат громче, чем где бы то ни было.)
Довольно того, что в течение моих шести университетских и «поэтических» лет (полной учебной нагрузки я бы не вынес) я существовал не как полноценный человек, но как фрагмент человека. Я постепенно отказался от всех великих стремлений и довольствовался жизнью в миниатюре. Посещал несложные курсы, писал прозаические отрывки, порою – стихотворение-другое, заботился о матери (она, если не считать тревог обо мне, была крайне нетребовательна) и об отцовском доме (построенном так качественно, что никакого особенного ухода он и не требовал), бездумно бродил по холмам, подолгу спал. Друзей у меня не было. Собственно, не у меня, а у нас. Аббот Кинни умер, Лос-Анджелес прибрал к рукам его «Венецию». Саймон Родиа в гости давно не заглядывал: он с головой ушел в свой великий самостоятельный архитектурный проект. Однажды, по настоянию матери, я съездил в Уоттс, скопление утопающих в цветах непритязательных одноэтажных домиков, что совершенно терялись на великолепном фоне башен, вознесшихся к небу, точно сине-зеленая персидская греза. Родиа с трудом вспомнил, кто я такой, и, пока работал, все поглядывал на меня как-то странно. Денег, оставленных отцом (в серебряных долларах), в избытке хватало на наши с матерью нужды. Короче говоря, я смирилсяс судьбой – причем не без удовольствия.
Это оказалось тем легче, что я все больше интересовался доктринами таких философов, как Освальд Шпенглер, [73]73
Освальд Арнольд Готфрид Шпенглер(1880–1936) – немецкий философ и культуролог; интерпретировал мировую историю как ряд независимых друг от друга культур, проживающих, подобно живым организмам, периоды зарождения, становления и умирания. Душу западной культуры Шпенглер характеризует как «фаустовскую»: ее характеризует бремя бытия, чувство гордости и трагическая мораль.
[Закрыть]который считал, что культура и цивилизация проходят в своем развитии через несколько циклов и что наш собственный «фаустовский» западный мир, со всей своей грандиозной мечтой о научном прогрессе, движется к варварству, которое и поглотит его столь же верно, как то, что готы, вандалы, скифы и гунны поглотили могучий Рим и его долгоживущую сестру, вырождающуюся Византию. Глядя с вершины холмов вниз, на суетливый, непрестанно строящийся Лос-Анджелес, я безмятежно размышлял о будущих днях, когда отряды шумливых, косматых варваров пройдут по вздувшемуся, изрытому асфальту улиц и на каждое из разрушенных комплексных зданий будут смотреть как на еще одну «хибару»; когда высокогорный Планетарий Гриффит-парка, романтически возведенный из камня, обнесенный высокими стенами и крепкими бастионами, станет крепостью какого-нибудь мелкого диктатора, когда исчезнут и наука, и промышленность и все их машины и инструменты заржавеют, поломаются и все позабудут, как ими пользоваться… и всетруды наши поглотит забвение, подобно затонувшей цивилизации Му [74]74
…цивилизации Му… – Континент Му – гипотетический затонувший континент в Тихом океане. В сочинениях оккультных писателей (О. Ле-Плонжон, Дж. Черчвард) Му стало обозначением гигантского тихоокеанского материка – праматери всех мировых культур.
[Закрыть]в Тихом океане, от которой остались лишь фрагменты городов – Нан-Мадол [75]75
Нан-Мадол– искусственный архипелаг в составе Федеративных Штатов Микронезии, общей площадью 79 гектаров, построен в XII–XIII вв.; состоит из 92 островов, связанных системой искусственных каналов. Тайна постройки мегалитического комплекса Нан-Мадол не разгадана до сих пор.
[Закрыть]и Рапа-Нуи, или остров Пасхи. [76]76
Остров Пасхи,или Рапа-Нуи, – остров в южной части Тихого океана, известен загадочными статуями из спрессованного вулканического пепла; ассоциируется с затерянным континентом, на котором существовала высокоразвитая цивилизация, впоследствии канувшая на дно океана
[Закрыть]
Но откудана самом деле пришли эти мысли? Не только и не столько от Шпенглера, держу пари. Нет, боюсь я, что источник их куда глубже.
Однако ж вот что я думал, вот во что я верил – вот так отвратили меня от исканий и соблазнительных целей нашего делового мира. Все вокруг виделось мне сквозь призму быстротечности, обреченности и упадка – как если бы сама современность крошилась и рушилась, точно завладевшие моей душою холмы.
То была своего рода внутренняя убежденность; не то чтобы я предавался меланхолии, нет. Здоровье мое заметно поправилось, я не скучал и не мучился внутренним разладом. О, порою я бранил себя за то, что не оправдал надежд, возлагаемых на меня отцом, но в целом я, как ни странно, пребывал в согласии с самим собою. Странное ощущение могущества и уверенности в себе переполняло меня: так бывает в разгар какого-то всепоглощающего занятия. Знакомы ли вам отрадное облегчение и глубокая, впитавшаяся в плоть и кровь удовлетворенность, что испытываешь по успешном завершении дневных трудов? Что ж, именно так я чувствовал себя почти все время, изо дня в день. Я считал свое счастье даром богов. Мне и в голову не приходило спросить: « Каких именнобогов? Тех, что на небесах… или тех, что из подземного мира?»
Даже матушка моя стала заметно счастливее: болезнь ее приостановилась, сын окружал ее вниманием, вел деятельную жизнь (пусть и в небольшом масштабе) и не доставлял ей ровным счетом никаких забот (ну вот разве что время от времени уходил на прогулку в кишащие змеями холмы).
Фортуна нам улыбалась. Наш кирпичный особняк выстоял в жестоком лонг-бичском землетрясении 10 марта 1933 года, не понеся ни малейшего ущерба. То-то сконфузились те, кто до сих пор называли его Фишеровой Блажью!
В прошлом году (1936) я в должный срок получил в УКЛА диплом бакалавра по специальности «английская литература» (дополнительная специальность – «история»); на торжественной церемонии присутствовала и моя гордая матушка. Спустя месяц или около того мы с ней совершенно по-детски радовались, получив первые переплетенные экземпляры моего стихотворного сборничка «Хозяин туннелей»: я напечатал его за свой счет и в приступе авторского тщеславия не только разослал несколько экземпляров на рецензию, но и подарил две книги библиотеке УКЛА и еще две – библиотеке Мискатоникского университета. В сопроводительном письме к доктору Генри Армитейджу, человеку большой эрудиции, библиотекарю вышеупомянутого учебного заведения, я упомянул не только о своем недолгом пребывании там, но и о том, что источником вдохновения для меня стал некий аркхемский поэт. Рассказал я ему вкратце и об обстоятельствах, в которых создавались стихотворения.
Я издевательски вышучивал перед матушкой этот свой последний широкий жест, но она-то знала, как глубоко я уязвлен своим провалом в Мискатоникском университете и как мне отчаянно хочется восстановить там свою репутацию. Поэтому когда, всего-то несколько недель спустя, пришло письмо на мое имя со штемпелем Аркхема, матушка, вопреки обыкновению, побежала в холмы, чтобы поскорее вручить его мне. Я же только что ушел побродить в холмы.
С того места, где я находился, я едва расслышал вопль матери, но тотчас же узнал ее исполненный смертной муки голос. Я сломя голову кинулся обратно – так быстро, как только позволяла хромота. На том самом месте, где погиб отец, мать корчилась и билась на сухой, твердой земле и кричала не умолкая, а рядом с нею извивалась молодая гремучая змея. Она укусила мать в ногу, и икра быстро распухала.
Я убил гнусную тварь палкой, взрезал место укуса острым карманным ножом, высосал яд и впрыснул антивенин: на прогулки я всегда брал с собою аптечку.
Но все было тщетно. Мать умерла в больнице два дня спустя. И снова моим уделом были глубокое потрясение и депрессия, а в придачу пришлось пройти через унылый обряд похорон (по крайней мере, участок на кладбище за нами уже числился). На сей раз церемония была куда более традиционной, но ведь на сей раз я остался совсем один во всем белом свете.
Только спустя неделю я смог заставить себя взглянуть на письмо, что несла мне мать. В конце концов, именно оно стало причиной ее смерти. Я чуть не порвал его, не читая. Но распечатал-таки – и с каждой строчкой интерес мой разгорался все более, я был до глубины души поражен… и напуган. Привожу здесь письмо полностью, без купюр:
«Аркхем, Масс.,
118 Салтонстолл-стрит,
12 августа 1936 г.
Голливуд, Калиф.,
Стервятниковый Насест,
г-ну Георгу Рейтеру Фишеру
Глубокоуважаемый сэр!
Доктор Генри Армитейдж взял на себя смелость позволить мне ознакомиться с Вашим сборником "Хозяин туннелей", прежде чем он был передан в отдел абонемента университетской библиотеки. Да будет позволено тому, кто служит лишь во внешнем дворе перед храмом муз, в особенности же пред алтарями Полигимнии и Эрато, [77]77
Полигимния– в греческой мифологии муза торжественных гимнов; Эрато– муза любовной поэзии.
[Закрыть]выразить свой неподдельный восторг по поводу Вашего художественного произведения! А также и почтительно передать Вам слова восхищения столь же искреннего от профессора Уингейта Пейсли с нашей кафедры психологии, от доктора Френсиса Моргана с кафедры медицины и сравнительной анатомии, который разделяет мои специфические интересы, и самого доктора Армитейджа. В особенности же хочу отметить стихотворение "Зеленые глубины", замечательное по стройности композиции и силе эмоционального воздействия.Я доцент кафедры литературы в Мискатоникском университете; мое хобби – фольклор Новой Англии и других областей; впрочем, здесь я всего лишь восторженный дилетант. Если память меня не подводит, шесть лет назад Вы были в моей группе первокурсников по английскому языку. В ту пору мне было крайне жаль, что состояние Вашего здоровья вынудило Вас бросить обучение, и теперь я счастлив обрести наглядное доказательство того, что Вы благополучно преодолели все трудности. Примите мои поздравления!
А теперь позвольте мне перейти к следующему, совершенно иному вопросу, что тем не менее косвенно связан с Вашим поэтическим творчеством. Мискатоникский университет в данный момент ведет широкие межфакультетские изыскания в области фольклора, языка и сновидений: мы исследуем язык коллективного бессознательного и, в частности, его выражение в поэзии. Трое ученых, на которых я сослался выше, активно участвуют в этом проекте наряду с коллегами из университета Брауна (город Провиденс, штат Род-Айленд), которые продолжают новаторские разработки покойного профессора Джорджа Гаммелла Эйнджелла, и время от времени я имею честь оказывать им содействие. Они уполномочили меня обратиться за помощью к Вам, которая может оказаться неоценимой. Вам понадобится лишь ответить на несколько вопросов, имеющих отношение к Вашему творческому процессу; они никоим образом не вторгаются в святая святых – в суть и смысл Ваших произведений – и не отнимут у вас много времени. Разумеется, любая информация, которую Вы сочтете нужным предоставить, останется строго конфиденциальной.
Мне хотелось бы привлечь Ваше внимание к следующим двум строчкам из "Зеленых глубин":
Нездешним разумом одушевлен
Коралловый многоколонный Рлей.
Скажите, а в ходе работы над этим стихотворением Вы не рассматривали более экстравагантный вариант написания последнего (предположительно придуманного?) слова? Скажем, "Р’льех"? А если вернуться тремя строками выше, Вам не приходило в голову написать "Нат" (тоже авторский вымысел?) с начальным "П" – т. е. "Пнат"?
В том же самом стихотворении читаем:
Имя Кутлу (опять-таки придуманное?) нас чрезвычайно интересует. Вы не испытывали фонетических трудностей в выборе букв для передачи того самого звука, что имели в виду? Возможно, вы предпочли упростить написание в интересах поэтической ясности? А не приходил ли Вам в голову вариант "Ктулху"?
(Как видите, выясняется, что язык коллективного бессознательного – неприятно гортанный и шипящий! Сплошь кашель да фырканье, точно в немецком.)
А взять, например, вот это четверостишие в Вашем впечатляющем лирическом стихотворении "Морские мавзолеи":
Их шпили – под могильной глубиной,
Их странный отсвет смертным так знаком;
Лишь змей бескрылый тем путем влеком
Меж светом дня и склепом под волной.
Не вкралась ли ошибка в корректуру или что-то в этом роде? В частности, во второй строчке не нужно ли поставить "незнаком" вместо "так знаком"? (А к слову, какой именно цвет Вы имели в виду – тот, что можно назвать оранжево-синим, или пурпурно-зеленым, или оба?) А в следующей строке – как насчет "крылатый" вместо "бескрылый"?
И наконец, в свете "Морских мавзолеев" и общего названия сборника – профессор Пейсли задается вопросом ("догадка наобум", как говорит он сам) касательно Вашего образа туннелей под землей и под морем. А Вам когда-нибудь приходила в голову фантазия, что такие туннели будто бы на самом деле существуют в той области, где Вы сочиняли свои стихи? (Предположительно в Голливудских холмах и горах Санта-Моника, в непосредственной близости от Тихого океана.) Не пытались ли Вы случайно проследить контуры троп, пролегающих над этими воображаемыми туннелями? И не доводилось ли Вам замечать (простите мне этот странный вопрос!), что на путях этих наблюдается необычайное количество ядовитых гадов – гремучих змей, полагаю (в нашем регионе это медноголовки, а на юге – водяные щитомордники и коралловые аспиды)? Если так, то, прошу Вас, соблюдайте осторожность!
А если, в силу какого-то странного совпадения, такие туннели действительно существуют, то Вам будет небезынтересно узнать, что наука располагает средствами подтвердить этот факт, не прибегая ни к раскопкам, ни к бурению. Оказывается, даже пустота – т. е. ничто – оставляет следы! Двое профессоров естественнонаучного факультета в Мискатоне, участники той самой междисциплинарной программы, о которой я упоминал, разработали для этой цели портативный прибор – так называемый магнитооптический геосканер. (Это слово-гибрид наверняка слуху поэта представляется неуклюжим и варварским, но Вы же знаете этих ученых!) Не правда ли, странно осознавать, что исследования снов эхом отзываются и в геологии? Этот сложный инструмент с неудачным названием – упрощенный вариант того самого прибора, с помощью которого уже были обнаружены два новых химических элемента.
В начале следующего года я собираюсь съездить на Запад, пообщаться с одним человеком из Сан-Диего, сыном ученого-затворника, чьи изыскания положили начало нашей межфакультетской программе, – Генри Уэнтворта Эйкли. (Местный поэт, – увы, ныне покойный! – которому Вы столь щедро воздали должное, тоже из числа этих первопроходцев, как ни странно.) Я приеду на собственной британской спортивной машине, на мини-"остине". Должен признаться, автомобили – это моя страсть, да я и автолихач в придачу, хоть доценту кафедры литературы и английского языка оно не то чтобы подобает. Я был бы счастлив познакомиться с Вами ближе, если Вы не возражаете. Я бы мог даже привезти с собой геосканер – и мы бы вместе проверили эти гипотетические туннели!
Но боюсь, я слишком забегаю вперед и злоупотребляю Вашей снисходительностью. Прошу меня простить. Я буду Вам бесконечно признателен, если Вы уделите толику внимания этому письму и моим вынужденно нескромным вопросам.
Еще раз позвольте Вас поздравить с публикацией "Хозяина туннелей"!
Искренне Ваш,
Альберт Н. Уилмарт»
Невозможно сразу описать мое душевное состояние на тот момент, когда я дочитал письмо до конца. Придется продвигаться постепенно, шаг за шагом. Для начала, я был польщен и обрадован и даже крайне смущен его, по всей видимости, искренними похвалами моим стихам – а какой молодой поэт не испытал бы того же? А в придачу произведения мои привели в восхищение психолога и старого библиотекаря (и даже анатома!) – неслыханное дело!








