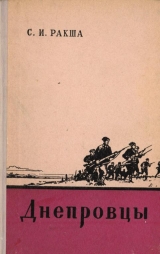
Текст книги "Днепровцы"
Автор книги: Степан Ракша
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
ДАН ПРИКАЗ ИДТИ НА СЕВЕР
1
За удачный десант Херсонский губисполком наградил полк Красным знаменем. Вооружившись алешковскими трофеями, мы стали хорошо оснащенной воинской частью. Появились артиллерия, телефонная связь, усилилась пулеметная команда, в ротах увеличилось число ручных пулеметов. Все конники из кавдивизиона заимели седла. Даже духовой оркестр доукомплектовался инструментами. Солиднее стала и обозная часть, правда, ее хозяйство – разные брички, лошади, верблюды, быки и стада овец для продовольствия – в основном было приобретено раньше, за счет помещиков и кулаков Таврии.
Гирский, получивший на вооружение своей батареи шестидюймовые пушки, похаживал вокруг них гоголем.
– Теперь держись, Антанта! – говорил он.
Но затишье, стоявшее на нашем участке, становилось все тревожнее. Вскоре было получено известие, что деникинцы, переправившиеся через Днепр севернее Херсона, захватили Кривой Рог и рвутся к Херсону со стороны Снегиревки.
Соседняя часть, стоявшая выше нас по Днепру, начала отход и обнажила наш левый фланг. В ночь на двенадцатое августа по этому обнаженному флангу ударил противник. Завязался тяжелый бой, и двадцать третьего вечером Совет пяти приказал нам на рассвете оставить город и форсированным маршем идти на Николаев.
Люди у нас, хоть и с горем на душе, но всегда что-нибудь напевали. Ох как разрывали сердца песни, с которыми полк оставлял Херсон! Растревожили всех думы о близких, оставшихся дома за Днепром: до последнего дня жила надежда, что мы удержимся в Херсоне и скоро вернемся в родной уезд.
Поповицкий, стараясь отвлечь людей от тяжких дум, говорил:
– Что же это вы, днепровцы-соколы, песнями нагоняете на себя грусть? Небось дома внушали своим родным не горевать, а сами нюни разводите. Не похоже это на вас.
Полк отходил на Николаев нестройными колоннами. На пятки нам наступали белоказаки Слащева. Донесения арьергардных подразделений держались штабом полка в строгом секрете, чтобы не будоражить и без того возбужденных бойцов.
Прошли полпути до Николаева, сделали короткий привал. Кухни роздали бойцам обед, и – снова ускоренный марш.
Командиры поминутно требовали прибавить шаг. Тех, кто поотбил ноги, усаживали на подводы.
К Николаеву подходили утром. Тихо лежал впереди город. Вдруг оттуда донеслись взрывы. Они следовали один за другим. На наших глазах вся левая часть города, прилегающая к Бугу, покрылась густыми черными клубами дыма. Головные подразделения полка остановились. Бойцы окружили комиссара, стоявшего посреди дороги в своей студенческой фуражке, с карабином за плечом.
– Что же это, товарищ комиссар? Разве и в Николаеве уже белые? Куда же мы теперь?
Лысенко и сам был взволнован, часто вытирал рукой пот со лба. Повисший протез левой руки придавал ему беспомощный вид, а каков комиссар на самом деле, бойцы еще не знали – не были с ним в бою.
Несколько минут полк стоял в оцепенении, глядя на клубящееся в городе облако дыма.
Таран приказал послать в Николаев вторую группу конных разведчиков и, когда они ускакали, двинул батальоны дальше, не меняя маршрута. Это внесло некоторое успокоение. Полк продолжал марш, хотя и замедленным темпом. Вперед на всякий случай было выслано несколько пулеметных тачанок, а артиллерию немного оттянули назад, чтобы отразить возможные наскоки белых со стороны Херсона.
Показались высокие башни заводских кранов, элеватор, плес Южного Буга, крытый док судоверфи и болтавшаяся на волнах коробка недостроенного большого корабля. Была видна и башня вокзальной водокачки вся в черном дыму.
Мы уже подходили к окраинам Николаева, когда вернулась первая разведка и доложила, что в городе разгуливают махновцы, рыскают по квартирам, взрывают склады и вагоны с боеприпасами. По приказу Тарана помчался в город один эскадрон из кавдивизиона Баржака, а полк стал занимать позиции на подступах к городу. В район расположения наших обозов и резервного батальона вскоре пожаловала группа конных махновцев и устроила митинг, пытаясь привлечь бойцов на свою сторону. Махновцы кричали, что «московские большевики» не хотят воевать с деникинцами, продали Украину и уходят к себе в Московию, что только «настоящие большевики», объединившись с анархистами, создадут «настоящие советы» и спасут Украину. Наши резервники послушали, послушали, а потом поняли, с кем имеют дело, и как по команде защелкали затворами. Бандиты мигом ускакали.
Непонятное сначала положение постепенно стало проясняться. Оказалось, что за два дня до нас в городе побывал Федько с двумя полками пехоты. По его приказанию на судостроительном заводе «Наваль» были взорваны четыре недостроенных бронепоезда, так как вывести их из Николаева было невозможно – все железнодорожные пути и на Харьков и на Киев перерезали деникинцы, а у самого Николаева подняли восстание немецкие кулаки-колонисты. Федько бросил против взбунтовавшихся колонистов два полка, которые уже более двух суток дрались за Варваровкой. К Тарану прибыли от Федько гонцы с просьбой пособить ударом конницы. Таран послал кавдивизион Баржака, а сам стал поторапливать пехоту с завершением окопных работ.
Сухопутные подступы к Николаеву ограничены двумя реками – Южным Бугом и Ингулом, полукольцом опоясывающими город. В этом проходе между Бугом и Ингулом полк и строил оборону.
К вечеру взрывы в городе прекратились, да и окопы были отрыты. Бойцы уже предвкушали заслуженный отдых. Но только село солнце за высокий берег Буга, как с противоположной стороны, из-за бугра, показался казачий разъезд. Он двигался в сторону кладбища, где занимали позиции роты первого батальона.
Покрутившись перед кладбищем, разъезд повернул назад и скрылся, а минут через двадцать из-за того же бугра стали выплывать эскадроны казаков. Сначала они двигались шагом, а затем, обнажив шашки, перешли на рысь, однако в лаву не развертывались.
Михаил Бондаренко, лежавший у пулемета в паре со своим младшим братом Василем, погрозил казакам пальцем – непорядок, мол. Он всегда грозил пальцем и бурчал себе под нос, когда замечал, что кто-нибудь – будь то свой или противник – ведет себя не так, как положено. Чаще всего от него доставалось за это неудержимому, слишком злому в бою брату, что нисколько не мешало им, однако, жить и воевать дружно.
Рядом с ними в окопе лежал наш молодой комиссар, своей единственной рукой все теснее и теснее прижимавший к себе карабин. Он только в тот день познакомился с братьями, и они сразу как-то подружились: потом комиссара часто можно было видеть о бою возле пулемета Бондаренок с карабином на протезе (протез он использовал при стрельбе в качестве упора). Словно вместо двух братьев стало трое.
– Комиссар, а волосы, как у неряшливого попа, – ворчал старший Бондаренко.
И он, как всегда, был прав – водился такой недостаток за нашим комиссаром.
…Ретивая атака казаков Слащева не принесла им славы. Развернувшиеся под нашим огнем, они быстро смешались. Одни всадники валились на землю, другие крутились на месте, а потом все эскадроны беспорядочно покатились назад и скрылись в тучах полевой пыли и надвигающихся сумерек.
Но это было только началом.
На другой день еще до восхода солнца артиллерия белых обрушилась на наши позиции в районе кладбища. В самом пекле оказалась вторая рота, решившая, что незачем рыть окопы, когда можно использовать кладбищенскую кирпичную ограду, проделав в ней бойницы. Много крови стоила роте эта ошибка: разлетавшиеся на куски кирпичи причиняли больший урон, чем снаряды, и раны от них оказались хуже, чем от металлических осколков.
Синеглазая, юркая медсестра, которую называли Марусей маленькой, хотя ее следовало бы называть Марусей бесстрашной, не успевала оказывать помощь раненым. На их крики прибежали начштаба полка Кулиш и комбат Луппа. Они пытались что-то предпринять, но безрезультатно: обстрел усиливался, раненых и убитых становилось все больше, и в конце концов комбату пришлось успокаивать начштаба, потерявшего в этом аду душевное равновесие. Кулиш вытаскивал из своей полевой сумки какие-то бумаги, рвал их и раскидывал клочки в разные стороны, а Луппа хватал его за руку, в чем-то убеждая.
Растерянность начштаба можно было понять. Он рассчитывал, что белым потребуется не меньше двух суток, чтобы подтянуть к Николаеву свою пехоту и артиллерию, а те сделали это за одни сутки. Если белые наступают с такой стремительностью, то не оказались ли мы уже в ловушке плотно окруженными врагом?
Дрогнут днепровцы или нет? От этого зависела судьба и жизнь полка. Нужно было продержаться, чего бы это ни стоило, пока части Федько и конники Баржака раскидают банды мятежников, преградившие путь на север. Продержаться или умереть!
После артподготовки из-за бугра вывалилась пехота белых. На полпути ее накрыла наша артиллерия. Белые залегли и начали групповые перебежки. Артиллеристы их возобновили огонь, чтобы прижать нас к земле, но это им не удалось. Когда пехота противника поднялась для последнего броска, наши позиции ощетинились, даже раненые, только что кричавшие от боли, встали с оружием за полуразрушенную кладбищенскую стенку, и атака белых захлебнулась.
Полк, истекая кровью, удерживал свои позиции, пока деникинцы не потеснили соседнюю с ними часть, упиравшуюся правым флангом в Буг. Корабли интервентов, войдя в фарватер Буга, стали демонстративно разворачиваться против нас. Но к этому времени наши обозы и санитарные повозки с ранеными уже заканчивали переправу – путь через Варваровку на север был расчищен.
Когда белые ворвались на кладбище, там уже было пусто – последние бойцы, прикрывавшие отход своей роты, перебирались через ограду.
2
Было пыльно, душно, нещадно жгло солнце. Жители рабочих предместий выставили у своих домов ведра с водой. Провожая нас, они желали счастливого пути и скорого возвращения.
Единственным свободным выходом из города был разводной мост через Буг. Противник обстреливал его из артиллерии, но снаряды рвались в реке, и полк перешел на правый берег без потерь. Только командир кавдивизиона Баржак потерял свою знаменитую пожарную каску. Она упала с головы и свалилась в воду, когда его лошадь вздыбилась, испугавшись близкого разрыва.
Конники проходили мост последними. Когда они переправились и стали обгонять взбиравшиеся на гору пулеметные тачанки, был дан приказ взорвать мост.
Мы укрылись от противника за Бугом, но занятые нами позиции на его высоком берегу оказались в зоне действенного огня корабельных орудий интервентов. Наша пехота еще не успела отрыть окопы, а вражеские миноносцы уже начали бомбардировку. Сразу появились раненые и убитые.
На следующий день обстрел усилился – к Николаеву подошли новые вражеские корабли. Таран приказал своей артиллерии открыть ответный огонь. Батарея Гирского быстро израсходовала весь запас снарядов английских трофейных пушек, и это возымело некоторое действие: корабли интервентов отошли вниз по реке. Однако на другой день корабельная артиллерия противника возобновила огонь и заставила нас метаться в поисках укрытий. Снаряды нашей батареи теперь уже не достигали цели: дальнобойность русских полевых пушек была меньше английских морских. Интервенты безнаказанно опустошали наши ряды. А тут еще пронесся слух, что деникинцы опять, как это было под Херсоном, обходят нас с севера.
Таран и Лысенко поехали в штаб Федько, надеясь там прояснить обстановку. Вернулись они вечером, когда артиллерийский обстрел с кораблей уже прекратился и санитары с выделенными им на помощь музыкантами полкового оркестра приступили к уборке трупов. Днем убитых не убирали, и на жаре, которая и к вечеру не спала, они начали уже разлагаться.
Это было 20 августа 1919 года – памятный день! По возвращении от Федько Таран, ничего не объясняя, приказал сниматься с позиций и уничтожить трофейные пушки, оставшиеся без снарядов. Лысенко послал связных в роты оповестить коммунистов, чтобы сейчас же шли в балку на партийное собрание.
Многие недоумевали:
– Время ли сейчас для собрания? А вдруг с кораблей снова откроют огонь? Надо сначала вывести полк из зоны артиллерийского обстрела, а потом уже созывать собрание.
Коммунисты медленно собирались в балке. Командиры и политруки были заняты – отводили с позиций свои подразделения, разыскивали куда-то пропавшие кухни, чтобы скорее накормить бойцов, уже сутки ничего не евших. Потом выяснилось, что кухни увлек за собой поток обозов Федько, хлынувший в тот день через район расположения нашего полка.
Комиссары батальонов просили отложить собрание, провести его после того, как полк отойдет в тыл.
– Это невозможно, – сказал Лысенко. – Никакого тыла у нас больше нет. Всюду фронт, и позади, и впереди, кругом. Придется с боями пробиваться на север, под Киев. Приказ получен из 12-й армии по радио. Наш полк входит в состав 58-й дивизии Федько [2]2
Эта дивизия объединила все разрозненные части и отряды, отходившие из Крыма, – Таврический полк Моисеенко, Заднепровский Лунева, полки Федько, отряды Шишкина, Мокроусова и Днепровский полк Тарана.
[Закрыть].
– А чего обсуждать – приказ ведь дан! – перебил комиссара Таран. Он тоже считал, что вряд ли нужно сейчас созывать коммунистов на собрание.
– Мы не собираемся обсуждать приказ, – ответил комиссар. – Но коммунисты должны знать обстановку. Надо откровенно сказать народу, что все пути нашего отхода отрезаны. Если окажутся трусы и маловеры…
Прокофий Иванович опять перебил:
– Трусам и маловерам я не буду чинить препятствий – пусть уходят и не мешают нам… Ладно, поторапливайте коммунистов на собрание.
Взошла луна, и при ее свете было видно, как со всех сторон степи стекались в балку люди.
Около трехсот человек было в парторганизации полка – членов партии, кандидатов и сочувствующих, – и все из одного уезда: наша уездная партийная организация почти целиком влилась в полк. Уездное землячество делилось на сельские, и эти сельские землячества первое время представляли собой крепкие ядрышки. При формировании полка само собой получилось так, что в одной роте оказались сплошь каланчане, в другой – збурьевцы, в третьей – чалбассцы, в четвертой – чаплынцы.
И на партийное собрание коммунисты приходили и рассаживались по склону балки своими сельскими землячествами.
Сразу узнаешь збурьевцев. Вожак их – Луппа, в черной кубанке, с бородой – под казака рядится. Френч на нем из шинельного сукна с большими накладными карманами, на груди – бинокль, с которым он не расстается ни днем ни ночью. Идет спокойно, не торопясь, будто командующий перед фронтом расхаживает.
За ним братья Биленко шагают вразвалку, щелкая семечки и поплевывая скорлупой. Их четверо в полку, но на собрание идут трое – четвертый, старший, лежит в санчасти, раненый.
Чаплынцев тоже издалека видно. Баржак, хотя и потерял свою сверкающую каску на переправе через Буг, но его не спутаешь ни с кем – выделяется своей горделивой осанкой. Между тем человек он весьма скромный – в споры ни с кем не вступал, говорил, что его дело не рассуждать, а воевать. И воевал храбро – только прикажи идти в атаку, сразу шашку вон и «Эскадрон, вперед за мной!» Одна у него была слабость – любил яркую одежду. Теперь он щеголял в таких же красных штанах, какие раньше носил у нас один Неволик.
Баржак со своими конниками усаживается на пожухлую траву, и все чаплынские пехотинцы тоже начинают группироваться вокруг него. Кто располагается лежа, кто сидя. Один маленький Кулик стоит, зорко поглядывая по сторонам, – то ли это у него привычка разведчика, то ли он высматривает, кто еще из односельчан пришел на собрание. Вон идет, чтобы присоединиться к своим чаплынцам, и дед Чуприна – «партийный апостол», как его назвали в полку за степенную бороду и проповеди о партийной чести, которые он любил читать молодым партийцам.
Немного в стороне от чаплынцев рассаживаются каланчане. В центре их – Харченко и два Тарана: Степан, брат командира, и Семен, их однофамилец. Над всем маячит голова Семена – непомерно высокого роста он. На его румяных щеках ямочки играют, как у девушки, а разговаривает какой-то несвязной скороговоркой, но всегда с приветливой улыбкой.
А вот и маячковцы пожаловали – слышен громкий голос Подвойского. Всезнайкой он слыл у нас и был ужасный спорщик. Любил, чтобы с ним считалось командование полка. Часто приходил в штаб с каким-нибудь предложением или просто повидаться и поспорить со своим земляком, адъютантом Фурсенко.
Придя на собрание, тоже сразу же вцепился в него. Фурсенко отвечает ему тихо. Говорит он малость в нос и с обычной своей озабоченностью. Забот у адъютанта действительно много: надо и наличие людей в батальонах проверить, и запасы в обозах обозреть, и у соседей, что слева, узнать, как идут дела, и у тех, что справа, осведомиться. Фурсенко все успевал. Мог он и в бою подать пример, поднять в атаку роту. А в штабе, диктуя какую-нибудь бумажку, умел невзначай одарить своей лаской машинистку.
Тут же присаживаются два старика, земляки из Алешек – Савенков и Диденко, посыльные штаба, подручные адъютанта. Они всегда при нем и так его изучили, со всеми манерами и капризами, что по одному взгляду все понимали. Особенно отличался этим чутьем Савенков. Приказ он с лету ловил, однако с исполнением не взыщите – бегом не побежит. Старик он был не дряхлый, но все же ему перевалило за шестьдесят и ноги свои Савенков берег. Да и вообще уважал себя как самого старого по возрасту партийца.
Оба старика были хорошими агитаторами, а вот в личной жизни по некоторым пунктам расходились. Совершенно различных мнений придерживались они об отношении к врагу. Савенков считал, что наша партия мягка к врагам.
– Раз враг, – говорил он, – так его надо безусловно низвести, пленный он или не пленный. Раз враг, место его безусловно в яме.
Диденко не желал слушать таких речей, сердито отворачивался, и это бесило Савенкова. Стараясь вывести своего земляка из себя, он продолжал, обращаясь уже не к нему, а к мальчику Яше, третьему посыльному штаба:
– А лучше всего прах его – злодея – по ветру пустить, правда, Яшка?..
И на собрании Савенков все время зудил о чем-то на ухо Диденко, а тот отворачивался.
К ним вскоре подсели наши неразлучные чалбассовские коммунисты – Моисей Ганоцкий и Гавриил Соценко, тоже люди пожилые и тоже агитаторы. Кузнец Ганоцкий, уходя в полк, оставил дома семью в шесть человек, а Соценко – бобыль, «босявка», как его звали кулаки. Ему было за пятьдесят, а он еще только мечтал жениться, всю жизнь скитался в поисках работы, то в городе у ворот завода околачивался, то на черном дворе помещика – авось позовут уголь или соль разгружать. Оба они считались специалистами «по ужасам» классовой эксплуатации, примеры которых приводили из собственной жизни. Скиталец Соценко любил еще поговорить относительно «идиотизма деревенской жизни» – это тоже был его конек.
Идут Гриша Мендус и Роман Головачев. Оба они из Скадовска, тоже старые дружки. Гриша шагает босиком, в штанах, подвязанных внизу тесемкой, в серой измятой кепке. Роман – в сапогах, в черной морской фуражке. О чем-то горячо рассуждают. Роман то и дело подкручивает свои ржавые усы.
Навстречу им бросается Василий Коваленко, начальник пулеметной команды. Он давно уже тут, ввязался в спор с кем-то, но, увидев своих земляков, поспешил к ним. Обнимает Гришу, потом Романа, хлопает по плечу одного и другого – всячески выражает радость встречи с ними.
– А что же ты, Гриша, обувки до сих пор не достал? – спрашивает он, глядя на босые ноги Мендуса.
– На что она? И без нее жарко, – отвечает Мендус.
– Ты же, Гриша, командир, неудобно все-таки босиком – культурности не видно, – урезонивает Коваленко.
Но Мендус пренебрежительно отмахивается:
– Нашел о чем разговор вести!
Он считает обувку недостойным предметом для разговора между коммунистами.
Кажется, все уже собрались? Нет, вон хорловцы еще идут и несут на носилках своего вожака Алексея Гончарова. В Алешках деникинский офицер всадил ему в голову пулю из револьвера. Алексея вывезли на катере в Херсон, там положили на санитарную двуколку и довезли до Николаева, а он все не приходил в сознание. Думали уже, что не выживет, но, когда уходили из Николаева, на мосту через Буг под артиллерийским обстрелом Гончаров вдруг очнулся и сразу заволновался, узнав, как далеко отступили мы, пока он лежал в забытьи. Его все беспокоило: и почему оставили в Херсоне семьи ревкомовцев, и зачем было взрывать трофейные пушки? Услыхав о партийном собрании, он послал кого-то за своими товарищами и попросил их снести его туда на носилках.
Хорловские моряки положили Алексея Гончарова на краю балки так, чтобы он, не поворачивая забинтованной головы, мог видеть всех. И тотчас раздался чей-то нетерпеливый возглас:
– Ну чего же не начинаем? Все живые партийцы уже собрались.
– Отсутствуют только мертвые, – добавил кто-то.
Поповицкий шагнул вперед и, подняв руку, сказал:
– Товарищи! По предварительным данным, за последние дни погибло в боях двадцать три члена нашей партийной организации. Предлагаю почтить их память вставанием – и, сняв фуражку, встал в положение «смирно».
Собрание поднялось. Триста человек стояли с обнаженными головами на затененном склоне балки. Луна, еще невысоко взобравшаяся на небосклон, освещала только стоявших наверху Тарана, Лысенко, Поповицкого и лежавшего чуть пониже на носилках Алексея Гончарова.
Таран вдруг шагнул к Поповицкому и тронул его за плечо – должно быть, решил, что церемония излишке затягивается. Поповицкий, быстро надев фуражку, объявил, что слово для информации по текущему моменту предоставляется комиссару.
Информация была короткой и торопливой.
– Товарищи, собрание необходимо было созвать, – начал Лысенко, словно оправдываясь. – Положение чрезвычайно трудное. Коммунисты должны это знать. Враги жмут на нас со всех сторон. С востока идут наперерез нам деникинцы, с запада – петлюровцы. Путь на север закрывают банды Махно, Тютюника, Ангела и Зеленого. Но мы должны идти на север. Другого выхода нет. Нам приказано пробиваться к Киеву, и мы обязаны пробиться. Там собираются все силы Украинского фронта. Там нас ждет помощь из России. Политотдел дивизии обязал меня известить об этом коммунистов, чтобы мобилизовать всех бойцов и не допустить какой-либо паники.
Таран, присевший рядом, поторапливал комиссара своими нетерпеливыми взглядами. Когда Лысенко закончил призывом к коммунистам тесней сплотить свои ряды и Поповицкий спросил: «Кто еще хочет выступить», – командир поднялся и сказал:
– Вопрос ясен. Приказ дан идти на север, а кому это не по душе или кто в труса верует, тем мы должны прямо заявить: убирайтесь от нас на все четыре стороны, мы обойдемся без вас. Так, товарищи, и передайте в ротах. Без трусов и паникеров нам будет легче… Я все сказал, и давайте быстрее кончать собрание.
Никто больше не просил слова. Далекий и опасный предстоял нам поход. Перед глазами вставали родные хаты, семьи, детишки. Еще раз мысленно прощаясь с ними, все сидели молча, искоса поглядывали друг на друга. Только начальник пешей разведки Алехин завел какой-то разговор со своими земляками. Разговаривал он вполголоса, но с энергичной жестикуляцией.
– А ну, Алехин, о чем ты там толкуешь? Выкладывай нам всем свои суждения! – крикнул Поповицкий.
Алехина мы считали честным и преданным партии товарищем и поэтому снисходительно относились к некоторым его смешным претензиям. Одной из его претензий было желание иметь собственное суждение решительно по всем вопросам. Ко всему, что говорили командиры, он относился с какой-то странной подозрительностью и в то же время страдал удивительной восприимчивостью ко всяким слухам и толкам. Когда Поповицкий предложил ему выступить, Алехин заерзал и, поднявшись на колени, сказал:
– Я обожду – пусть сначала другие выскажутся.
Однако никто не желал выступать, общее настроение было за то, чтобы скорее кончать собрание. Вражеские корабли, стоявшие ниже Николаева, в любой момент могли обогнуть город и подойти вплотную к расположению полка, а наша артиллерия уже снялась с позиций. И Поповицкий объявил:
– Слово предоставляется Алехину.
Тот нехотя поднялся на ноги. В кругу своих приятелей он был боек на слово, и руками размахивал, и бил себя кулаком в грудь, но на собраниях не любил выступать, а если приходилось, то норовил последним, чтобы обругать всех ораторов: один, мол, говорит одно, другой другое – не собрание, а каша какая-то. Но что он сам хочет сказать, понять было невозможно. И на этот раз Алехин остался верен себе.
– Я так думаю, товарищи: а куда смотрели командиры раньше? – говорил он, ероша волосы на голове и озираясь по сторонам. – Я так думаю, что если уходить на север, то надо было уходить раньше, пока все дороги были свободны, а теперь, когда все дороги перерезаны, уже поздно – противник сотрет нас в порошок.
Собрание недовольно загудело, и громко прозвучал насмешливый голос командира:
– Мы знаем, что тебе, Алехин, как начальнику разведки, всегда известны планы противника. Так вот ты и подскажи-ка нам, что делать.
Набравшись духа, Алехин снова заговорил:
– Я так полагаю, что уходить на север нам не надо. Что там делается – неизвестно. Да и местность незнакомая нам… Я полагаю, что надо разбиться на мелкие группы и вернуться к себе в плавни и кучугуры, чтобы партизанить, как при немцах партизанили.
Песнь была не новая. Две реки – Днепр и Буг – отделяли уже нас от своих родных сел, где мы около года держали свой партизанский, воистину доморощенный фронт. И надо идти еще куда-то дальше, на север, под Киев. Дойдем ли? Деникин уже под Курском и к Киеву с каждым днем все быстрее прет. Как бы не попасть нам в такую же ловушку, как Иван Матвеев прошлым летом на Северном Кавказе попал. Многие ли вернулись из тех, кто ушел с ним? Может быть, и верно, что лучше опять партизанить в своих обжитых уже плавнях и кучугурах. Разве плохо тогда получалось? Начинали в одиночку, кучками, а потом чуть республику не объявили, флот свой завели, адмирала Яникоста с его антантовской эскадрой заставили убраться подальше от нашего побережья…
Как только Алехин заговорил о плавнях и кучугурах, Таран вскочил, будто на пружинах. Раздвинул стоявших рядом Поповицкого и Лысенко в разные стороны и вышел вперед, словно он своей командирской властью отстранял их от ведения собрания за то, что допустили такое возмутительное выступление.
– Кто тебе это подсказал, как погубить полк? – гневно закричал он, устремив на Алехина взгляд, под которым тот стал медленно оседать на колени. – Или сам, умный такой, додумался до этого?
– Я так думаю… Это только мое предложение… чтобы не погубить, а спасти полк… – бормотал Алехин, уже сидя в тени, еще покрывавшей склон балки.
– Шкуру свою спасти хочешь, а не полк, – тихо и с грустью сказал Алексей Гончаров, не подымая головы с носилок.
Кто-то вспомнил о раненых – в обозе полка их было более двухсот – и крикнул с отчаянной досадой:
– Да что его, Алехина, слушать! В плавни уйдем, а раненых бросим в степи, чтобы белые их порубали, – так, что ли?
Негодующий шум пошел по балке. Поповицкий снова шагнул вперед, призывая людей к порядку, и, после того как стих шум, спросил:
– Кто еще желает говорить?
Поднялось сразу много рук. Таран тоже поднял руку и сказал, что вносит предложение ввиду чрезвычайной обстановки превратить собрание.
Старик Чуприна запротестовал:
– Нет, это неправильно, не по-партийному. Надо высказаться всем, кто хочет.
– Проголосуем, – сказал Поповицкий.
Настроение людей изменилось, и большинство проголосовало за продолжение собрания: чрезвычайная обстановка не была принята во внимание. Таран молча сел на откос овражка рядом с начальником штаба и адъютантом. Собрание продолжалось, невзирая на то что корабли Антанты могли в любой момент накрыть балку огнем.
Ораторы один за другим подымались, кто на колени, кто во весь рост. Ругали Алехина, говорили, что если он не хочет идти со всей дивизией на север, то пусть идет в свои плавни и отлеживается там до нашего возвращения. А под конец выступил Харченко. По обыкновению своему начал он с того, что почесал голову одной рукой, затем другой, и лишь потом заговорил не торопясь:
– Как же это у нас с вами получается? Два десятка человек выступило, и все ругали Алехина. Правильно его ругали… Но сами товарищи, которые его ругали, тоже делают не так, как надо партийцам. Очень нехорошо поступают. Нужно было нам произвести перестановку партийцев по ротам? Нужно! А то в одной роте густо, а в другой пусто. Но что с того получилось? Трех дней не прошло после перестановки, а некоторые партийцы уже опять каким-то образом очутились на своих ридных местах: каланчане в каланчакской роте, чаплынцы в чаплынской. За Интернационал боремся, а без своих односельчан жить не можем. Дисциплина у нас оттого нарушается. С этим надо покончить. Я до вас, товарищи командир и комиссар, обращаюсь.
– Не беспокойся, Феодосий Степанович, покончим раз и навсегда, – пообещал ему с места Таран и, поднявшись, сказал: – Довожу до всеобщего сведения, что с сегодняшнего дня наш полк получил номер пятьсот семнадцатый и, значит, он больше не именуется Днепровским. Это слово должно быть вычеркнуто… Понятно всем?
Сначала люди в недоумении переглядывались, пожимали плечами. Потом стали раздаваться голоса:
– Непонятно.
– Зачем вычеркивать?
– Просим разъяснить.
– Чего тут непонятного? Все ясно, – кинул в ответ Кулиш. – Мы теперь регулярная часть Красной Армии, а частям Красной Армии не положено других наименований, кроме присвоенных им номеров.
Но и это разъяснение мало кого удовлетворило. Когда коммунисты расходились с собрания по своим ротам, многие говорили, что тут что-то не то.
– Кулиш определенно загнул, – горячился брат командира Степан. – Не помирится наш народ, чтобы вычеркивали память о его родной земле. Не может такого закона быть в Красной Армии. Надо, чтобы комиссар попросил разъяснения в политотделе дивизии… Что ж из того, что 517-й, а все-таки наш родной Днепровский.









