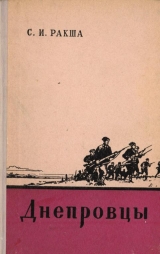
Текст книги "Днепровцы"
Автор книги: Степан Ракша
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Днепровцы
Степан Иванович РАКША
ЗЕМЛЯ И МИР
1
По предкам нас звали турбаевцами. Жили наши предки на Полтавщине, в селе Турбаи, и еще при Екатерине Второй убили своего пана, сожгли его поместье. За бунт царица повелела выслать все Турбаи в безводные степи Северной Таврии батрачить на немцев помещиков Фальца и Фейна. Этим Фальцу и Фейну, которые потом, породнившись между собой, стали именоваться Фальц-Фейнами, той же Екатериной были отданы все лучшие земли у Перекопа по пять копеек за десятину.
Дед мой говорил:
– Мы, турбаевцы, люди особые – очень живучие и плодовитые. От нас пошли и Чалбассы, и Чаплынка, и Каланчак, и Копани, обе Маячки, обе Збурьевки, старая и новая – все села от Сивашей до кучугур [1]1
Название «кучугуры» – производное от слов «кучи» и «горы». В устье Днепра по его левому берегу на много верст протянулись навеянные ветрами «кучи и горы», то есть холмы белого песка, поросшие мелким кустарником.
[Закрыть].
Все ли села, названные дедом, берут свое начало от турбаевцев, этого уже сейчас не проверишь. Но то, что турбаевцы люди живучие, это верно: дед мой, ровесник прошлого века, переживший его на восемь лет, не был среди них исключением.
Деда мальчиком отдали в батраки, и почти сто лет он пас на Перекопе несметные отары Фальц-Фейнов, дослужился там до атагаса – старшего чабана. А когда злая бестия София Богдановна Фальц-Фейн уволила его, перебрался из ее Преображенки в Скадовск и опять закабалил себя, нанявшись к новому хозяину конюхом и водовозом. Второй век шел деду, а он и летом и зимой спал на конюшне…
Отца я не знал. Слыхал, что служил он тоже у Фальц-Фейнов табунщиком и славился как редкостный танцор и джигит, хотя все наши табунщики были лихими плясунами и наездниками.
Однажды зимой, еще малышом, сидел я на корточках у печи, отогревал зазябшего воробушка, и вдруг кто-то постучал в окно. От испуга выпустил воробушка из рук, и он, впорхнув прямо в печь, сгорел в огне. Потом мне говорили, что стучал в окно мой отец, приезжавший домой. Но каков он был – не запомнилось. Вскоре после того отец помер – разбился, упав с лошади на скаку.
Как и все безземельные турбаевцы, еще мальчишкой ушел я из дому скитаться по миру. Исходил много поместий, хуторов, сел, городов и только в Николаеве задержался: понравилось суда строить, да и товарищей приобрел хороших. Они помогли мне разобраться в жизни и увидеть, где находится корень зла.
Поглядите на карту – от устья Днепра до Каховки, от Каховки прямо на юг к Перекопу, от Перекопа по берегу Черного моря до Днепровского лимана – вот этот угол земли между Днепром и морем и был Днепровским уездом. Разделите его пополам так, чтобы одна половина протянулась вдоль Днепра, а другая – вдоль моря, и если у вас в руках старая, дореволюционная карта, то вы сразу обратите внимание, что верхняя половина уезда населена много гуще, чем нижняя, хотя, казалось бы, должно быть наоборот: ведь у Днепра – кучугуры, белые пески, на которых растет один шелех, а ближе к морю – чернозем, и там на тучных пастбищах в иной год бывает такой травостой, что волы в нем скрываются, – идет стадо, а над травой только рога колышутся.
Так вот и поделен был уезд: у кучугуров, на песчаных землях, жались села турбаевцев, а на тучных черноземах раскинулись владения Фальц-Фейнов, Шпехтов, Шмидтов, Шредеров, Диминитру. Не знаю, где еще вопрос о земле был более жгучим, чем у нас. И не просто оказалось решать его, когда после свержения самодержавия мы вернулись с германской войны домой.
Каких только партий не развелось к тому времени в нашем уезде – кадеты, меньшевики, эсеры, трудовики, анархисты, бундовцы и эти еще украинские самостийники, ратовавшие за Центральную Раду. Все они грызлись между собой, но как только дело касалось земли, в один голос кричали, что до Учредительного собрания землю помещиков трогать нельзя, – это, мол, беззаконие, грабеж, на который толкают мужиков приехавшие с фронта большевики, не иначе как подкупленные немцами.
Конечно, и среди турбаевцев, получивших некогда на ревизскую душу по шесть десятин песков, люди были разные: и такие, что, прибрав к своим рукам наделы сотен ревизских душ, жили на хуторах не хуже иных помещиков, и такие, что еще держались кое-как, из последних сил за свою единственную ревизскую душу или что осталось от нее. Но если взять наше село Чалбассы, то тут большая часть крестьян уже забыла, что у них в роду тоже когда-то имелась земля.
Надо правду сказать, первое время крестьянская масса стояла в стороне от кипевшей в уезде межпартийной борьбы, на митингах голоса своего не подавала, только прислушивалась к спорам записных ораторов, про себя решая, за какой партией ей идти. У нас, в Чалбассах, всеми делами заправлял эсер Закруткин – председатель волостного земства. На митингах он распинался за демократию и социализм, а когда в Мелитополе был назначен крестьянский съезд северных уездов Таврии, хотел тишком, без выборов, послать туда только своих земцев.
Чтобы разоблачить обман, пришлось мне ударить в церковный колокол. Закруткин поднял крик: незаконно, мол, собирать народ без его ведома. Но у самого народа было на этот счет свое мнение: он стал на мою сторону и выбрал меня делегатом на съезд.
Закруткин в отместку провел в земстве постановление о высылке меня за пределы Днепровского уезда, как большевика и немецкого шпиона. Но он запоздал. Вернулись домой другие чалбассцы-большевики. Наша ячейка разрослась до двенадцати человек. Беднота почувствовала свою силу. И когда в Петрограде на Втором съезде Советов прозвучал голос Ленина: вся власть Советам, мир народам, фабрики рабочим, земля крестьянам, хлеб голодным, – мы взяли Закруткина под руки, вывели из волостного правления, раскачали и кинули с высокого крыльца вниз.
Так: было в ту пору по всему уезду: рабочие и крестьянская беднота решительно свергали и выбрасывали вон эсеро-меньшевистские волостные земства и комитеты, создавали вместо них свои советские органы. А Советы сразу же приступали к разделу помещичьей земли.
Вот с этого в уезде и началась великая битва.
2
– Скорее, скорее, товарищи!
– Шире шаг!
Чаще всего это был голос Сеньки Сухины. Он боялся, что наш отряд может опоздать, и проклинал предательскую клику Викжеля, сорвавшую в Херсоне подачу поездов для красногвардейцев.
Кто в Чалбассах не знал рыжего Сеньку Сухину? Это он однажды поднял бедняцких парней против кулаков, и на улице завязалась драка, в которую ввязался даже сельский поп. Долго смеялись потом в Чалбассах, вспоминая, как Сенька пугнул тогда батюшку, и тот, вихрем взметнувшись вверх, повис на плетне: зацепился рясой.
Сенька не был большевиком, но, когда Закруткин на митинге убеждал народ не трогать землю помещиков до решения Учредительного собрания, он, пробираясь сквозь толпу к крыльцу волостного правления, потрясал кулаком и кричал:
– Никто не даст нам избавленья: ни бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой.
Буквально восприняв слова международного пролетарского гимна, он не раз порывался решать земельный вопрос в Чалбассах «своею собственной рукой».
И теперь вот Семен опять горячился. Да и как не горячиться было ему, потомственному батраку, наконец-то получившему землю? Надо сеять – весна уже, и вдруг приходит весть, что самостийная Центральная Рада заключила договор с немцами, которые идут на Украину, чтобы задушить революцию.
Рабочие Николаева выступили в числе первых дать отпор оккупантам и не одни сутки уже вели тяжелые бои. Мы спешили к ним на помощь – отряды из Херсона, Алешек, Каховки, Маячек и Чалбасс.
Прошли полпути от Херсона до Николаева, а умчавшиеся вперед конники все еще не давали о себе знать. Нервозность и беспокойство охватили всех.
Люди устали – ведь со вчерашнего вечера в походе, а привала еще не было: делали только пятиминутные остановки, чтобы портянки перемотать, и шагали дальше, тая про себя разные тревожные догадки. А если кто высказывал эти догадки вслух, Семен Сухина ругался:
– Чего подливаешь масла в огонь?
Наконец в лучах утреннего солнца показалось на горизонте несколько скачущих всадников. Когда они приблизились, отряды остановились. Остановились и всадники на взмыленных конях. Они еще ничего не сказали, но по их лицам и без слов можно было понять, что наша помощь опоздала. Это всем стало ясно, когда командир группы наших отрядов, выслушав доклад старшего из конников, снял шапку. Все сбившиеся в толпу бойцы и командиры тоже сняли шапки и стояли молча, потрясенные известием о тяжелых жертвах, которые понесли николаевцы при защите своего города.
Как быть дальше? Что делать? Никто из наших командиров этого не знал. Один из них помчался на коне в ближайшее село, чтобы связаться по телефону со штабом революционной обороны в Херсоне. В ожидании его возвращения красногвардейцы сидели на краю дороги. Кто в унылом раздумье опустил голову, кто, опираясь на винтовку, поглядывал тревожно на горизонт.
Казалось, что надвигается буря, но горизонт был чист. Только ветер порой подымал там пыль столбом, кружил и гнал ее по дороге, будто черт плясал. Да плыли по небу беленькие облачка, тень от которых мрачным крылом покрывала кое-где яркую зелень озимых. Кто-то сказал:
– Яровые-то уже взошли, – и по дороге прошел вздох – от одного красногвардейца к другому. Как не вздохнуть было тем, у кого только что полученная земля осталась незасеянной?
Не старики мы были – мало кто из нас успел жениться. Вернулись с одной войны и пошли на другую. Была и такая зеленая молодежь, как Митя Целинко, который говорил в походе:
– Мне бы только высмотреть себе невесту. – Но и он добавлял: – Подамся я тогда на выселки из Чалбасс, хорошую хату построю на своей земле…
Прошел час томительного ожидания и раздумья. Вернулся ездивший в село командир. Всполошились, забегали красногвардейцы, передавая по отрядам весть о том, что херсонский штаб дал приказ идти назад в Херсон и там готовить отпор немцам. Раздалась команда:
– Стройся!
И сейчас же ее покрыл другой голос:
– Товарищи! Земляки и братья!
Все обернулись на этот голос и увидели высокого солдата с протянутой вперед рукой, в которой он сжимал фуражку. Красное лицо, ястребиный нос, горящие глаза. Это и был командир нашего чалбасского отряда Семен Сухина.
Ветер раздувал его рыжие взлохмаченные волосы.
– Да что же это такое, товарищи дорогие? – надрывался Семен. – Немцы в Николаеве чинят расправу. Там льется кровь наших братьев, а нам приказ идти назад в Херсон? Да как же это можно? Вы только гляньте, сколько нас! Из Каховки пришли, из Алешек, из Маячек и мы, из Чалбасс. Больше хорошего полка. Все турбаевцы. Это же сила! Выбьем немцев из города, ручаюсь, что выбьем. Так шарахнем их, что эти душители революции ног не унесут.
Повторно отдана была команда «Строиться», но никто не шелохнулся, и Семен Сухина продолжал кричать:
– Чего нам бояться немцев, когда за нами весь Днепровский уезд? Пошли гонцов, и придет на помощь Чаплынка, и Каланчак придет, и Збурьевка, и Хорлы. Кто не встанет грудью за свою землю?
Командир нашей группы подошел к Семену и оборвал его:
– Прекрати митинг – дан приказ скорее идти в Херсон. Там и дадим решительный бой.
Но Семен не унимался. Ссылаясь на свой фронтовой опыт, он доказывал, что надо идти на Николаев и победа будет обеспечена.
– Немцы заняты своей добычей. Они не ждут нашего удара. Разобьем их и выручим рабочих. За одну сегодняшнюю ночь все сделаем. Поверьте мне, что момент очень удобный.
Командир группы снова оборвал его.
– Интересный ты человек, товарищ Сухина. Видно, что воин храбрый и опытный. К тому же и большой протестант. Все это очень хорошо, но ты солдат и, значит, знаешь: раз приказ дан, его надо выполнять. Согласен ты с этим, товарищ Сухина?
Семен посмотрел на командира осоловелыми глазами, махнул рукой, кинул фуражку под ноги, сел на землю и стал закуривать.
– Согласны, товарищи? – крикнул командир группы.
– Согласны… Приходится согласиться, – неуверенно и как-то вразнобой отвечали бойцы.
– Согласны? – повторил командир.
– Согласны, – ответили бойцы более дружно, но еще далеко не все.
И тогда, как это принято было у нас на сельских сходках, командир, возвысив голос, спросил в третий, последний, раз:
– Согласны?
– Согласны! – прогремело в ответ, и сейчас же снова последовала команда:
– Строиться!
Медленно, не по-военному собирались отряды. Нехотя строились по четыре.
3
К ночи отряды добрались до Херсона и стали занимать оборону. Наш чалбасский отряд получил участок на кладбище возле вокзала. К середине следующего дня мы уже сидели там в наскоро отрытых окопах.
Под вечер, выставив заставы и дозоры, Семен Сухина забрался на дерево и, поглядывая в степь, стал ругать немцев за то, что долго не идут.
– Осторожничают, трепят нервы революционному народу! Ждут, пока главные силы подтянутся. Ну и гады!..
Долго негодовал Семен. Доставалось от него и штабу обороны Херсона.
– Это же не царская война, чтобы без надобности томить людей в окопах. Зачем окопы? Раз народ сам поднялся, смело веди его в бой! Ни часу промедления! Пошли бы вчера на Николаев – и делу конец. Расчехвостили бы немцев в пух и прах. Я-то уж знаю…
По всему изрытому окопами кладбищу разносился голос нашего командира, ораторствовавшего с дерева. Потом он соскочил на землю, подошел ко мне и сказал:
– Ты большевик, и я тебя спрашиваю: кто это мутит воду? Не этот ли одесский командующий Муравьев, что посылал нам в ревком телеграммы с угрозами, диктовал, кого уничтожать, кого прогонять? А кто он такой? Какое он имеет к нам отношение? Чем мы ему обязаны?
Телеграммы Муравьева действительно были полны угроз и требований о жестоких расправах над «врагами революции». Кого только не причислял к врагам революции этот командующий из левых эсеров! Все у него были на подозрении, в том числе и георгиевские кавалеры. Последнее особенно задевало Семена Сухину: он вернулся с германской войны старшим унтер-офицером с четырьмя георгиевскими крестами.
Много смуты в умах наших людей сеяли тогда разные примазавшиеся к революции авантюристы вроде этого Муравьева, командовавшего красногвардейскими отрядами на юге Украины, а впоследствии расстрелянного на Волге за попытку поднять мятеж против Советской власти.
Объявилась у нас еще какая-то Маруська Никифорова со своим летучим конным отрядом под черным знаменем анархии. Она тоже призывала жестоко расправляться с врагами революции и под видом красного террора устраивала еврейские погромы.
Когда мы заняли оборону у Херсона, Маруська со своими «братишками» уже ушла за Днепр и барахолила по селам нашего уезда. Это волновало красногвардейцев, порождало всякие нехорошие слухи.
В тревожных разговорах о предательствах и изменах, которые могут нас погубить, прошла ночь, а немцев все не видно. Только после полудня далеко в степи показались их конные разъезды. Однако приблизиться к городу не рискнули – покрутились на почтительном расстоянии и скрылись.
Семен Сухина сразу забыл о своих обидах. Бегая по нашему участку обороны, проверяя, как обстоит дело с боеприпасами, не слишком ли далеко санитары, он говорил:
– Ну, хлопцы, теперь глядеть в оба! Будьте уверены – сейчас и главные силы их подойдут…
Солнце спустилось уже довольно низко, когда чуть в стороне от нас, у вокзала и завода сельхозмашин, стали рваться артиллерийские снаряды. Потом на горизонте появились кавалерийские эскадроны. Они быстро приближались к городу, вырастая на глазах. У кого-то невольно вырвалось:
– Удержимся ли?
Наш командир услыхал это и заговорил горячо:
– Да что вы, хлопцы!.. Кавалерия – это пустяки, только смелости больше и метко стреляйте. То скакуны, знаем мы их, они лишь в панику страшны, а в других случаях сами первые паникеры. Вот увидите, и теперь так будет.
И Семен оказался прав. Лихие скакуны после первых красногвардейских залпов повернули обратно.
– Я же вам говорил, что это чепуха! – торжествовал Семен.
Наконец уже после захода солнца показались и цепи немецкой пехоты.
– А вот этих вымуштрованных кайзером истуканов надо подпустить поближе, – наставлял Семен. – Тогда мы их тоже метким и дружным огнем заставим повернуть назад.
И опять командир оказался прав. Попав под огонь, немецкие пехотинцы повернулись к нам спинами и побежали. Даже раненых своих позабыли подобрать.
Ночь прошла спокойно, и под утро опять начались разговоры, что зря, мол, командиры держат нас в напряжении, немцы вряд ли теперь скоро сунутся. Кое-кто был такого мнения, что оккупанты вообще дальше Херсона не пойдут и поэтому нам лучше, пожалуй, отойти за Днепр, чтобы у себя в уезде держать оборону. Эти уездные стратеги предлагали объявить Днепровский уезд независимой крестьянской республикой, а если немцы откажутся признать ее, то вести с ними войну в плавнях и кучугурах. Но в закипевших спорах большинство все же твердо стояло на том, что нельзя подводить херсонских товарищей, да и все равно, отдав немцам Херсон, мы не удержимся долго в своих плавнях и кучугурах. Сторону большинства держал и Семен Сухина. Его высокая фигура в распахнутой шинели и с рыжим чубом у козырька фуражки сновала от одной группы спорящих к другой.
– Надо только стоять, товарищи, по-революционному, и немцам никогда не взять Херсона, – уверял он. – Вы же видели, как эти истуканы поворачиваются к нам тылом, когда мы достойно встречаем их огнем. А там, гляди, придет еще подмога. Наша революционная сила возрастет, и мы вернем Николаев.
Семен вкладывал в свои слова весь жар души, стараясь всех убедить, что победа непременно будет за нами. Казалось, что в пылающих глазах этого солдата появятся слезы, если ему не поверят.
– Вот разобьем всех этих душителей революции, – говорил Семен, – и кто из чалбассцев в Духвино пойдет или на Шмидтовскую усадьбу коммуной жить, кто – на выселки в Тарасовку, на земли Диминитру. А вот Митя Целинко собирается построить себе хорошую хату на шпехтовской земле. Он уже невесту себе высматривает. И, будьте уверены, высмотрит! Картинка хлопец: белокурый, голубоглазый, не шагает, а пляшет! Да за такого, если у него будет хорошая хата на своей земле, любая дивчина пойдет!.. Но и Митя, и все мы пропадем ни за грош, если Херсон не удержим. Лучше уж никому из нас не возвратиться в Чалбассы, чем опять впрягаться в батраки к Шмидту, Шпехту или к этой старой стерве Софке.
Днем были отбиты еще две атаки немецкой пехоты, и наша уверенность в том, что мы отстоим Херсон, возросла. Когда немцы передали воззвание с призывом прекратить сопротивление, красногвардейцы единодушно высказались за то, чтобы оставить это воззвание без ответа. Штаб обороны города так и поступил.
Минули сутки, и немцы снова начали наступление. Сразу пехотой и кавалерией. По нашим отрядам была дана команда: подпустить противника поближе, сбить его огнем и контратаковать. Все, казалось, закончилось полной нашей победой: не приняв контратаки, немцы побежали. Мы отогнали их далеко от города. Вдруг – приказ штаба: отрядам оставить свои позиции и быстро двигаться к Днепру, на пристань, для погрузки на суда и переправы на левый берег.
Мы видели, как враг бежит от нас, но мы не знали, что где-то там, севернее, немецкие полки беспрепятственно маршируют к Днепру, угрожая отрезать от переправы и окружить наши отряды. Упоенные победой, мы не могли поверить, что немцы сильнее нас, что нам действительно необходимо отходить.
Семен Сухина снова гневно кричал:
– Товарищи! Земляки и братья! Да что же это такое!
Он подозревал измену, предательство. Да и не только он один.
4
Переправившись через Днепр, мы вернулись к себе в Чалбассы, находившиеся на полпути от Алешек к Перекопу, куда отходили все красногвардейские отряды нижнего Приднепровья. Выглянули из цветущих уже садов выбеленные саманные, под камышовыми крышами хаты, и вот шагает отряд по широкой песчаной улице, затененной по краям старыми акациями в свежей весенней листве. С одного двора навстречу нам выезжает пароконный возок, нагруженный жердями и разной домашней рухлядью. Мужик, сидящий на возке, увидев нас, отворачивается, начинает с преувеличенной озабоченностью возиться в рухляди – что-то перекладывает, что-то запихивает.
Село наше протянулось в одну сторону на семь, а в другую на пять верст. Не все знают тут друг друга в лицо, но Павло в Чалбассах личность достаточно всем известная.
Исправный середняк, или ревизская душа, как у нас говорили о крестьянах, сохранивших свой земельный надел, Павло впервые заинтересовался политикой летом семнадцатого года, когда начались разговоры о разделе помещичьей земли. После установления Советской власти он целые дни топтался в ревкоме и стал там чем-то вроде главного советника при земельном комиссаре. Когда ревком решил послать на страх барам во все помещичьи усадьбы волости своих уполномоченных, или, как их назвали, комиссаров, первый выбор пал именно на Павло – и хозяин хороший, и активист.
Получив мандат и винтовку, Павло живо помчался на бричке к Диминитру и, по доходившим до нас слухам, комиссарствовал там усердно. Чего ж это он сейчас засуетился на возу? Чего лицо прячет?
– Куда это ты собрался, Павло? – окликаю его я.
– Да вот на луки еду помидоры садить да капусту. Запоздал нынче с огородными делами.
Луками назывался у нас оазис в кучугурах, верст за шесть от села, прикрытый от песчаных наносов рощами. Посыпались новые вопросы:
– На все лето, что ли, собрался – курень будешь ставить? Може, сторожем нанялся?
Павло сердито глянул в нашу сторону:
– А вы чего пытаете?
Кто-то из красногвардейцев зло крикнул ему вдогонку:
– А у Диминитру своего кобеля за себя комиссаром оставил?
Павло опять оглянулся:
– Тебя самого! Ты тот кобель и есть…
Как он крыл матом и нас, и революцию, и немцев! Все у него в голове перемешалось.
– Ну и человек! – негодовал Семен Сухина. – Когда землю делить, он первый тут. Тогда он – комиссар. А как за землю эту надо бороться – капусту кинулся сажать. Думает там, в кучугурах, отсидеться от немцев. Гляди, гляди, как коней погнал, – пыль аж до облаков поднял.
Многие чалбассцы в ту весну поставили свои курени на луках: место глухое, немцы, пожалуй, туда и не заглянут, а в случае чего есть где укрыться от них – вокруг рощи, песчаные холмы, недалеко и днепровские плавни.
Семейные говорили:
– Вам, холостякам, что? Для вас где кров, там и дом, и невеста, а у нас дети – их не бросишь, как щенят в воду. Опять же, не пускает из дому и сердечная жалость к жене. Как мы жен своих оставим на глумление врагу?
Держали людей и посевы.
– Посеяли, а кто убирать будет?
Иные, из тех, что три года просидели в окопах на германской, добавляли со злой откровенностью:
– Мы по большевистской-то программе не за войну, а за мир голосовали. Войной уже по горло сыты. А немцы что? Придут и уйдут – им тут долго делать нечего. У них тоже дома жены и дети.
По этим же причинам склонялись остаться в Чалбассах и некоторые наши семейные красногвардейцы, вернувшиеся из Херсона.
Надо было уже идти на Перекоп, где собирался объединенный Днепровский отряд под командой Ивана Матвеева, моряка из Алешек, но пришлось задержаться. В ревком ввалилась толпа евреев, ремесленная беднота – кузнецы, портные, сапожники, парикмахеры, фотографы. Подняли шум:
– Обождите, товарищи, не уходите. В Копанях Маруська Никифорова со своей ватагой балуется. Грозится, что зайдет по пути и в Чалбассы пустить «красного петуха».
Копани – соседнее с нами село. Ревком послал меня туда выяснить намерения этой Маруськи и в случае надобности предупредить ее, что красногвардейцы в Чалбассах не допустят погрома.
В Копанях на улицах метались обвешенные оружием всадники. По одежде будто моряки с военных кораблей, но до того волосатые, что бескозырки с ленточками выглядели на их головах какими-то игрушечными. И уж очень что-то волчье было в их повадках и взглядах.
Маруську я нашел по черному флагу, развевавшемуся над крыльцом поповского дома.
Говорили, что она женщина красивая и что ее адъютант бывший штабс-капитан Козубченко, тоже красавец и щеголь, не спускает с нее глаз.
Я застал их обоих. Маруська сидела у стола и мяла в зубах папироску. Чертовка и впрямь была красива: лет тридцати, цыганского типа, черноволосая, с пышной грудью, высоко поднимавшей гимнастерку. Адъютант ее лежал на диване в расстегнутом кителе и читал вслух какие-то стихи. Когда я вошел, он кинул книжку на стол и, приподнявшись, налил в стакан из стоявшего на столе пузатого чайника что-то похожее на чай. Но едва ли это был чай: хлебнув из стакана, штабс-капитан закусил соленым помидором.
Я готовился к тонкому разговору, но дипломатия оказалась ни к чему. Никифорова не стала скрывать своих намерений. Узнав, что я из чалбасского ревкома, она сказала:
– А мы как раз нынче вечером собирались завернуть к вам.
– Зачем вам завертывать? Можем и тут договориться, если есть дело, – ответил я.
– Дело небольшое, – Маруська уставилась на меня пьяными хохочущими глазами. – Хочу пустить «красного петуха» по вашим жидкам.
– Пожалуй, у вас из этого ничего не выйдет. Какова численность вашего отряда?
– Двести сабель, – ответила Маруська, не спуская с меня хохочущих глаз.
– А у нас четыреста штыков, – отрезал я, почти вдвое преувеличив силы нашего отряда.
Маруська вскочила.
– Да ты что, сволочь, пугаешь меня?
Казалось, что она сейчас же схватится за маузер, но в этот момент заговорил ее адъютант, до сих пор молча слушавший наш разговор:
– Ну зачем нам, Маруся, ссориться с большевиками из-за каких-то паршивых жидков. Давай лучше споем «Святый отче Иване, шо будемо робить, як водки не стане?»
И кто-то из другой комнаты, наварное хозяин дома, протянул басом:
– Господи, помилуй – два с половиной.
На этом разговор наш по существу и закончился. По всему видно было, что в отряде командует не Маруська, а ее адъютант, решивший, что ему, как бывшему штабс-капитану, лучше пока держаться в тени. С этой целью он, должно быть, и придумал весь этот маскарад со своей разудалой любовницей и матросами на конях.
Через несколько дней, уже на пути к Перекопу, где-то у Чаплынки, мы встретили эту анархистскую ватагу во главе со своей атаманшей и ее адъютантом. Оба были на белых конях, в черных каракулевых кубанках и с папиросами в зубах.
Адъютант и глазом не повел, а Маруська, скользнув пьяным взглядом по нашей посторонившейся с дороги колонне, оглянулась через плечо на своих конных морячков и самодовольно блеснула зубами. И действительно, маскарад был великолепный. Под всадниками, наряженными в матросские бескозырки, форменки и клеши или во все кожаное с ног до головы, скакали подобранные по масти лошади: ряд вороных, ряд гнедых, ряд белых и снова – вороные, гнедые, белые. За всадниками – гармонисты на тачанках, крытых коврами и мехами.
Семен Сухина долго потом ругался и плевался:
– Ну и собачья свадьба! За одной сукой сколько кобелей носится по степи!
Разгул анархистских и левоэсеровских ватаг усиливал брожение в наших отрядах после отступления из Херсона и утраты общего командования. Тяжело переживая это, Семен Сухина скрипел зубами. Ему уже казалось, что все пропало и революция погибла. Но как только мы останавливались, чтобы дать отпор врагу, к Семену опять возвращалась уверенность, что победа будет за нами.
Это был бесстрашный солдат с истрепанными нервами и душой ребенка.
5
В Преображенку, имение Фальц-Фейнов у Перекопа, мы прибыли вслед за анархистами Маруськи Никифоровой. Перед тем они два дня рыскали по каланчакским хуторам – все сундуки там перепотрошили, по всем чердакам пошарили, всех девок перемяли и у которых серьги были золотые – поснимали из ушей.
К нашему прибытию в Преображенку Маруськины «братишки» уже расквартировались в батрацких казармах и отобедали. На столах валялись остатки жареных кур и молодых барашков, заказанных самой Маруськой поварам Фальц-Фейнши.
После обеда одни бандиты завалились спать, другие играли в карты за бутылью самогона или бочонком вина. Однако атаманша со своим адъютантом была начеку – о том свидетельствовали усиленные караулы, особенно у большого амбара, в котором стояли тачанки. Выпряженные лошади кормились тут же – у своих тачанок, и сбруя с них не была снята.
Сильный караул охранял и штаб Никифоровой, расположившийся в одной из комнат роскошного дворца Фальц-Фейнши.
В этом же дворце, в противоположном крыле его, помещался штаб Ивана Матвеева, пытавшегося объединить разрозненные красногвардейские отряды.
Между Матвеевым и Никифоровой шли переговоры. Матвеев требовал от анархистов ответа: будут они подчиняться объединенному командованию Красной гвардии или нет. Никифорова с Козубченко не давали прямого ответа. Видимо желая выиграть время, они виляли: как будто и соглашались подчиниться, но только погодя. Еще, мол, не все отряды собрались; вот когда подойдут остальные и выяснится, у кого сколько людей, тогда и вынесем окончательное решение об общем командовании, а пока давайте лучше решим вопрос о гардеробе Фальц-Фейнши.
Маруськина банда уже пересчитала все платья, кофты и юбки, развешанные по шкафам огромной гардеробной комнаты. Шкафы там стояли длинными рядами, как в хорошем магазине готового платья. Побывали в гардеробной и наши бойцы – бывшие фальц-фейновские батраки, посмотрели на эти утренние, обеденные, вечерние и бальные наряды и поудивлялись от души: зачем одной старухе целый магазин тряпок. Маруська же по этому поводу развела демагогию:
– Имущество помещиков принадлежит не одному какому бы то ни было отряду, а всему народу. Пусть люди берут что хотят.
Иван Матвеев не стал вести с ней «принципиальный» спор о тряпках Фальц-Фейнши. И когда Маруська, рассердившись, хлопнула дверью, в штабе было решено, что терпеть больше нельзя, – надо разоружать ее отряд. Сам Матвеев и почти все люди из его штаба были военными моряками. Их морскую честь больно задевали матросские бескозырки на головах бандитов Маруськи.
– Из-за этой сволочи хоть снимай форму моряка, – с горечью говорили они.
Однако не так-то просто было разоружить ватагу Никифоровой. Пришлось схитрить. Матвеев созвал общий митинг всех красногвардейских отрядов, собравшихся в Преображение, рассчитывая, что придут и анархисты. И они пришли во главе с самой Маруськой. Правда, не все.
В тот день в Преображенку все подходили и подходили из степи новые отряды. К вечеру тут был сплошной бурлящий котел вооруженного народа. Вся усадьба с ее дворцом, парком, разными флигелями и казармами для рабочих, амбарами и другими хозяйственными постройками была забита людьми, лошадьми, повозками. Не всем хватило места под крышами, многие расположились под открытым небом – на телегах, бричках и тачанках.
Митинг начался, когда солнце, спустившись к земле, запылало в степи костром. Все перемешавшиеся, сгрудившиеся отряды придвинулись вплотную к белым колоннам дворца. Трибуной служил сначала балкон, а потом тачанка, стоявшая в густых зарослях туи.











